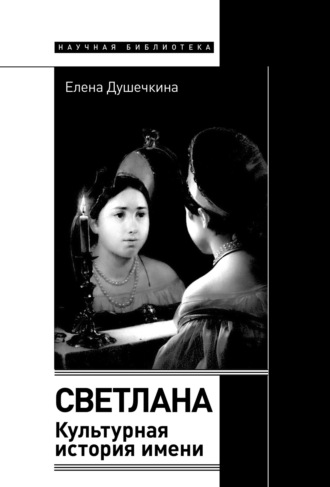
Елена Душечкина
Светлана. Культурная история имени
«Раз в крещенский вечерок…»
Известность «Светланы» росла год от году. В 1822 году Катерино Кавос, композитор и дирижер итальянского происхождения, долгое время работавший в России и чутко уловивший потребность русского общества в национальном музыкальном театре, сочиняет первую (но далеко не последнюю!) оперу на сюжет «Светланы». В 1830‐х годах три песни на слова «Светланы» написал А. Н. Верстовский. В 1840 году баллада была положена на музыку Г. Арнольдом19, а в 1846‐м состоялась премьера новой оперы на ее сюжет – Ф. Толстого. Баллада перелагалась на музыку и целиком, и фрагментами; в песенниках строфы из нее (преимущественно начальные – «Раз в крещенский вечерок…») встречаются с середины XIX века [см., например: 50, 124; 237, 237–238; 234, 294–295]. Особо показательным свидетельством широты круга известности «Светланы» представляется ее вхождение в народную культуру: появление фольклорного варианта текста, лубочных изданий баллады, а также включение фрагментов из нее в народную драму «Царь Максимилиан» [см.: 61].
Баллада Жуковского «Светлана» являет собой пример того, как литературное произведение постепенно превращается в текст, выполняющий не только литературные функции. Она как бы прорывает границы своей художественной природы и начинает самостоятельную жизнь в различных сферах русского быта.
Из двадцати строф «Светланы» самыми известными становятся первая, где дается этнографическое описание святочных гаданий («Раз в крещенский вечерок / Девушки гадали…»), и те, в которых изображается гадание героини («Вот в светлице стол накрыт…»). В хрестоматиях для младших классов гимназий, как правило, были представлены именно эти отрывки; они же исполнялись и в качестве песен [см., например: 276, 447, 448]. Однако и другие строфы, фрагменты, отдельные строки из «Светланы» с удивительным постоянством цитировались в литературных произведениях, воспроизводивших атмосферу святок. Текст баллады, будучи «на памяти у любого человека, неравнодушного к русской поэзии» [209, 161], буквально разбирался на цитаты, которые, как писал Ю. Н. Тынянов о хрестоматийных текстах, сохраняя «старую эмоциональность», вводили предшествующий литературный и культурный опыт и закрепляли его в культурном сознании [338, 254].
Эпиграфичность – особое свойство текста, способность его фрагментов служить ключом, задавать тему или настроение другим произведениям. Это свойство в высшей мере характеризует балладу Жуковского, строки которой бессчетно использовались в качестве эпиграфа. Приведу ряд примеров: эпиграф к пятой главе «Евгения Онегина»: «О, не знай сих страшных снов / Ты, моя Светлана»; эпиграф к повести Пушкина «Метель»: «Кони мчатся по буграм, / Топчут снег глубокий…» и еще десять строк20; эпиграф к седьмой главе первой части романа И. И. Лажечникова «Ледяной дом» (1835): «Раз в крещенский вечерок…» и следующие три строки; эпиграф к газете В. Н. Олина и В. Я. Никонова «Колокольчик» (1831): «Чу!.. в дали пустой гремит / Колокольчик звонкой»; эпиграф (равно как и само название) к рассказу «Крещенский вечерок» некоего Сороки «Раз в крещенский вечерок…» [309, 12–14]; эпиграф к музыкальной пьесе «Декабрь. Святки» из цикла «Времена года» Чайковского; эпиграф к третьему посвящению «Поэмы без героя» Ахматовой «Раз в крещенский вечерок…»21. Реминисценция из «Светланы» включена в стихотворение А. Н. Глебова «Ночной путь»: «Но… чу!.. сквозь сон им колокольчик слышен» (1831) [84, 1]; название «Крещенский вечерок» получают тексты святочного содержания, а также сборники святочных и рождественских рассказов [см., например: 158; 35, 10–11; 103, 6–8].
Как бывает со всяким широко известным произведением, баллада Жуковского вызвала множество пародий и литературных переделок22. В мемуарах А. А. Григорьева упоминается «знаменитая пародия на Жуковского „Светлану“». Б. Ф. Егоров указал, что здесь имеется в виду ходившая в списках по рукам в конце 1830‐х годов «Новая Светлана» М. А. Дмитриева, представляющая собой вовсе не пародию на балладу Жуковского, а сатиру на Н. А. Полевого, написанную в ритме «Светланы» и обыгрывающую ее начало [см.: 97, 392]:
Раз, в начале января,
Собрались поэты,
Объявления смотря
В нумерах газеты.
Всякий думал и гадал —
Трудное гаданье, —
Чей на новый год журнал
Сдержит обещанья?
и т. д. [217, 649].
Вот строки из опубликованного в газете «Московский листок» в 1882 году «Гаданья на святках» Н. С. Стружкина (Н. С. Куколевского):
Раз на святках в барский дом
Съехалось собранье,
Чтоб устроить вечерком
Русское гаданье.
Было много разных лиц:
Франтов залихватских,
И хорошеньких девиц,
И солидных статских [313, 1].
Переделкой «Светланы» является и сатирическое стихотворение В. В. Воинова «Немецкое гадание», опубликованное во втором номере журнала «Новый сатирикон» за 1915 год:
Раз в крещенский вечерок
Варвары гадали:
Истощив обычный «бир»
И загадив стойла,
Налегали на эфир
И иные пойла… [67, 3].
Начало и стихотворный размер «Светланы» использует и Маяковский в тексте «Новогоднего номера» «Окон РОСТА», выпущенном 29 декабря 1919 года:
Раз
в крещенский вечерок
буржуа гадали:
красного в бараний рог
скрутим мы когда ли? [194, 53–54].
В 1928 году в рижской газете «Сегодня» была напечатана переделка «Светланы», написанная поэтом-юмористом Лери (В. В. Клопотовским), в которой высмеиваются не только воспринимающиеся как бессмысленные девичьи гадания, но и сами девушки, «современные Светланы»:
«Раз в Крещенский вечерок
Девушки гадали…» —
Очень глупенький стишок
Из забытой дали. <…>
Нет уже таких девиц
В современном веке,
Как крещенских небылиц
Нет при картибнеке…23
Электричество да газ,
Да совдеп московский —
Сколь отстали вы от нас,
Господин Жуковский!..
<…>
Дансинг – счастье для Светлан
В современном стиле,
Что танцуют под жац-банд,
А гадать забыли [170, 6].
Переделки баллады «Светлана» до сих пор можно встретить в массовой «интернетной» культуре:
Раз в субботний вечерок
Пацаны бухали,
Без закуски коньячок
Внутрь поглощали… – и т. д. [380].
Начальный стих баллады «Раз в крещенский вечерок» надолго превратился в удобный и, главное, беспроигрышный, благодаря своей широкой известности, зачин сатирических и юмористических текстов. Чередование строк четырехстопного и трехстопного хорея, а также перекрестная (мужская с женской) рифма задавали «куплетную» инерцию, облегчавшую написание бесхитростных юмористических стишков на сиюминутную тему, испошляя тем самым и размер, и балладу. Такова обычная судьба литературных шедевров: «Скажи-ка, дядя, ведь недаром…», «Шепот, робкое дыханье…», «Я пришел к тебе с приветом…».
Но для «народного поэта, – как писал Шиллер в статье о Бюргере, – общедоступность не есть способ облегчить поэтический труд или прикрыть посредственность таланта; для него это – новая трудность, и поистине это задача настолько затруднительная, что удачное решение ее может быть названо величайшим торжеством гения» [370, 611]. Сразу после опубликования «Людмилы» приступив к работе над новой переделкой бюргеровской баллады, Жуковский поставил перед собой цель создать «русскую балладу», и, как показало время, он своего добился. Его «удачное решение» действительно оказалось «величайшим торжеством гения», свидетельство тому – самый широкий диапазон известности «Светланы» и ее органичная адаптация в разных видах искусства и в разных культурных кругах российского общества.
«Душа задумчивой Светланы»
В течение долгого времени баллада «Светлана» воспринималась читателем прежде всего как произведение «святочное». С начала XIX века город и дворянская усадьба, постепенно утрачивая народные календарные обряды и ритуалы, начали вырабатывать более или менее устойчивые формы календарных развлечений, в значительной степени отличные от деревенских. Так создавался свой праздничный «сценарий», в том числе – святочный. Одним из обязательных «мероприятий» зимних праздников в образованных семьях стало чтение вслух или декламация наизусть литературных произведений святочного содержания, чему в крестьянской среде соответствовал ритуал рассказывания «страшных» историй. Чем ближе дворянская семья стояла к народу (или декларировала свою «народность»), тем больше оказывалось совпадений в проведении зимних праздников в крестьянских и дворянских домах. Так, например, у Л. Н. Толстого в романе «Война и мир» дети семейства Ростовых на святках не читают, а слушают историю о гадающей девушке:
– Расскажите, как это было с барышней? – сказала вторая Милюкова.
– Да вот так-то, пошла одна барышня, – сказала старая девушка, взяла петуха, два прибора – как следует села. Посидела, только слышит, идет. Входит совсем в образе человеческом, как есть офицер, пришел и сел с ней за прибор.
– А! А!.. – закричала Наташа, с ужасом выкатывая глаза.
– Да, как человек, все, как должно быть, и стал, и стал уговаривать, а ей бы надо занять его разговором до петухов; а она заробела; только заробела и закрылась руками. Он ее и подхватил. Хорошо, что тут девушки прибежали…
– Ну, что пугать их! – сказала Пелагея Даниловна [330, 296].
О том же, вспоминая усадебные святки своего детства, повествует И. И. Панаев:
…рассказывался обыкновенно анекдот, как одна деревенская барышня захотела увидеть в зеркале своего суженого и как все необходимое для гаданья приготовила тихонько от всех в бане: она отправилась туда в полночь одна, стала смотреть в зеркало и вместо суженого увидела себя в гробу, упала без чувств и утром была найдена мертвою. Кто передал о том, что видела барышня в зеркале, если она была найдена мертвою? Этот простой вопрос никому не приходил в голову, но в истине анекдота никто и не думал сомневаться [229, 87–88].
Однако у Панаева не только рассказываются народные «страшные истории», но и декламируются литературные святочные тексты:
Приживалка – веселая барышня – забавляла меня всячески в эти праздничные вечера <…> и декламировала нараспев, ужасно перевирая стихи:
Раз в крещенский вечерок
Девушки гадали,
За ворота башмачок,
Сняв с ножки, бросали…
Или:
Спит аль нет моя Людмила,
Помнит друга аль забыла?.. и пр. [229, 89].
(Курсив И. И. Панаева. – Е. Д.)
Выбор произведений для ритуального «святочного» чтения, как правило, оказывался предрешен: по преимуществу это были баллады Жуковского – «Людмила» и «Светлана». Горожане и поместное дворянство, утратив до некоторой степени святочную народную обрядовость, не только восполняли утрату за счет чтения этих текстов, но и «на практике» подражали их героиням. Характерный пример находим «в романе в стихах» Евдокии Ростопчиной «Дневник девушки» (1850), воспроизводящем ситуацию, когда чтение новогодним вечером баллады «Светлана» побуждает молодежь из дворянской знати устроить святочные гадания:
Затеями Елена оживляла
Весь вечер. Прочитавши громко нам
Жуковского прелестную Светлану,
Она осуществить хотела игры
Народной старины и русских святок:
Возобновить девических гаданий
Забытый, но пленительный обряд.
<…>
Китайская фарфоровая ваза
Явилась на столе, —
И, как в балладе,
«В чашу с чистою водой
Клали перстень золотой,
Серьги изумрудны;
Расстилали белый плат,
И над чашей пели в лад
Песенки подблюдны» [272, 281–282].
Как устные, так и письменные (литературные) тексты, исполнявшиеся на святках, играли одинаковую роль в создании праздничной атмосферы – они усиливали и поддерживали особое, загадочное и одновременно жуткое настроение. В число этих текстов регулярно включались баллады Жуковского, и «Светлана» занимает среди них первое место.
«Светлана» как бы сконцентрировала в себе идею праздника, и потому святки, святочные сцены и особенно девичьи гадания неизбежно напоминали о ней, актуализировали в сознании ее текст. Фельетонист «Северной пчелы», описывая в 1848 году только что прошедшие в Петербурге святочные празднества, рассказывает о народных увеселениях и сравнивает их со сценами из «Светланы»: «Как мило изобразил это В. А. Жуковский в русской балладе „Светлана“» [343, 3]. Е. Л. Марков в автобиографическом цикле «Барчуки» (1875) дает идиллическое изображение усадебных святок 1830‐х годов. В этом мире чтение баллад Жуковского было обязательным, из года в год повторяющимся, праздничным ритуалом: «Тетя читает нам, сквозь свои круглые серебряные очки, любимые баллады Жуковского» [189, 219]. Этот ритуал чтения, подобно ритуалу рассказывания «страшных» историй, добавлял к святочному веселью чувство страха: «Встревоженному воображению достаточно теперь ничтожного намека на что-нибудь страшное, чтобы переполниться страхом. От „Людмилы“ к „Светлане“, от „Светланы“ к „Громобою“ – один рассказ ужаснее другого» [189, 222].
Декламация «Светланы» превращалась иногда в единственное святочное «мероприятие», которым отмечался праздник. В этом отношении показательны воспоминания Д. В. Григоровича о времени его учебы в Инженерном училище (конец 1830‐х годов):
Раз в год, накануне Рождества, в рекреационную залу входил письмоводитель Игумнов в туго застегнутом мундире, с задумчивым, наклоненным лицом. Он становился на самой середине залы, выжидал, пока обступят его воспитанники и, не смотря в глаза присутствующим, начинал глухим монотонным голосом декламировать известное стихотворение Жуковского:
Раз в крещенский вечерок
Девушки гадали… и т. д.
Покончив с декламацией, Игумнов отвешивал поклон и с тем же задумчивым видом выходил из залы [96, 40].
Не столь существенно, в какой мере соответствует действительности приведенный эпизод, – важно, что Григорович чтение на святках «Светланы» преподносит как действо, органичное для этого календарного периода.
К концу XIX века все больше появляется рекомендаций по устройству рождественских праздников для детей, которые всегда включают в себя «Светлану» или же, по крайней мере, отрывки из нее24.
Таким образом, превратившись в общее достояние, баллада Жуковского обрела особое назначение в святочном ритуале. Слушание или чтение ее становилось потребностью святочного времени. «Я стараюсь забыться за „Светланой“ Жуковского…» – замечает А. К. Воронский, изобразивший в мемуарном рассказе «Бурса» (1933) один из святочных вечеров своего детства [70, 157]. «Я, например, могу читать Жуковского ночью в Рождественский сочельник», – говорил Александр Блок [281, 185], а святочной ночью 1901 года именно «Светлана» вдохновила его на написание стихотворения «Ночь на Новый год»:
Лежат холодные туманы,
Горят багровые костры.
Душа морозная Светланы —
В мечтах таинственной игры.
<…>
Лежат холодные туманы,
Бледнея крáдется луна.
Душа задумчивой Светланы
Мечтой чудесной смущена… [38, 155]25.
«При мысли о Светлане»
Адаптация текста «Светланы» литературой, народной культурой и обиходом зимних праздников дореволюционной России действительно во многом была обусловлена ее святочной тематикой. Но не меньшую роль в этом процессе сыграла и увлеченность, которую читатели испытывали к героине баллады: Светлана была воспринята как воплощение самых привлекательных черт русской девушки. Не удивительно поэтому, что вскоре после написания Жуковским его баллады в литературе, в фольклоре и в жизни стали появляться образы-двойники Светланы: многочисленные ее изображения создавались художниками-профессионалами и безымянными авторами «народных картинок».
В сознании читателей баллада отпечатывалась и как словесный текст, и как зримо представимый образ – образ героини, гадающей на зеркале. Именно поэтому картины девичьих гаданий и гадания Светланы оказались не только центральными, но и потеснили собою другие эпизоды. Остальные детали и ходы балладного сюжета (скачка молодых на тройке, церковь, избушка, голубок, возвращение жениха и пр.) как бы выпадали из текста или, по крайней мере, не возникали в сознании сразу же – «при мысли о Светлане». Тема гадания девушки на зеркале или «приглашения суженого на ужин» неизменно напоминала о героине баллады. Вспомнил ее Пушкин, собираясь отправить свою Татьяну на «страшное» гадание в бане, где она уже велела «на два прибора стол накрыть»:
Но стало страшно вдруг Татьяне…
И я – при мысли о Светлане
Мне стало страшно – так и быть…
С Татьяной нам не ворожить [254, V, 103]26.
«Устраивая» гадания для своих героинь, вспоминает ее М. П. Погодин в «святочных» повестях «Суженый» (1828) и «Васильев вечер» (1832). При виде оформления сцены святочных гаданий вспоминает ее и рецензент драмы А. А. Шаховского «Двумужница, или За чем пойдешь, то и найдешь» (1832):
Хор поет еще до поднятия занавеса; когда же он открывается, то мы видим на сцене первую строфу «Светланы», баллады Жуковского:
Раз в крещенский вечерок
Девушки гадали… [142, 806].
Светлана приходит на ум гадающим на святках гимназисткам и институткам, как, например, в романе Н. А. Лухмановой «Девочки»: «…вот Татьяна у Пушкина идет на двор в открытом платье и наводит месяц на зеркало, или вот – Светлана садится перед зеркалом в полночь» [179, 117]. То же и в рассказе Лухмановой «Гаданье», где героине, бывшей институтке, во время гадания на зеркале «вспомнилась баллада Жуковского», после чего приводятся строки из «Светланы»:
В чистом зеркале стекла
В полночь, без обмана,
Ты узнаешь жребий свой… [180, 149–150]27.
Образ гадающей Светланы безошибочно узнается, разыгрываемый в шарадах – одном из любимых развлечений дворянских домов. Так, в первом номере газеты «Листок» за 1831 год автор заметки, описывая только что прошедшие святочные вечеринки, рассказывает о шарадах, которые были на них представлены. В одной изображалась «Светлана перед зеркалом»:
Любезная дочь хозяина <…> в сарафане сидела перед зеркалом; грусть, борьба между надеждою и страхом изображалась на лице ее: она гадала. Глаза, устремленные на стекло, в котором должна была отразиться будущность, наполнились слезами и наконец закрылись [181, 42].
М. И. Пыляев в очерке о праздниках, проводившихся в первой половине XIX века в доме одного из «петербургских крезов», подробно описывает инсценировку «шарады в лицах» со словом «баллада», где этот жанр также был представлен «Светланой» [см.: 257, 177–178]. Слово «баллада» с явной отсылкой к «Светлане» в 1819 году разыгрывалось и в доме Олениных, причем участниками этой инсценировки были сам Жуковский, Пушкин и Крылов [см.: 348, 179].
Постепенно, в ходе усвоения и вхождения в жизнь, текст баллады сгущался в сознании читателей в пластический образ – в образ героини, сидящей перед зеркалом. Наиболее известный пример его живописного воплощения – картина Карла Брюллова «Гадающая Светлана», созданная им в 1836 году28. На картине изображена девушка с русой косой в русском сарафане и кокошнике, сидящая перед зеркалом и смотрящая в него испуганным напряженным взглядом. Картина эта отнюдь не иллюстрация к балладе Жуковского (по крайней мере, не только иллюстрация), а воссоздание уже существовавшего в общественном сознании образа. Подтверждением тому являются многочисленные литографии по мотивам гадания Светланы в святочных номерах периодических иллюстрированных изданий второй половины XIX – начала XX века. Например, литография неизвестного художника в первом номере журнала «Развлечение» за 1865 год [260, 12] или же юмористический рисунок С. Ю. Судейкина во втором номере «Нового сатирикона» за 1915 год [218, 8]. Образ этот был подхвачен и поэтическими текстами. Примером может послужить стихотворение, напечатанное без подписи в новогоднем номере «Всемирной иллюстрации» за 1895 год:
Уж полночь… Зеркало и две свечи пред ним…
Красавица сидит, очей с него не сводит…
<…>
И отражается в нем чудное виденье… [74, 1].
Лидия Чарская в повести «На всю жизнь. Юность Лиды Воронской» (1913) постаралась передать чувства и ощущения гадальщицы глазами своей любимой героини:
…постепенно бесчисленные огни свечей сливаются передо мной в два горящие факела… глазам больно от режущего острого напряженного взгляда, но оторвать его от таинственной глади зеркала я уже не в силах… Таинственная гладь приковывает меня к себе. Теперь я вся – одно олицетворенное напряжение… Вся моя душа, мысли – всё перешло в зрение. Время забыто!.. Окружающая обстановка перестает существовать для меня… Дум уже нет в голове ни одной… Далекий бесконечный коридор между двумя слившимися огненными стенами и всё… И на этом заканчивается моя мысль… [349, 239].
Примерно то же самое, согласно Жуковскому, переживает в балладе его героиня. Вспоминает Светлану и молодой Владимир Набоков (Сирин) в стихотворении 1924 года «Святки»:
Под окнами полозья
Пропели, – и воскрес
На святочном морозе
Серебряный мой лес.
Средь лунного тумана
Я залу отыскал.
Зажги, моя Светлана,
Свечу между зеркал.
<…>
Ну что ж, моя Светлана?
Туманится твой взгляд…
Прелестного обмана
Нам карты не сулят [207, 185–186].
Так Светлана, героиня баллады Жуковского, превратилась в символ гадающей на святках девушки. Именно ее и ее подружек видит Марина Цветаева, записывая в автобиографическом очерке 1934 года «Дом у Старого Пимена»: «…то же самое, что „Раз в крещенский вечерок“, и ведь главное – те же девушки!» [347, 125].
Вспомнил Светлану (правда, не в связи с гаданием) и Николай Заболоцкий в своей иронической поэме 1928 года «Падение Петровой», где «приятная глазу» «красотка нежная Петрова»
то самоварчик открывала
посредством маленького крана,
то колбасу ножом стругала —
белолица, как Светлана [126, 269].
Несмотря на стремительно понижающийся после Октябрьской революции интерес и к Жуковскому, и к святочному ритуалу, этот образ-символ в первые десятилетия советской власти все еще продолжал напоминать о себе, время от времени отсылая читателя к прославленной балладе. С такой отсылкой мы встречаемся в юмористическом рассказе В. Тоболякова «Неувязка», опубликованном в 1939 году в журнале «Крокодил», где гадающую Светлану вдруг вспоминает «комбайнерка Марфа»:
Восемнадцатилетняя Марфа вернулась после новогодней встречи в клубе домой.
– А почему ж не погадать? – сказала сама себе Марфа. – Очень просто – погадаю. Зеркало есть. Поставлю свечу… Если уж я комбайнерка, так и не погадай…
Придвинув электрическую лампу, долго смотрела в зеркало, но ничего, кроме себя, не увидела. Вздохнула:
– Хорошо это было жуковской Светлане гадать. А у нас теперь и свечи нигде не доберешься. Разве это свеча? Полуваттная лампа в сто свечей… Ясно, со ста свечей никакого гаданья получиться не может!.. [327, 6].





