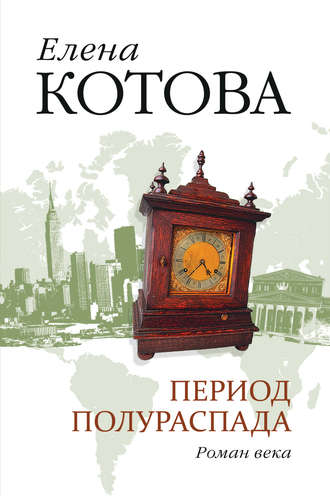
Елена Котова
Период полураспада
«Чем мы были и что мы…»
Новый роман Елены Котовой поражает душевностью, что большая редкость в современной прозе. Особенно когда роман, как и вся непростая история России последних ста лет, которую он охватывает, актуален до боли. При этом он изящен, драматизм действия смягчается неповторимым юмором, без которого было невозможно не только жить в той реальности, но даже осознавать ее.
Один век жизни большой семьи история наполнила интереснейшими, зачастую трагическими событиями, неожиданными зигзагами судеб, видимыми и невидимыми конфликтами, и, конечно, вопросами, на многие из которых мы до сих пор ищем ответы.
Главный из них – как получилось, что семейная история, начавшись в идиллии провинциального Тамбова, через пять поколений продолжится на атлантическом берегу Нового Света? Словно в увеличительном стекле через историю этой обычной российской семьи можно разглядеть, что произошло за этот век со всеми нами. В этом сила и правда романа.
Конечно, в книге нет исчерпывающего ответа на этот вопрос. Да и кто в состоянии его дать? У каждого своя собственная история, именно из них складывается национальная память народа. Поэтому важно, чтобы при всем неизбежном субъективизме личного восприятия такие семейные романы были правдивыми, не комплиментарными, включали реальные факты и события и даже известные всем фамилии, а не просто ограничивались бы мутными намеками и неуклюжими псевдонимами.
Здесь надо отдать должное автору. Елене Котовой удалось в своем романе быть предельно честной и откровенной. Главные события в истории страны и мира прошлись по ее семье, как и по миллионам других, оставив в них свои следы и незаживающие раны, раскидав близких людей, порвав вековые порядки и уклады. Нормальное человеческое сознание оказалось неспособным угнаться за стремительностью исторических перипетий, осознать и безболезненно подстроиться под новые реальности.
…На песчаном пляже Нью-Йорка мальчик нового поколения семьи Кушенских-Котовых задумывается о своих корнях и предках. Рано или поздно каждый задает себе вопрос: кто мы, откуда пришли? И главное: куда и зачем мы идем?
У героев романа свой собственный ответ, у других семей – другие, может быть, противоположные. Но благодаря таким романам, как «Период полураспада»? мы, надеюсь, приблизимся к пониманию этого великого и трагического века, через который прошли.
Притягательность книги и в том, что автор не просто любит своих героев, она вместе с ними живет их жизнью, она – одна из них. В художественной ткани повествования вовсю действуют реальные люди, там нет вымышленных персонажей. Замените на этих страницах фамилии мэра Лужкова, олигархов Гусинского или Ходорковского, других реальных персон на вымышленные имена – и живая картинка тех дней явно поблекнет. Чего уж там! Правдивая история – это всегда конкретные действия конкретных людей.
Надо обладать немалой отвагой, чтобы без ущерба для художественности не отступить от документальной основы. А такой соблазн всегда есть. Ведь додумывать за вымышленных персонажей всегда легче и безопасней. Более того, во второй половине романа автор из рассказчика превращается в действующее лицо. В того, кем она была тогда – одним из участников неоднозначной московской приватизации и непростого процесса создания рыночных основ нашей экономики. Но и здесь автор преодолел соблазн спрятаться за вымышленным персонажем.
Как известно, в науке «периодом полураспада» называется процесс практически вечного деления вещества. Это удачная метафора описываемого Еленой Котовой процесса нервной и беспокойной утраты внутренних связей некогда большой, талантливой и дружной семьи, ее постепенного дрейфа к другим берегам. Да что одной семьи! Всего российского общества… Как когда-то писал в своих «Строфах» Иосиф Бродский:
Распадаются домы,
Обрывается нить.
Чем мы были и что мы
Не смогли сохранить, —
Промолчишь поневоле,
Коль с течением дней
Лишь подробности боли,
А не счастья видней.
Роман Елены Котовой – это попытка не столько сохранить то, что навсегда ушло, сколько стремление не забывать того, что было. Трогательное человеческое желание, которое оказалось реализованным в виде этой очень достойной книги.
Николай Злобин,
писатель, историк, политолог
– Вот это, понимаю, волна! – Юра скинул на бегу тишотку, бросился в серо-песчаный вал воды, катившийся к берегу. Исчез под ним и вынырнул уже после полосы прибоя, где волна уже не могла скрутить его и выбросить назад, на берег.
Эрин стояла у кромки воды, с опаской приглядываясь к волнам. Дождавшись той, что пониже, нырнула под нее и, вынырнув, крепко вцепилась в руку мужа.
Лена и Николай смотрели, как сын и невестка поплыли вдаль между мелкими, уже безобидными, чуть пенящимися барашками.
– Ничто не сравнится с открытым океаном, – вздохнула Лена. – Ни море, ни залив на другой стороне Лонг Айленда. Скажи, кайф?
– Как всегда, почти никто не купается. Не ценят люди своего счастья. И волны великоваты, и вода холодновата… – откликнулся муж.
– Да, никто… Только crazy Russians. Который час, десять?
– Да… Ты снова поднялась ни свет ни заря?
– А то! Уже и йогу сделала, и голышом искупалась, и кофе выпила… Почту прочла, кучу мейлов написала. А вам бы только спать.
Николай покосился на солнце и стал снова переставлять тенты, чтобы надежнее укрыть четыре лежака, уже заваленные полотенцами, книгами, солнечными очками, тишотками и бутылками с водой.
– А впереди еще целый день. Так хорошо, что даже как-то стыдно. Чуня! Ты можешь ради матери переодеть плавки? Не сиди в мокрых трусах, потом будешь носом хлюпать. Вообще мог бы и отцу помочь, он эти тенты уже третий раз закапывает, – Лена, приподняв шляпу, взглянула поверх солнечных очков на сына, которого в семье с рождения звали «Чуней». Тот старательно мазал кремом спину и плечи жены: белокожая, рыжеволосая американка Эрин сгорала на солнце мгновенно, ее требовалось обмазывать кремами по нескольку раз в день.
– Мам, не приставай. Пап, какие планы на ужин?
– Я лобстеров заказал, – Николай сосредоточенно вкручивал в песок последний тент. – Ален, у тебя во сколько массаж? В пять? Значит, мамсик пойдет на свои процедуры, а я в East Hampton за лобстерами.
– Идею лобстеров дома на террасе одобряю, надоели рестораны, – Юра растянулся на топчане. Его жена плюхнулась рядом и тут же углубилась в судоку.
Лена склонила голову над тетрадью с немецкой грамматикой, Николай открыл французский детектив. С полчаса семья лежала в молчании. Волны накатывали на берег, равномерный рокот океана казался тишиной, прерываемой только шелестом воды по песку после особенно мощной волны.
– Мам, не хочешь пройтись? Эрин заснула…
– Она не сгорит? Пойдем, я всегда с удовольствием.
– Хочу дойти по пляжу до самого Монтока и обратно.
– Это часа полтора, не меньше.
– Устанем, повернем назад.
– Пойдем, расскажу тебе, какие я феньки для квартиры придумала… – мать и сын встали и побрели на восток навстречу солнцу. Юра шлепал по воде, Лена шла рядом по мокрому твердому песку, оставляя маленькие следы, тут же исчезающие в бороздках воды.
– …сдержанно, в монохромной серо-песочной гамме, только на балконной двери яркое пятно терракотовой гардины… – рассказывала она.
– …слушай, этих с ожирением, obese, по-моему, становится поменьше, не находишь? – спросил Юра.
– Не знаю… Главное, чтобы балконные двери вровень с полом, и распахивались так вальяжно на балкон с балясинами…
– Ага… Мам, они на носорогов похожи…
– Недобрый ты… Между прочим, это твои соотечественники.
– Я очень добрый, мама! И к соотечественникам своим отношусь тепло и с уважением.
– Ну да… если бы они еще не разговаривали так громко и не жевали все время что-то…
– Тогда это были бы уже не мои соотечественники. А вот скажи, если ты такая умная, откуда и куда все эти американские соотечественники идут?
– А мы откуда и куда идем? Вот и они оттуда же и туда же. А ванная…
– Да погоди ты с ванной. А почему они так похожи на носорогов? Прямо на ходу оносороживаются! – приставал Юра. – Вон тот, в длинных шортах и пузом… Еще пару минут назад был человеком, а ближе подошел, смотрю, носорог. Оносорожился, пока шел. До пляжа дойдет и примкнет к стаду. Ну и ладно, главное, что ему хорошо. И нам неплохо, тра-ля-ля…
Опять носороги… Не дают они сыну покоя.
Пару недель назад, когда Лена только приехала из России в отпуск, они всей семьей ходили на Бродвей смотреть «Носороги» Эжена Ионеску. В тот вечер, после театра они с сыном болтали до глубокой ночи. Невестку пьеса не впечатлила, та подогрела себе молока, с удовольствием, слегка почмокивая, съела кусок морковного пирога и, бросив в пространство «спокойной ночи», удалилась в спальню.
Николай, проштудировавший зарубежную классику в ранней юности и тогда же составивший обо всем прочитанном твердое суждение, ограничился репликой о стадном и индивидуальном в в человеке и удалился в спальню.
– Папсик! Ты такой худенький и маленький, смотри, куда-нибудь под кровать не закатись, – крикнул ему вслед сын. Со свойственным Котовым едким чувством юмора, он не упускал случая поддеть отца, которого на самом деле очень любил. Николай, действительно мелковатый и костлявый, относился к насмешкам сына и жены без обид. Бросив сквозь дверь «Ну и семейка», он зарылся головой в одеяло и тут же заснул.
Юра с матерью остались за барной стойкой на кухне Юркиного дома в Бруклине в одиночестве. Подливая друг другу виски, смаковали смыслы, скрытые в каждой фразе, ниточки, протянутые между ними…
– Юр, а под конец, помнишь? Он сказал: «Может, мне тоже стоило примкнуть к носорогам? Пожалуй, уже поздно… К ним надо примыкать с самого начала…».
– А ты вот к носорогам не примкнула!
– И ты не примкнул…
– Я-то? Они меня, по крайней мере, за своего приняли. В отличие от тебя, кстати. Но в стадо мне неохота. Плохо, наверное?
– Сложный вопрос… Чаю налить?
– Чаю налить… А в стадо не хочу. Хочу сам по себе.
– Самому по себе непросто. Даже грустно.
– Надо просто всегда понимать, что ты – часть чего-то, – Юра вертел в руках кружку, прихлебывая из нее чай. На кружку была переведена черно-белая фотография: Юрин дед в фуражке и полковничьей форме с колодками наград держит на руках шестимесячного внука в чепчике. Это было четверть века назад.
Сейчас они шли по пляжу, навстречу солнцу, каждый молча припоминая тот ночной разговор. Лена смотрела на коренастого смуглокожего молодого мужчину, шлепающего под палящим солнцем, в который раз удивляясь, что у ее мальчика, ее крошки, у Чунечки такие мускулистые волосатые ноги и, более того, слегка намечающийся животик. Сын прервал молчание:
– …все-таки главный смысл там в том, что человеку необходимо быть частью чего-то. Но не стада, понимаешь? Те, кто не задумывается, откуда и куда они идут, начинают оносороживаться. И спонтанно, для себя незаметно, сбиваются в стадо. Не одному же идти неизвестно куда, согласись.
– Мудрено…
– Но, кстати, сермяга тут есть. Вот сколько лет я тебя прошу нарисовать мне наше генеалогическое древо! Фиг с ними, с носорогами. Хочу знать, откуда я. Имею законное право! Бабушка Катя, тетя Маруся, Таткина бабушка, Мишкины родители, кто кем приходился. Помню, вы с бабушкой упоминали какую-то Тамару, это кто?
– Таткина мама, двоюродная сестра твоей бабушки и тети Иры…
– А правда, что дедушка Соломон до революции держал гостиницу?
– До революции, Чунь, он был маленьким мальчиком. Он родился в девятьсот пятом году. Гостиницу держали его родители…
– Мам, мы даже не заметили, как до Монтока дошли! Пошли назад? Давай дальше, это интереснее, чем про ванную. Я же ничего не знаю, а мне еще своему сыну надо будет все объяснять!
– Может, дочери…
– Нет, уверен, у меня будет сын. Фамилия Котовых точно останется. Мы так, считай, с дедушкой договорились. Но мой сын все равно будет американцем, понимаешь?
– Ты, главное, русскому его учи с рождения.
– Это само собой, я о другом… Ему надо знать, откуда он. Он не должен считать, что он только американец. В смысле… не знаю, как это выразить…
– …в смысле процесса. На земле появился и живет человек. Кто он? Почему он такой, почему родился в Нью-Йорке, а, скажем, не в Африке. Или не в России. Хотя мог родиться и в России, если речь о твоем сыне. Но не родился. А почему? Я понимаю, что ты имеешь в виду. Он не сможет в полной мере понять себя и свое место в мире, если будет только американцем. У него должно быть ощущение, что он часть и другой страны, хоть родился вне ее.
– Именно! Чтобы не стать частью стада. Мам, с кем еще я могу так классно потрендеть? Только с тобой! А почему американцам так не свойственно задумываться о корнях, о том, откуда и куда они идут? Потому что это рефлексии русской интеллигенции? Ты как считаешь?
– Я считаю…
Лена присела на песок и стала вглядываться в бесконечность океана. Там, ближе к линии горизонта, он казался совершенно спокойным, почти застывшим, только игра солнечных бликов на воде говорила, что и там, вдалеке, бегут одна за другой волны, невидимые с берега.
– …когда смотришь вдаль, все совсем по-другому.
– Солнце такое яркое… Мам, еще зажмуриться можно, меня так дедушка всегда учил. Когда зажмуришься, такое можно увидеть… – Юрка плюхнулся на песок рядом с матерью и зажмурился.
– Вот именно… – Лена, помолчав немного, вдруг заговорила:
«…Девочки, Лялька и Алочка, обожали спать вместе. Родители нередко уступали им свою полуторную кровать, сами устроившись на раскладном жестком диване. Лежа без сна в постели, девочки шептались, чтобы не разбудить родителей: “Слышишь, Алка, лифт опять поднимается. Второй этаж, третий… Только бы не к нам… Четвертый…”
– Лифт захлопнулся, слышала? Кажется, звонят. Точно, четвертый…
– Нет, пятый. Но все равно не к нам…
– А вдруг они потом к нам?
– Так не бывает, они только в одну квартиру в ночь приходят.
– А вдруг придут?
– Слышишь, дверь опять хлопнула, лифт вниз поехал. Сегодня точно не придут, спи, давай.
Наутро ночные страхи отступали, начинался новый день, Катя приносила из кухни манную кашу, Милка делала девочкам бутерброды в школу, заплетала Алочке косу, вкалывала Ляльке в волосы белый бант, помогала девочкам натянуть на плечи ранцы и провожала до двери.
Девочки радостно скакали вниз по лестнице, прыгали по квадратикам мрамора на лестничных площадках: ноги вместе, врозь, наперекрест… Останавливались, добежав до этажа с дверью, опечатанной сургучной печатью…
– Я же сказала, четвертый этаж, а ты: “пятый, пятый”. Опять не угадала…
– Пока мы в школе будем, из этой квартиры мебель вывезут, они всегда так делают. Ночью людей забирают, а в обед вывозят мебель, да, Ляль?
– Потом квартира постоит пустая, а потом в ней кто-то новый поселится. Бедная нехорошая квартира.
Зеркальный вестибюль выпускал девочек на улицу. Напротив, у “военного дома”, люди в околышах грузили мебель в грузовик, крытый брезентом. Лялька и Алочка вздыхали, жалея обитателей еще одной нехорошей квартиры, и вприпрыжку бежали в школу…»
– Это какой год, мам?
– Тридцать шестой, думаю.
– Н-да-а… Лонг Айленд, солнце, лобстеры на ужин… Рамка для той, московской картинки, чтобы уж шок, так шок…
Оба замолчали, глядя в океан. Волны начинали расти только вблизи, поднимаясь, заворачиваясь огромной дугой, как будто раскрывая пасть. На мгновение можно было увидеть темно-серую гортань очередной поднимавшейся волны, тут же она падала на берег, поднимая разноцветье брызг, и бежала по песку наползающими друг на друга лужицами, потом ручейками, а затем, обессилев, отползала назад в океан, оставляя на мокром песке пузырящуюся белую пену.
– В общем, ясно, почему американцы не думают, откуда они пришли, правда? Пошли, мам, а то точно сгорим.
Они подошли к их пляжу. Эрин проснулась и теперь снова решала судоку. Увидев мужа, поднялась, чтобы отправиться купаться.
– Ну что, наговорились? – Николай взглянул на жену поверх очков.
– Обсуждали вопрос вопросов, откуда мы пришли…
– «Откуда мы пришли, куда свой путь вершим? В чем нашей жизни смысл? Он нам непостижим», – тут же откликнулся муж.
– Папсик, посмотри вокруг! Кто, кроме русских, постоянно думает о смысле жизни?! Вон, целый пляж носорогов! Вы как хотите, а мы полезли в воду.
– «Приход наш и уход загадочны, их цели все мудрецы земли осмыслить не сумели». Омар Хайям, между прочим.
Чуня, которого жена уже тянула к воде, не мог не обернуться, чтобы бросить:
– Папсик, какой ты у нас начитанный!
– Вот я и говорю: «Ну и семейка», – хмыкнул Николай, старательно укладывая в очечник очки для чтения. – Ну что, мы тоже в воду?
– Как говорила бабушка Катя: «Мне все равно куда, мне лишь бы со Слоником». Побежали?..
Николай и Лена с наслаждением бросились в волну, которую уже, казалось, усмирило палящее солнце. Волна попыталась их закрутить, но у нее не хватило сил, она лишь окатила их веером брызг и покатилась, пенясь, дальше на песок. Пена, брызги, песок, – все осталось позади, вместе с криками детей, визжащих на берегу, вместе с бредущими по мелководью американцами, похожими на носорогов. Впереди был только океан и тишина, мерцающая солнечными бликами серо-стальная вода. Они поплыли…
История первая.
Сестры
«Семья не размышляла над испытаниями, выпавшими ей волей судьбы и страны, расколовшими ее мир на “до” и “после”. Это “после” затем снова раскалывалось, и не раз, осколки множились в отражениях зеркал вестибюля, убегавших в прошлое, а жизнь, настоящая и особенно будущая, виделась всем прекрасной бесконечностью».
Часть 1.
Дворянское гнездо
Дом на Тезиковой
Степан Ефимович проснулся, глянул на часы, лежавшие на тумбочке: девять утра. Снизу доносились скрипы половиц, шорох дверей, звуки шагов. Первый этаж жил женской утренней жизнью, а в его спальне еще была ночь, серость затянувшегося мглистого рассвета едва пробивалась сквозь щелки гардин. Слегка побаливала голова. Ночью, вернувшись с новогоднего бала в дворянском собрании, они с Катенькой еще долго заворачивали в хрустящую бумагу подарки. Рождество, конечно, Рождеством, но не побаловать детей в первый день Нового года? А главное – самих себя. Это же радость – смотреть, как посыпятся дети с лестницы вниз к елке, как в нетерпении станут рвать дорогой пергамент упаковки, как будут гореть их глаза… Тане, конечно, ноты: Степан Ефимович выписал из Санкт-Петербурга чудно изданный «Детский альбом» Чайковского. Оле – куклу, мальчикам – Косте и Николеньке – солдатиков. Малышке Марусе, которой скоро будет два годика, Лиза, горничная, ходившая за детьми, сшила первое платье в пол.
Кончился год, кончился век. За шторами висело утро первого дня тысяча девятьсот первого года. Осенью Степану Ефимовичу исполнилось сорок один. Лежа в постели, он вспоминал, как в детстве представлял себе, что переживет девятнадцатый век. То, что он будет жить в следующем, двадцатом, казалось ему невероятным. Он застанет совсем новый мир, жаль только, что войдет он в него почти стариком, ему будет сорок. Так казалось ему в детстве. Сейчас его все радовало: дети, вечера в дворянском собрании, друзья, лучшим из которых был, конечно, Соломон Стариков, музыкант-педагог от бога, заразивший любовью к музыке все тамбовское дворянство.
Однако пора вставать. С минуты на минуту проснутся дети, бросятся из детских – мальчиковой и девичьей – вниз по лестнице, к елке, к подаркам. Степан Ефимович услышал Марусин плач внизу и торопливые шаги Катеньки вверх по лестнице.
– Катенька, кофе готов?
– Да, Степа, вставай, сейчас Марусю покормлю и будем кофе пить. Лиза пышек напекла.
Жили Кушенские на самой видной улице Тамбова – Тезиковой, недалеко от Тезикова моста. Имелся у них и второй дом на Дубовой, попроще, сдававшийся внаем, и земельное имение в двадцати верстах от города. Имение дохода, правда, не приносило, с согласия семьи там безвылазно жили сестры Степана Ефимовича, ему двоюродные, а между собой родные. Бездетные сестры Елизавета, Дарья и Мария носили, как и мать Степана Ефимовича, фамилию Оголиных. Степан Ефимович нередко вздыхал, что на бездетных сестрах роду Оголиных, произведенных в дворяне еще при Екатерине Великой, и суждено было окончиться. Истории рода он, правда, толком не знал. Как и сестры, помнил лишь дядю, гренадера Василия Оголина, героя войны 1812 года, чье имя в ряду других славных фамилий было высечено на фронтоне московского храма Христа Спасителя.
Сестры Оголины вели хозяйство, вставая и ложась с петухами, наезжали в город редко и весь год жили ожиданием приезда племянников и племянниц Кушенских, которых привозили на лето, как только заканчивались классы в гимназии. Как делился доход от имения между Оголиными и семьей Кушенских, никто толком не знал, но никто и не бедствовал, а Степан Ефимович так и проходил по губернской ведомости – «землевладелец», ибо хоть и получил диплом юриста, ни места в присутствии, ни собственной практики не имел. Был он грузен, лениво-неспешен и вдумчив. Думы придавали его лицу сердитое и весьма значительное выражение, но едва ли сыскался бы человек добрее, безалабернее и еще менее практичный. Любил он поговорить о политике после обеда в присутствии, любил повозиться с детьми дома, но даже и от детей уставал быстро и снова укладывался с книжкой на диван: читать и думать.
По отцу происходил он из обедневшего шляхтского рода, родители отца, еще в середине девятнадцатого века покинувшие Польшу, осели в Тамбове, где его отец и встретил младшую сестру Оголину. Жена Степана Ефимовича Катенька тоже была польских кровей, но, согласно семейному преданию, бабка ее была цыганка и выкрал ее из табора дерзкий шляхтич. Дети от этого брака соседствовали с отцом Степана Ефимовича, кажется, еще в Польше, но потом тоже подались в Россию. Как бы то ни было, брак Катеньки и Степана Ефимовича воистину свершился на небесах, и смешение стольких кровей наполняло уклад их тамбовского дома невыразимой эмоциональностью, душевностью, любовью к праздникам. Отсюда и пристрастие Степана Ефимовича к возвышенной и отнюдь не всегда практичной общественной деятельности и к музыке, его беспечное отношение к деньгам: есть – хорошо, а нет – и не страшно.
Несмотря на неспешность и даже леность в делах житейских, умственную и духовную жизнь Степан Ефимович вел весьма интенсивную. На два или три года его даже избрали предводителем губернского дворянства. Бесконфликтность, снисходительность к людским порокам, отсутствие амбиций и скрытых умыслов привели его на этот пост, и они же, вкупе с его непрактичностью, нелюбовью к нерешаемым проблемам, которые, скорее всего, и решать-то ни к чему, не позволили ему вести дела твердой рукой. От отставки Степан Ефимович не опечалился – «раз так, то, значит, так тому и быть», – и в самом благодушном расположении к роду людскому продолжал свое деятельное участие в жизни города.
Почти десять лет он собирал средства по окладным с имущества потомственных губернских дворян на новое здание Дворянского собрания. Года три назад строительство закончилось, и Степан Ефимович искренне гордился результатом. Вот и вчера, на новогоднем балу, когда они с Катенькой поднимались по лестнице с литыми чугунными стойками перил, сердце его радовалось. Вопреки Михаилу Трофимовичу Попову – самому авторитетному городскому деятелю, убеждавшему архитектора Федора Свирчевского, что в здании должны доминировать древнерусские мотивы, – Тамбов, дескать, лежит в сердце Руси на границе с мордвой, – победили вкусы просвещенной части тамбовского дворянства. Здание радовало строгостью стиля североевропейского ренессанса, изяществом фронтонов, оттенявших обилие лепного декора.
Настоял Кушенский и на том, чтобы в женской семилетней гимназии ввели восьмой класс, окончание которого давало барышням право стать учительницами. Затеял для этого строительство нового флигеля при гимназии, который теперь – уже без его участия – достраивался вторым этажом. Степан Ефимович мечтал, что барышни после восьмого класса разъедутся учительницами по селам, но те все больше уезжали в другие города, или немедля после гимназии выходили замуж, и если уж уезжали в деревню, то в собственные имения.
Занимался он и училищем для мальчиков, помогая Попову, для которого это стало делом жизни. Уже который год тамбовское дворянство подавало прошения в Петербург на имя государя о выделении городу средств на мужскую гимназию, потому что существующая была переполнена. Кушенский с Поповым убеждали членов собрания не ждать ассигнований из столицы, а начинать строить гимназию на общественных началах. Хотя монархические взгляды Михаила Трофимовича претили Степану Ефимовичу, по вопросу гимназии он поддерживал его полностью. Большинство же губернского дворянства недолюбливало Попова. Поговаривали, что тот близок к пугающему либеральные тамбовские умы «Русскому собранию», уже именуемому, по слухам, в Петербурге «черносотенцами», и что по одной этой причине денег на гимназию не дадут. Степан Ефимович горячился, доказывая, что тем паче надо самим раскошелиться.
Спускаясь по лестнице, он размышлял, хватит ли у Попова настойчивости и чем он может ему в этом помочь при скудости собственных финансов, – все-таки пятеро детей. Но мысли все сворачивали в сторону: скорее бы кончилась зима! Взойдет вдоль немощеных тамбовских улиц травка, зазеленеют дубы, снова празднично, как это бывает лишь летом, зашумят базары – зимой и базарный день не в радость. Они поедут в деревню, к сестрам Оголиным.
Зима кончилась, а весной Катенька сообщила, что беременна, чему Степан Ефимович обрадовался не меньше, чем в первый раз. Пролетело лето, прошла осень, и в рождественский пост, седьмого декабря 1901 года, родилась еще одна дочь. На этот раз Степан Ефимович, обожавший жену, настоял, чтобы доченьку назвали именем матери. Горничная Лиза убеждала, что это не к добру, но Степан Ефимович мечтал о дочке Кате еще с рождения старшей, Татьяны, а затем и второй, Ольги, пушкинские имена которых были выбраны матерью. Лишь третья дочь Мария получила свое имя каким-то случайным образом, в семье ее звали Маруся, и, странным образом, трепета к ней, столь же сильного, как к Татьяне или новорожденной Катеньке, отец не испытывал.
Татьяна и Ольга ходили в гимназию, Костю определили в мужскую казенную гимназию, в класс к Попову. Взглядов тот был, как сказано, крайне консервативных, воспитывал мальчиков в строгости и в истовой вере, но Степан Ефимович, весьма либерально относившийся к Закону Божьему, видел, что дети воспитываются в любви. Да и музыку в гимназии не забывают, и точные науки в ней в почете, что было наиглавшейшим: сыновьям придется дело свое заводить, чтобы кормить семьи. Не то время и не те доходы, чтобы, как отец, заниматься делами общественными и предаваться размышлениям на диване.
Когда спустя еще год Катенька-старшая вновь объявила о беременности, Степан Ефимович не то чтобы не обрадовался, а скорее огорчился: не чувствовал он в своем сердце способность любить столь же истово, как и остальных детей, еще одного ребенка, не умещалось так много любви даже в его сердце. А жена его Катенька по беременности стала сильно прихварывать. Степан Ефимович тревожился, приглашал к жене врачей, а в общем, больше уповал на то, что все как-то обойдется. Однако, родив весной 1903 года еще одну дочку, которую окрестили Людмилой, а звать с первого дня стали Милочкой, Катенька совершенно разболелась. Врачи поставили диагноз «грудная жаба». Жена была не в силах ходить за Марусей, полуторагодовалой Катенькой-младшей и новорожденной Милочкой. Лизонька, горничная, сбивалась с ног, не чая души в малютках и молясь по ночам за здоровье их матери, но и это не помогло, и на рассвете октябрьского дня девятьсот третьего года Катенька скончалась…
В доме на Тезиковой появилась незамужняя сестра Степана Ефимовича, которую дети звали по имени-отчеству, Лидия Ефимовна. Окончив курсы в Пензе, она жила одиноко в селе Сурки под Кирсановом, в доме, оставшемся ей и брату от отца, мелкого помещика. Дом этот Степан Ефимович давно уже в мыслях записал за Лидой, как записал он и имение за двоюродными сестрами. Лида то и дело наведывалась в Тамбов, но что составляло ее занятия, никто толком не понимал. Осенью 1901 года в ее доме при обыске изъяли два номера газеты «Искра» – за февраль и июль того же года, – с коей поры Лидия Ефимовна состояла под негласным надзором полиции. Приезжая в Тамбов, она редко наведывалась в гости к брату, а к теткам Оголиным, – хотя ее Сурки были по соседству с их имением, – и вовсе не наезжала. Степан Ефимович удивился было намерению сестры переехать к нему, но решил, что, значит, так и дóлжно, раз сестра, никогда не выказывавшая чувств к покойной Катеньке, посчитала своим долгом ходить за детьми свояченицы.
Как подступиться к Милуше, которой не было еще и года, Лида понятия не имела. Двухлетняя Катя и пятилетняя Маруся кроме отца признавали одну лишь обожаемую Лизоньку, которая и мыла их, и одевала, и кормила, и читала книжки перед сном. Старшие девочки, Таня и Оля, почти подростки, держались особняком от малышек сестер, по вечерам вместе музицировали – Таня на пианино, Оля – на скрипке, или вместе же читали в большой зале в уголке, попутно делясь девичьими секретами. Лизу они любили не столь нежно, как Маруся с Катей, но только к ней обращались с каждой детской надобностью: порванным чулком, просьбой о новой сорочке. Лиза, нянчившая Милочку, присматривавшая за остальными, готовившая на всю семью, сбивалась с ног. А нужно было еще и старшим с уроками помогать, разбирать с ними ноты – Лиза, ученица уже упомянутого Старикова, прекрасно играла на фортепьяно. А кроме девочек еще и мальчики! Костя ходил в третий класс гимназии, Коля завидовал форменной фуражке, ремню и ранцу брата и мечтал, чтобы побыстрей пролетел год, остававшийся ему до начала учебы. Жили мальчики теперь в бывшей спальне матери, и к Лизоньке тянулись не меньше сестер. Любили, когда та делала пирожки, слоеные, воздушные, ругались, если та наливала кому-то из них больше киселя: кисель в семье варился всегда только из вишни или клюквы и подавался на полдник непременно с оладьями.
Лиза – барышня из хорошей обедневшей семьи, серьезная не по годам – окончила не только тамбовскую всесословную гимназию, но и женские курсы, как и Лидия Ефимовна, в Пензе. Вернувшись в Тамбов, учительствовать не пошла, а посвятила себя обучению девочек семьи Кушенских и помощи их матери. Горячо любила она покойную Катеньку, искренне по вечерам оплакивала ее в своей спальне и все более утверждалась в мысли о том, что ее единственно верное предназначение в жизни – поднять и воспитать сирот Кушенских.



