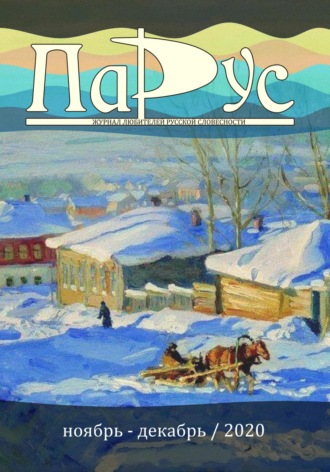
Алексей Котов
Журнал «Парус» №85, 2020 г.
– Е-есть! – просипел он с азартом. – Теперь дыши! Глубоко, говорю, дыши! Так. А теперь набрал воздуха и затих!
Сашка послушно наполнил до отказа легкие и почувствовал, как ледяные пальцы, словно зажимы, перекрыли что-то в его шее.
Сознание невесомо отдалилось куда-то ввысь, а он, отнятый у сознания, стал погружаться, погружаться – и канул в ничто. Он не слышал, как воздух сам собой ушел из его наполненной груди. Он ничего не ощущал, его не существовало.
Но вот он возник. Крохотной точкой, пузырьком из газировки он весело стремился к поверхности. Еще не вынырнув, разглядел Чапу и радостно рассмеялся неведомо чему.
Всё уже видя и всё осознавая, он оставался не в себе – беспричинно хохотал и не мог остановиться. Не веселье, которое он бы узнал, а сама по себе способность к веселью, часть его существа, одна, приглушив всё остальное, бесконтрольно резвилась в нем.
Овладев, наконец, собой, он улыбался, но уже не беспричинно, а в ответ на праздничное настроение, прочно обосновавшееся в нем.
– Вот так и всегда, – сказал Чапа. – Одни ржут, как идиоты, а другие нюнят. И если кто ноет, то только ныть и будет. А кто регочет, сколько его ни усыпляй, будет реготать.
– А давай еще! – попросил Сашка.
– Ишь, разошелся! А я? Мне, может, тоже кайфануть охота!
Они поменялись местами, и Чапа обучал, как подушечкой большого пальца «надыбать» пульс, а потом попустить, чтобы не сбивал, не мешал другой руке расслышать вторую артерию.
– А дышать зачем? – интересовался Сашка.
– Лучше засыпается. И сигнал: как дух испустил – готов. И ты смотри: как я выдохну – сразу отпускай! Тут шутки в сторону! Чуток передержал – ку-ку, Маруся! Пойдешь рецидивистом по второй мокрухе!
Чапа нехорошо выдохнул. Вот именно по слову – испустил дух. И с заострившимся носом и отпавшей челюстью лежал несколько показавшихся Сашке долгими мгновений. Потом, всхрапнув, потянул в себя воздух, стал оживать. И не открыв еще глаз, скуксился, плаксиво перекосив лицо.
Он не плакал – ревел, жалобно глядя на Сашку и громко всхлипывая.
– Ну! Ну ты чего? – пробовал утешить Сашка, хотя и понимал, что этот плач, – в точности, как и испытанный им самим смех, – откуда-то из глубин природы каждого из них, и спрашивать о причинах неуместно.
Наплакавшись, Жека сделался угрюмым, глядел исподлобья.
– Меня? – вопросом попросил Сашка.
– А не сс.шь, что я возьму и не отпущу вовремя?
– И намотаешь себе второй срок?
– Э-э, я не такой придурок, как ты, я хрен сознаюсь! Следов – ноль, а с каких таких дел тебе вздумалось ласты склеить – не моя печаль!
Оробев при мысли, что и вправду безрассудно так доверяться в чужие руки, Сашка сказал:
– Трепло! Чтобы хорошего не подгадить – это будешь не ты!
Аркадий Яковлевич виновато пожимался, но смотрел прямо. А говорил как-то не очень убедительно:
– Не станем мы этому так уж следовать, на половине срока повторно пойдешь, что они, не люди совсем?
Сашка, как полагается воспитаннику, стоял на резиновом коврике метрах в трех от его стола.
– Аркадий Яковлевич, – сказал он, – я утром проснулся с вопросом в голове, и никак от него не избавлюсь. Если срок у людей не самый большой, хотя и приличный, они имеют право через шесть месяцев быть повторно представлены к условно-досрочному. А у кого подбирается к десятке – тем только по половине и двум третям. Почему так?
– Сам не знаю! – воскликнул Аркаша так, словно Сашка подслушал и его мысли. – Судьи чаще всего за тяжкие преступления не отпускают по одной третьей. Мол, недостаточно наказан. Но о повторном представлении для несовершеннолетних записано четко – через шесть месяцев. И никаких поправок на величину срока.
– Выходит, они это сами придумали, будто лично для меня – по двум третям и не раньше?
– Не знаю. В кодексе так, как я сказал, а практику имеем такую, какую имеем.
– А есть куда обратиться, чтобы разъяснили?
Аркадий Яковлевич пожевал изувеченными губами и, глядя сквозь столешницу своего стола, ответил:
– Есть-то оно есть… Но тут такая закавыка… Обратиться может только тот, чьи права предположительно нарушены. То есть ты можешь обратиться, а я – уже нет.
– Ну я, так и я.
– Ты! Сто раз подумаешь, если – ты! Спрос хоть, говорят, и не бьет в нос, но иногда… ТАМ, видишь ли, не очень-то любят, чтобы их загружали работой. Особенно – осужденные. И чем может обернуться твой спрос…
– А чем он может обернуться?
– Да мало ли. Самое простое – тебе давно исполнилось восемнадцать. И почему это ты задаешь им вопросы из колонии для несовершеннолетних, а не из взрослой зоны? Мы – да, мы как бы выговорили себе разрешение оставлять отдельных ребят – активистов и всё такое. Но это опять-таки практика, не закон. Давай так: ты подумай. Ночь с этим переспи, а то и дождись отца, посоветуйся. Надумаете – куда и как писать – всё подскажу. Тем более что если вдруг повернется удачно, не одному себе путь откроешь, всем.
– Не суй голову туда, где не уверен, что жо.. пролезет! – изрек Чапа.
– А представь, что скажут – можно. Это же и тебе станет можно.
– Мне?.. – с удивлением оживился Чапа. – А действительно! Нет, если мне, тогда пиши! Чего разлегся? Вставай, пиши, придурок!
Ночью, незряче уставившись в потолок, Сашка пытался последовать совету Аркадия Яковлевича и обнаружил, что для ОБДУМЫВАНИЯ у него нет исходных данных, что ему остается только УГАДАТЬ. И дожидаться отца – какой смысл? Гадать вдвоем? И мучиться, видя, как мучается, терзаясь виной перед Сашкой, он?
С этим он уснул, а проснулся с ясным пониманием, что не сможет жить, не написав.
С тех пор, как ушли отправленные от его имени Аркадием Яковлевичем бумаги, Сашку беспокоили разные переживания. То он ожидал, вздрагивая при каждом посещении теплицы посторонними, что вот потребуют с вещами – этапировать на взросляк. Потом робко мечталось об ответе благоприятном, и что скоро он опять пойдет на суд, который, конечно, вовсе не обязательно его отпустит, но все равно через каких-нибудь полгодика он снова сможет пойти, и уж тогда… Со временем мечталось всё смелее и всё безрассуднее. Его похвалят за прямоту и доверие к власти – ведь никто не отважился, а вот он… И вместе с похвалой пришлют постановление, отпускающее его на волю.
А после, как притупилась острота опасений, так обесцветились и фантазии о счастье. И всё чаще Сашке стало думаться, что ему попросту не ответят. Да и кто он такой, чтобы так уж непременно ему отвечать?..
И он почти успокоился, стараясь, как в начальные свои дни в колонии, занимать мысли, планируя, что сделает завтра.
Длинными вечерами он обучал Чапу игре на баяне. Как только у того проклюнулись первые успехи, Чапа загорелся, и сам то и дело вынимал инструмент из футляра. Сам Женька не раз порывался открыть напарнику шулерские ухватки с картами, почерпнутые у покойного отца. Сашка отказывался категорически, убеждая, что не имеет права быть застигнутым на нарушении режима, и однажды сжег колоду, за что был проклят приятелем, который клятвенно пообещал подсыпать ему за это отравы.
Впрочем, невдолге Женька смирился, заменив карты шахматами и шашками и требуя ставить на кон сахар. Неизменно выигрывая, менял сахар на курево, и в этой запретной радости находил утешение, позволяющее немного усмирить его гораздую на всевозможные пакости, непоседливую натуру.
Когда посыльный прибежал сообщить, что вызывает Аркадий Яковлевич, Сашка с загрубевшим от времени, словно бы нарастившим мозоли чувством подумал, что вот она и развязка. Готовый принять самое плохое, он с обреченным спокойствием неторопливо подбавил в рукомойник воды, умылся.
Дорогой ему представлялось покаянное лицо Аркаши, и он готовился говорить примиренное – о том, что сам принимал решение, самому, стало быть, и отдуваться.
Постучал невнятно и, заглянув, застал Аркашу в нетерпении шагающим туда-сюда по кабинету. Заметив Сашку, тот замер и от избытка чувств отчаянно всплеснулся. Потом, сверкая черными, счастливыми, очаровательно хитрющими глазами, протянул, как равному, Сашке руку. Сашка не сразу сообразил, как ответить, и уже соединившись в пожатии с искалеченной рукой Аркадия Яковлевича, всё еще робел – то ли делает?
– От всех ребят, которым ты открыл дорогу! – крепко стискивая, тряс его руку Аркаша. – От всех, сколько их есть и сколько еще будет! А тебе через двенадцать дней на суд! И вот теперь пусть они попробуют! Пусть только попробуют!..
Слова «…условно-досрочно освободить…», прочитанные скороговоркой, как это всегда делают судьи, прозвучали для Сашки, словно о ком-то постороннем.
Из желтоватого домика за зоной он вышел вольняшкой. Только бойкая на язык пацанва могла придумать такое точное название. Неделю – до поступления из суда официальной бумаги – ему оставаться ни в сих ни в тых. Еще не вольным, но вроде как и отбывшим свое.
Как, бывало, завидовал он вольняшкам, которых бесконвойно выводили за зону, поручая пустяшные хозработы, или оставляли, свободных от школы и производства, слоняться по зоне жилой! Ничто уже не в силах отнять их счастья, – думал он. И можно эти деньки заполнить для себя предвкушением радости. Хорошенечко проголодаться перед пиршеством, нагулять аппетит.
Так он думал, завидуя другим. Когда же сам оказался вольняшкой… Он не хотел есть и подолгу не засыпал ночами. И то и дело обнаруживал себя в каком-то из уголков двора, откуда была видна калитка в воротах, которую он гипнотизировал, заклиная: «Принесите, принесите!..» И замечал, что ему хочется стонать, а лучше бы – выть.
Напрасно, ох, как напрасно завидовал он вольняшкам! Ему, почти уже свободному, предстояло осилить самый тягучий и самый мучительный кусок времени из всего срока, отданного колонии.
И вот пришло это определение, занимавшее полоску, размером в пятую часть бумажного листа. И ему выдали другой бумажный лоскуток – обходной лист, с которым он побежал за подписями на склад, в ларек, в библиотеку…
Получив все нужные карлючки в соответствующих графках, он в смятении и с путаницей в мыслях оказался у той же калитки, которую заклинал в эти невыносимо тоскливые дни. И уже занес было руку к обрезиненной черной кнопке, когда сзади его настиг свист.
Изогнувшийся скобкой, заплетаясь ногами, к нему с упакованным в футляр четырехголосным пятирядным баяном в правой руке бежал худышка Чапа.
– Прости, – сказал Сашка, – не хотел травить тебе душу.
– Дур-рак! Сказано – придурок!
– А баян – это тебе. Аркаша разрешил наведываться, присматривать, как у тебя получится. Приеду – приволоку самоучитель, теперь уж освоишь.
Они помолчали, глядя один другому в глаза.
– Ну, живи! – сказал Сашка.
– Ты тоже – живи! – дрогнув голосом, ответил Чапа и поднял свободную от баяна худющую свою клешню, чтобы обняться.
Ночью Женьке стало жутковато одному в отнесенной на задворки теплице. Поворочавшись с боку на бок и видя, что сна ни в одном глазу, он встал, чтобы распаковать инструмент.
Поглядывая сбоку – видеть сверху у него не хватало роста – нашел нужные кнопки и с первым звуком чисто, как никогда не удавалось Сашке, запел:
Эх, ты, ноченька, ночка темная!..
Пел, зная, что это любимая Сашкина песня, но не догадываясь, что уже почти четыре года назад здесь же, на этом топчане, затягивал то же самое Сашка, и у него точно так же текли такие же горькие и такие же благодатные слезы.
Алина УЛЬЯНОВА. Мой маэстро
Рассказ
Старость. Она печальна и неизбежна. Приходит как незваная гостья, бесцеремонно врывается и поселяется на полных правах до конца дней. Нарушив покой, ведет себя грубо, по-хозяйски. Не соблюдая приличий, диктует новые правила. И ни прогнать, ни урезонить нахалку. Остается только бессильно наблюдать за ее бесчинством.
Всё начиналось так давно… Как романтичное болеро, уносящее в любовный водоворот.
Когда ты, с горящими страстными глазами, вошел в зал, то словно повелитель света подчинил своей власти его потоки. Будто тысячи новых лампочек зажглись на потолке, рассыпав повсюду мерцающие блики, как алмазы.
Ты сразу приковал к себе внимание, всколыхнув во мне тревожно-трепетную волну.
Меня окружали десятки соперниц: загадочные брюнетки, милые блондинки, томные шатенки, рыженькие озорницы, огненные фурии.
Они тоже ждали, как и я. Днями, месяцами, порой даже годами. Они тускнели, теряли свежесть, но не теряли главного – надежды. Пока они были здесь, среди толпы, их надежда не угасала.
Со статью короля ты прохаживался по комнате, с одними флиртуя, другим вежливо улыбаясь.
Вот. Ты остановился и протянул руку той, что показалась тебе достойнее прочих. Ты с желанием привлек ее к себе. Она в шутку возмутилась столь беспардонной манерой.
Ты разговорил легкомысленную кокетку. Она громко смеялась. И вдруг резко расхохоталась на весь зал.
Улыбка исчезла с твоего лица. Ты принял задумчивый вид. Веселушка утихла. Ты галантно проводил ее обратно, на прежнее место, утратив интерес.
Блестящую возможность она упустила. Здесь это часто случалось. Ей не везло не единожды. Как, впрочем, и многим. Редкому созданию удавалось покорить тут кого-либо с первого взгляда, с первого касания пальцев, с первой ноты певучего голоса.
Ты двигался дальше. Продолжая искать, пригласил пообщаться молодую красавицу. Среди нас она появилась недавно, и сегодня ей выпал шанс показать себя. Грациозная, приятная, сдержанная, с теплым тембром, спокойным и ровным. Она могла бы стать для кого-то верной спутницей. Но тебе не хватало искры. Ты жаждал большего и отказался от нее.
Как и от третьей незнакомки. Совсем иной. Эксцентричной, своенравной, порывистой. Она привлекала формой, необычным обликом, лоском, но командовала без конца. Тебе с ней было сложно справиться.
Ты хмурился, начинал раздражаться и, кажется, даже злиться, и выдергивал из рядов уже кого попало, без разбору. Но беседы не клеились и приносили лишь разочарование.
Одна так стремилась понравиться, что срывалась на крик там, где следовало бы помолчать. Другая тихо шептала что-то, стеснительно и невнятно.
Совсем потерянный, ты был близок к тому, чтобы удалиться не прощаясь. Твой взгляд отчаянно метался. И остановился на мне.
Ты колебался. Сомневался. Ожесточенно спорил сам с собой. Не соглашаясь с поражением, твой гордый дух победителя призывал тебя не отступать. Ведь ты привык завоевывать. Привык к любви, к обожанию. Привык купаться в восторгах широкой публики.
Я же, напротив, была скромна и в то же время умела удивлять. Нетерпеливо ты подхватил меня и сжал в нежных объятиях, с полным чувством всей накопившейся досады, с упрямой верой в удачу.
Мой маэстро! Такая глубокая натура. В ее сложных аккордах переливались и сменяли друг друга неповторимые обертона. Я улавливала их безошибочно и точно, и звучала с тобой в унисон. Мы сочетались превосходно. Абсолютная гармония двоих. Совершенный консонанс!
На зависть всем ты забирал меня с собой. И с той поры мы были вместе. Неразлучны. Кружились в вихре событий, в ритме безудержной булерии.
С тобой я раскрывалась со всех сторон, по-особенному хорошела, приобретая неповторимый шарм, а ты влюблялся в меня сильнее и сильнее. Мы представляли собой идеальный дуэт. С восторгом и радостью нас встречали везде: на площадях городов, в больших и малых залах, на огромных аренах и в уютных кафе. Отдаваясь тебе без остатка, подчиняясь тебе безусловно, я стала частью подлинной магии.
Но мажорное аллегро прервалось.
Старость. Она печальна и неизбежна. Приходит как незваная гостья, бесцеремонно врывается и поселяется на полных правах до конца дней.
Ты обнимал меня, как и прежде, но я ослабевала. Мой голос, живой и глубокий когда-то, всё чаще поскрипывал. Бывало, и дребезжал. Вскоре он совсем осип.
Лечение не помогло. И я всё поняла. Мы оба всё поняли.
Долгое время ты был подавлен. Бродил мрачный, молчаливый. Не в силах мучиться, однажды надолго покинул меня. А потом вернулся. С другой…
Легко ли предавать? Предавать прошлое, настоящее. Ради будущего, дверь в которое для кого-то захлопнулась навсегда.
Легко ли забывать? Убирать в плотный чехол воспоминания о чистой любви. О безграничной преданности.
Тяжкий выбор.
Ты размышлял долго. Не показываясь мне, уединялся с новой избранницей. Дни напролет я проводила в забвении, в неведении.
Но я знала тебя. Всё то, что откликалось звонким эхом в душе, тебе было дорого. И я тоже. С нашей первой встречи. И поныне.
Наконец, решив мою судьбу, ты сделал меня символом великого триумфа. Среди бесчисленных высоких наград твоего непревзойденного таланта центральное место на стене славы заняла я.
Со мной ты писал историю музыки. Со мной ты творил шедевры мелодий. Кумир поколений, неподражаемый виртуоз, маэстро шестиструнной гитары.
Мой маэстро.
Юлия БОЧАРОВА. Бобров
Рассказ
Бобров – это небольшой городок в Воронежской области, на берегу реки Битюг. Раньше, во времена нашего детства, он был поселком городского типа. А для нас, московских детей, он казался и вовсе сельской местностью – с пыльными дорогами, песком на речном пляже и одно- и двухэтажными деревянными домиками на окраине. Мы с братом Лешей приезжали сюда к бабушке Свете на всё лето, но только один раз в жизни.
Больше тридцати лет прошло – и я не знала, вспомню ли здешние места, многое ли изменилось.
– О! Станция Лиски. Помнишь? – брат прильнул к окну поезда, как делал это в детстве.
– Ага. Наша следующая. Да оставь, зачем ты сейчас надеваешь?
Леша встал и взвалил на плечи рюкзак, в который собрал одежду на разную погоду (несколько метеосайтов давали слишком уж разные прогнозы: одни обещали жару «плюс тридцать пять», другие предвещали грозу и похолодание) и московские подарки для бабы Светы. Мы намеревались провести в Боброве несколько дней. Я могла и задержаться подольше, если потребуется, а брату не дали отпуск на работе – и он фактически «сбежал», прибавив к выходным еще пятницу и понедельник.
Мы вышли на перрон и оглянулись. Конечно, здесь кое-что изменилось: плакаты с рекламой, другой цвет здания вокзала, – но в целом всё было похоже на то, что я помнила. А может, я просто придумывала на ходу, подставляя свежие впечатления в обрывочные воспоминания о детстве.
Я взяла брата за руку.
– Ты чего, систер? – сказал он.
– Не знаю, – улыбнулась я.
Наверное, это тоже был «привет» из далекого детства. Баба Света учила нас быть осторожными в этом месте, особенно при переходе железнодорожных путей, и я, старшая сестра, всегда брала Лешку за руку, чтобы не убегал.
Он младше меня на два года и в детстве за ним уследить было очень сложно. Теперь-то Леха был выше меня и носил модную короткую бороду, которую ему оформили в одном из барбершопов. Правда, с шортами и розовыми кроссовками это смотрелось, на мой взгляд, смешно и нелепо – но что уж тут. Человек работал начальником IT-отдела в крупной столичной компании, всё время носил костюмы и галстук – и мог себе позволить расслабиться хотя бы при выезде на малую историческую родину.
Мы пошли от станции по железнодорожному полотну в сторону дома бабы Светы, по направлению к садам и реке. Отмахать надо было больше двух километров. Не успели отойти от станции, как пришлось спускаться на насыпь – и во мне пробудилось какое-то давно забытое чувство. А Леха – вот балбес! – положил на рельсы перед приближающимся поездом две монетки. Мы в детские годы любили так делать, чтобы в результате получались остро заточенные «лепешки», – или «медальки», или «лезвия», в зависимости от того, во что мы собирались играть.
Поезд загудел на нас, почти оглушил, и я закрыла уши руками. От шпал пахло дегтем: солнце сильно их нагрело. Товарняк шел долго – в нем было, наверное, не меньше восьмидесяти вагонов. Сначала я считала их, а потом, где-то на середине состава, одна монетка отскочила из-под железных колес в нашу сторону, – мелькнув в воздухе, как дротик, – и исчезла где-то в сухих зарослях цикория. Это показалось мне плохим знаком. Но Леха не привык унывать, он всегда всё воспринимал оптимистически:
– Ну и че, наоборот, круто. Значит, скоро опять вернемся.
– Почему?
– Ну как, монетку, считай, бросили. Не совсем мы, но это же наша монетка. Мы с тобой знаешь почему тридцать лет здесь не были?
– Монетку забыли кинуть?
– Соображаешь. Не зря студентов у себя там учишь.
Я работала на кафедре экономики в одном из московских вузов, вела спецкурс по статистике.
Леха ткнул меня локтем, призывая разделить его точку зрения. Я отмахнулась.
– Пошли уже, – сказала я, отряхивая джинсы после сидения на пыльной насыпи. – Нас ждут, а мы сидим тут как дураки.
Словно почувствовав этот разговор, мне позвонил отец.
– Ага, идем, – сказала я ему. – Что?
Отец что-то говорил, но мимо двинулся еще один поезд, теперь в другую сторону, и стало ничего не слышно. Надо было опять спускаться по насыпи.
– Скоро будем! – сказала я в трубку и завершила звонок.
Телефон разрядился.
Пройдя по шпалам больше двух километров (надо же, в детстве это расстояние не казалось мне таким длинным и изматывающим), мы стали спускаться с «железки» по склону к старенькому дому бабы Светы. Пошли яблоневые сады и огороды.
Последний (и первый) раз мы были здесь, когда еще не ходили в школу. Мне было пять лет, Лешке – три. В то лето детский сад отказался нас брать в общую летнюю группу после того, как мы с братом дружно переболели ветрянкой. А в душной московской квартире мама не хотела нас оставлять на лето, – тем более на целый день, без присмотра: мама работала, отец – тоже. Поэтому было принято решение отправить нас к бабушке на все каникулы. Мы не знали, что мама с отцом в то лето разводились, и ей очень не хотелось надолго оставлять детей в «стане врага».
В то лето мы с Лешкой с первого же дня каникул радовались жизни: гуляли, играли, пили парное молоко, наливая его из трехлитровой банки в огромные чашки с отбитыми краешками и позолотой на пузатых боках, – бабушка специально для нас брала молоко у соседки утром и вечером. Утреннее было вкуснее. Если поставить такую банку в холодильник, то через несколько часов сверху на молоке образовывался пятисантиметровый слой жирных-прежирных сливок. Это было, наверное, самое вкусное из всего, что я ела в жизни.
– А помнишь, какое тут молоко было? – сказала я.
– Угу, – пропыхтел Лешка.
Лямки рюкзака натерли ему шею с обеих сторон и он оттопыривал эти лямки пальцами, чтобы лишний раз не ерзали по коже. А сам виноват! Можно было надеть в дорогу что-то более удобное, чем открытую «борцовку». Слушаться надо старших, – подумала я с некоторой долей ехидцы. Но вслух брату ничего не сказала. Зачем сыпать соль на раны? Он и так уже пострадал.
Мы перешагнули через поваленную и поржавевшую сетку-рабицу. Неясно, для чего ее здесь ставили – видимых следов грядок не было.
Я подняла с земли упавшее яблоко – был еще не сезон, но оно почему-то поспешило расстаться со своим деревом. Вытерла яблоко об одежду, как в детстве, и откусила. Яблоко было зеленое и кислющее до невозможности! Я скривилась, но выплевывать кислятину и признавать поражение было нельзя: на меня смотрел брат.
– Что?
– Ничего. Вкусно, между прочим, – соврала я, но остаток яблока постаралась не проглатывать подольше.
– Вот до чего людей жадность доводит, – сказал брат и усмехнулся.
Вкус яблока напомнил мне о том, как мы с Лешкой в детстве гуляли допоздна и пробирались здесь, садами, чтобы не встречаться с «неприятелями» – ребятами, которые жили выше по улице. Потом мы с ними подружились и заключили мир – даже, кажется, братались на крови, порезав правые ладони и крепко пожав друг другу руки. Никто из нас тогда не думал о гигиене или возможных заражениях. То есть я, как уже почти взрослая пятилетняя москвичка, считала, что это не очень правильно (в детском саду нас учили мыть руки с мылом до локтя, три раза), но против коллектива благоразумно не шла.
Потом мы вместе с этими ребятами бродили по пыльной белой дороге и орали песни Пугачевой – никто нам в осуждение и слова не говорил. Дорога в те времена была то ли грунтовой с камнями, то ли асфальтовой, но сильно растрескавшейся – во всяком случае, на ней всегда были пыль и песок и в летнюю жару здесь становилось очень душно. Бабушка Света, чтобы занять нас чем-то, однажды предложила поливать дорогу водой из ковшиков, как будто мы – городские поливальные машины. Это была поистине гениальная идея: и дети заняты (сбегаешь к колонке, наберешь воду, выплеснешь – и снова пора назад), и зной для прохожих становился немного более терпимым (чахлые деревца по краям улицы давали мало тени).
Мы с братом еще кое-что тогда придумали: подлавливать белую кошку и стараться сделать так, чтобы она перешла нам дорогу, – это была «примета наоборот», мы сами ее изобрели. Мол, черная кошка – к беде, а белая – к счастью. Наши новые друзья обрадовались, когда мы им это рассказали, и стали тоже так делать. А потом, в результате коллективного творчества, мы усовершенствовали новую примету: если загадать желание и белая кошка перейдет дорогу, то оно обязательно сбудется.
Баба Света, возвращаясь со смены, спасала от нас бедную кошку и говорила, что надо самим исполнять свои желания, а не надеяться на животных, какими бы белыми и пушистыми они ни были.
Бабушка работала поваром в столовой, которая стояла неподалеку от дома. Часто брала нас с собой, но разрешала отлучаться, чтобы мы поиграли с друзьями. Я потом часто вспоминала эту столовую – перед глазами вставали огромные алюминиевые кастрюли и туши мяса, свисавшие с потолка. А запах комбижира и жар от плиты никогда не могла забыть.
Мы с братом шли огородами, как, бывало, нас водил отец больше тридцати лет назад. Он говорил, что так получается сюрприз: ведь гостей-то бабушка ждет со стороны улицы, ведущей к железнодорожной станции.
Баба Света и сейчас ждала нас. Но из дома не выходила: у нее давно уже болели ноги, с Нового года она не вставала. С ней вместе жил младший сын, наш отец.
Бабушкин муж, дед Коля, умер, когда мы были еще совсем маленькими; мы его знали только по фотографиям и по коробочке с медалями. Баба Света считала его ангелом, лучшим из людей. И наш отец сильно убивался, когда деда Коли не стало. А баба Света папу утешала: мол, деду там лучше, боженька его пожалел и забрал. Дед Коля был на войне и горел в танке, а когда вернулся, его не узнали родные: пол-лица обожжено, сам как будто тронулся умом. Иногда он вскакивал по ночам и в панике бегал по дому. Невеста от него отказалась: хоть тогда было и туго с мужчинами, но тянуть инвалида ей не хотелось. А баба Света пожалела, взяла его к себе и выхаживала. Потом они поженились и нажили троих детей, в том числе и нашего с Лешкой отца.
После смерти мужа баба Света не показывала, что горюет.
– Это мы с вами здесь стареем, – повторяла она, – а им на небесах вечная радость.
Когда наши с Лешкой родители развелись, мы больше не ездили к бабушке, хотя отец и предлагал. Не хотели расстраивать маму: ей было неприятно, когда нам нравилось что-то папино. Она старалась этого открыто не показывать, но я-то видела. По бабушке Свете мы скучали: я больше, Лешка – меньше, потому что он не очень хорошо ее помнил. Но потом началась школа, сначала у меня, потом у брата, и у нас обоих появились новые друзья и дела. Человеческая память пластична. Если перестать «надавливать» на какое-то место, «ямка» от него выправляется – и через какое-то время не остается и следа от того, что казалось важным. Во всяком случае, в детстве всё забывается гораздо проще.
– Слушай, систер, мы идиоты! – воскликнул Лешка и замер на месте.
– Ну, я бы не обобщала, – отозвалась я.
Он не обратил внимания на подкол.
– Мы с тобой от «железки» идем, а ведь вообще не факт, что там калитка осталась. А если забор? Придется обходить через всю…
– А зачем обходить? Можно и перелезть.
– Ага, ты прям полезешь в своих «москинах».
Он намекал на то, что у меня слишком дорогие джинсы и я побоюсь их порвать.
– Я-то полезу. А ты сам не хочешь лезть, потому что отрастил себе пузо на осетинских пирогах – и застрянешь.
– Ой, ой, – сказал брат, но о моей фигуре высказаться в ответ не рискнул, потому что это грозило всамделишной ссорой. Всамделишной… Я улыбнулась, поймав себя на этом слове: оно было тоже из далеких восьмидесятых.
Проблема с калиткой решилась сама собой. Изгородь на границе бабушкиного огорода покосилась и во многих местах упала, так что ее и забором-то нельзя было назвать. Кое-где она даже вросла в землю. Через полусгнившие доски шмыгнула, увидев нас, чужая собака. Она добежала до своей изгороди, остановилась и тогда уже залаяла, издалека. Собаки здесь всегда были мелкие и трусливые.
На бабушкином огороде ходили цыплята соседки и клевали что находили. Свежих посадок не было видно: баба Света ведь давно болела. Остались только многолетники и кусты красной и черной смородины. Ягоды уже осыпались: мы опоздали к сезону. Правда, кое-где на концах засохших гроздей еще висели одиночные мелкие ягодки. Я съела одну.
– Да че ты всё в рот тянешь, немытое? – сказал брат брезгливо.
– А помнишь, как баба Света велела нам ее собирать в бидоны, а мы ее с куста ели? Тебе всё ветки кололись, и вообще ты был нытик…
– Да ладно уж прям!
– …и до верхних веток не доставал…
– Могла бы и помочь, старшая сестра, называется.
– А я и помогала. Неужели не помнишь?! Собирала ягоды в ладошку и в твою тару высыпала, как будто ты это сам набрал.
– Да помню, канеш, – соврал Лешка, чтобы не расстраивать меня. Он всё забыл, но видел, что мне это дорого.
Впереди показался дом.
– Леш, а почему мы раньше сюда не приезжали? – сказала я.
– Не знаю. Может, боялись.
– Чего?
– Или неловко было… Сама-то как думаешь?
– Могли бы маме ничего не говорить, если боялись из-за нее. Да и вряд ли она сейчас из-за этого стала бы расстраиваться. Баба Света – старый человек все-таки. Совсем уже.
– Может, у нас совести нет?
Верить в это мне не хотелось. Но и не верить было нельзя: мы тут давно не были. Нас, правда, немножко извиняло то, что у бабы Светы было трое взрослых детей и другие внуки, а с отцом мы почти не поддерживали связь после той некрасивой истории (его измены нашей маме, скандалов и дележа имущества).
Чем ближе мы подходили к дому, тем больше бросалось в глаза запустение в его дворе. Вот здесь раньше стояла бочка, а тут в сарае хранилась стекловата. Она и сейчас вываливается кусками из-за неплотно закрытой двери, подпертой длинной палкой. А здесь росли оранжевые лилии. Если их понюхать, то нос становился желтым и его сложно было отмыть от пыльцы. Здесь росла клубника, а тут были теплицы. Наш с Лешкой «маленький домик» разобрали – видимо, нужны были доски. А может, баба Света не хотела травить себе душу – вспоминать каждый день, как мы здесь играли.


