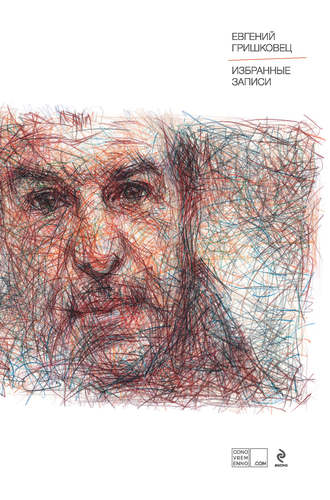
Евгений Гришковец
Избранные записи
5 апреля
На прошедшей неделе было несколько хороших событий. Побывал на презентации книги, которая называется «Книга, ради которой… (и дальше продолжается длинное название) объединились писатели, которых невозможно объединить». Книга эта выпущена фондом «Вера», занимающимся помощью хосписам. В этой книжке есть и мой рассказ «Спокойствие». Мне понравилось мероприятие – даже не тем, как оно было организовано, а тем, что я там услышал.
Когда ко мне обратились из фонда с просьбой принять участие в этой книге, а ещё сказали, какие достойные люди согласились дать свои произведения, я, конечно же, ответил согласием. Меня попросили написать что-то специально для этой книги или сказать что-нибудь о том, как я понимаю задачи и проблемы хосписов. Я долго над этим думал. Понимал, что не получается, делал паузу, опять возвращался. Так и не смог ничего специально написать, понимая, что нет слов, нет интонации, нет знания, чтобы говорить на такую сложную и страшную тему. А на презентации книги выступила В. В. Миллионщикова, которая, собственно, и является объединяющей силой этого фонда, уже много лет в этом направлении трудится и знает по этой теме всё. Она так просто, точно и внятно говорила, что из этой темы ушёл страх, а остались благородство и жизнерадостность. Прекрасно говорил Эдуард Лимонов, прекрасно говорила Татьяна Друбич. И теперь я знаю, что сказать, и понимаю, что эта книга – не последнее наше совместное дело.
В пятницу из-за плохой погоды сорвалась намеченная съёмка. Всё валилось из рук, ничего не получалось, да и предыдущие две недели были такие же. Кроме спектаклей, всё шло шиворот-навыворот и с большим трудом. И вот в пятницу сидели мы с Ириной Юткиной, пытались подвести промежуточные итоги и конкретизировать планы. Сидели оба усталые, за окном шёл мокрый снег, итоги получались неутешительные, а планы трудные. И Ира сказала замечательную фразу: «Знаешь, в такие дни есть ощущение, что я та самая лягушка, которая попала в молоко, решила не сдаваться и взбивала, взбивала это молоко в масло… А потом выяснилось, что молоко обезжиренное».
В таком настроении и в отвратительную погоду поехали мы в Манеж, где фонд, которым занимаются Чулпан Хаматова и Дина Корзун, проводил благотворительный концерт. И из-под мерзкого дождя, с холодного ветра, после таких унылых разговоров, я попал в прекрасную атмосферу. В гримёрных встретил много друзей и знакомых, у всех было хорошее настроение. Все отчётливо понимали, что принимают участие в бесспорном и прекрасном деле. В зале у людей были такие лица, что трудно было удержаться от слёз, от таких редких радостных слёз. А какие люди принимали участие в концерте! Всё было здорово организовано, и все всё делали с удовольствием. Я выступил практически в самом начале, и нужно было спешить в театр – спектакль даже пришлось задержать на десять минут. Потом спектакль, и снова радость… А после спектакля выяснилось, что у нашего администратора украли сумку, в которой были деньги, гонорары операторов, техников, участников спектакля. Но хорошей волны было уже не остановить. Мы с Ирой решили не вешать всю тяжесть утраты на администратора и разделить её поровну.
Пятница закончилась, утром мне нужно было лететь домой, впереди месяц без спектаклей, и только подготовка к премьере… Мы сидели с Ирой поздно вечером и ощущали, что наступило какое-то облегчение. И это облегчение возникло оттого, что после кражи денег стало ясно, что ничего плохого в ближайшее время больше не случится. Не знаю, почему, но это было ясно. И я сказал: «Знаешь, когда берут деньгами – это нормально», а Ира добавила: «Да, по-божески!»
16 апреля
Второй день пребываю на берегах Боденского озера в городе Констанце. Сегодня вечером сыграю спектакль в крошечном театре. Здесь совсем лето. Сейчас в Германии время школьных каникул, поэтому в курортном Констанце полно праздношатающихся. Тихо, спокойно, озеро прекрасно, горы, окружающие его, тоже. Некогда в городе Констанце родился граф Цеппелин, поэтому над ним постоянно летает дирижабль. Констанц – городок маленький, тихий и старинный. Ехали мы в него из Мюнхена четыре часа, хотя расстояние сравнительно небольшое – километров двести пятьдесят, потому что в него нет прямоезжих дорог. Небольшой участок скоростного автобана, а дальше нужно было ехать через какие-то деревни, поля, мимо сплошных виноградников, то есть через немецкую глубинку.
Юг Германии прекрасен. Без роскоши, как везде здесь, толково, продуманно и без излишеств. Спектакль я играю в рамках программы местного театра, которая называется «Русские идут». Программа очень странная, собранная явно спонтанно. На буклете написано: «Россия»… А ещё на нём фигурирует, разумеется, матрёшка, но не просто матрёшка, а нераскрашенная. Представьте себе матрёшку, ещё не покрытую ни краской, ни лаком. Но при этом у неё из головы течёт кровь. И весь буклет оформлен матрёшками либо с этикеткой московской водки, либо с глазами Путина, либо ещё с какой-нибудь подобной глупостью.
Не надоест же им последние двадцать лет всё, что связано с российским кино, литературой или театром, оформлять подобными сюжетами. Как же это глупо! В программке, кстати, фигурируют спектакль «Планета», поставленный по моей пьесе местным театром, а также спектакль «ОдноврЕмЕнно», который я сегодня исполню. При чём здесь окровавленная матрёшка – я не понимаю. Правда, в программе есть ещё и «Терроризм» братьев Пресняковых, и ещё что-то из той же серии.
Неужели наши авторы не догадываются о том, что те страшилки, которые они стряпают, воспринимаются в Европе, куда они рвутся, чуть ли не как документ нашей жизни. Интересно, что они испытывают, показывая свои не бог весть какие из пальца высосанные истории тихим и мирным бюргерам? Нравится ли им их пугать? Наверное, нравится, потому что именно такие деятели, как братья Пресняковы, Клавдиев, поддерживают у европейской публики образ окровавленной матрёшки. Видимо, это приятно: на берегах Боденского озера, в маленьком курортном городке, посмотреть что-то страшное про далёкую Россию и подумать: «Слава богу, у нас всё хорошо, и к нам это не имеет никакого отношения».
А здесь действительно прекрасно. Скалистый берег, и скалы такие, словно их вытёсывали гномы. Снуют по озеру яхты и белые кораблики, лебеди, утки и другие водоплавающие. Всё в цвету. Приятная южная немецкая речь, намного мягче звучащая, чем северная. Вкусное баденское вино, которое можно попробовать и выпить только здесь, – оно не экспортируется по той причине, что здесь же и выпивается. За два дня русской речи почти не слышали… И конечно же, кровавой матрёшкой можно несколько расшевелить местную публику. Сегодня вечером буду убеждать пришедших на спектакль немцев в том, что наш театр не только про кровь и матрёшек.
18 апреля
В Констанце спектакль прошёл очень хорошо. Я постарался исполнить самый лирический вариант. Зрителей было человек сто двадцать. Зальчик рассчитан на сто, поставили дополнительные стулья. К счастью, исконных немцев было всё-таки больше, чем наших бывших граждан… Сразу же прошу не передёргивать! Это моё высказывание – не камень в огород эмигрантов. Просто последние годы я по большей части отказываюсь от поездок в Германию, даже на фестивали, по той причине, что сыграть для немцев не получается. Билеты раскупаются нашими бывшими соотечественниками, и исполнение спектакля с переводом становится тяжёлым испытанием, прежде всего для переводчика. А для меня это тяжело по причине ощущения бессмысленности происходящего, потому что за границей мы всегда будем исполнять спектакль с переводом, если в зале будет присутствовать хотя бы один не понимающий по-русски человек.
Приблизительно так пришлось играть в Ганновере, где в зале на пятьсот семьдесят мест было от силы человек тридцать немцев. А хочется же сделать такой вариант спектакля, который будет максимально понятен жителю другой страны и носителю другой культуры. Это интересная, азартная профессионально и человечески задача. Но в последнее время в Германии так не получается.
Забавный разговор случился у меня в первый день пребывания в Констанце. Там оказался мой старинный приятель, пишущий о театре и литературе человек. Он в первый раз был в Германии, да к тому же сразу оказался в таком красивом, игрушечном, ухоженном и невероятно умиротворяющем месте. Мы сидели на веранде у самого озера, выпивали прекрасное местное вино, в первый раз в этом году оставшись в одних футболках, потому что солнце было совершенно летнее… А вокруг цветы, бегают дети, бродят отдыхающие, мимо провезли целую вереницу счастливых людей в инвалидных колясках. Ну и прочие признаки благополучия и цветущего спокойствия. Мой товарищ сидел, задумавшись, и вдруг сказал: «Жень, ты хорошо помнишь «Незнайку на Луне» Носова?» Я ответил: «Прекрасно помню и до сих пор понимаю, что именно из этой книги узнал про сущность капитализма, денег, про рынок ценных бумаг, акции, финансовые пирамиды и полицию…» А ещё я ему сказал, что те подружки Незнайки, которые у него были в Цветочном и Солнечном городе, – они были… ну, подружки, девчонки. А те, которые на Луне, были уже женщины. Причём такие… активные, и даже секси. Одна журналистка там чего стоила! Мой приятель выслушал меня и сказал приблизительно следующее: «Знаешь, у меня же было ощущение в детстве, когда я это читал, что мы-то как раз из Цветочного города и что хоть у нас и скучновато, но мирно, доброжелательно, честно, предсказуемо и у всех нежные друг с другом отношения. А на Луне мир чистогана. Так вот, у меня сейчас сильное ощущение, что именно здесь Цветочный город, вот тут ходят Пончики, Сиропчики, Знайки… Вон доктор Пилюлькин пошёл. А также художники Тюбики и музыканты Гусли – все они тут. А у нас теперь та самая Луна в самом махровом своём состоянии». Я подумал и очень посмеялся точности того, что он сказал. И хоть, вообще-то, он впервые сидел в таком райском месте и всё совсем не так просто… Но у нас-то точно теперь та самая Луна, с полицейскими Биглями, Пшиглями, Жриглями, со Спрутсами и Скуперфильдами, очень много разнообразных Миг и Жулио и прочих прохвостов. Именно у нас повсюду акционерные общества Гигантских Растений, а уж про Остров Дураков я умолчу, а то кто-нибудь тут же подумает, что я опять говорю про фильм «Обитаемый остров».
23 апреля
…У меня вдруг нашлись точные слова, которые я стал говорить сам себе, и очень помогает. Это очень полезные слова для любой дорожной, уличной или другой напряжённой ситуации. Последние дни в Москве, перед возвращением домой, выдались очень напряжёнными. К тому же всё время шёл снег, а снег в конце апреля уже само по себе усугубляющее нервозность обстоятельство. Из-за снега и весеннего гололёда эти дни были ужасно пробочные и тяжёлые, особенно вчера. Чуть не опоздал на самолёт: Ленинградка стояла наглухо. Если бы не мастерство водителя и не знание им козьих троп, опоздал бы непременно. А когда опаздываешь, хочешь попасть на самолёт ещё сильнее, будто других не будет. Всё же успел, но стюардессы сказали, что процентов сорок пассажиров опоздали, такой был затык на Ленинградском шоссе.
Так вот, когда случаются такие пробки, или когда в час пик весь город сжат, как пружина, или в такое время в метро, да и просто на улице, в толчее, есть люди, которые толкаются, раздвигают других локтями, идут напролом… А на дороге подрезают, давят, вытесняют, пересекают две сплошные, едут на красный свет, сигналят так, что в звуке клаксона слышится трёхэтажный мат, – всё это, конечно, усугубляет раздражение, сердцебиение, тревогу и даже злость. А я нашёл нужные для такой ситуации слова.
Я говорю себе, встречаясь с хамством, грубостью: «Видимо, человеку нужнее, чем мне. Наверное, человек спешит сильнее, чем я. Видимо, у человека серьёзные проблемы. Я же не очень спешу, мне не очень нужно, у меня, если разобраться, таких, как у этого человека, проблем нету. Надо бы ему посочувствовать. Надо бы его пожалеть. А то вон у него какие проблемы в жизни. Вон как ему нужно быстрее, чем мне». Сразу становится проще и даже спокойнее.
27 апреля
Совсем летние стоят денёчки. В субботу даже удалось съездить к морю и, раздевшись по пояс, подставиться солнцу, босиком походить по тёплому песку. Много людей загорали в купальниках, а две дамы, приняв горячительного, окунулись в море, правда, не намочив причёсок. Они без визгов и суеты зашли в воду, ну и практически сразу из неё вышли, почти сохранив грацию. Люди провожали их уважительными взглядами.
Из своих зимних убежищ и берлог повылезали бомжики и даже успели за последние тёплые солнечные дни загореть и слегка подзапылиться уже летней пылью. В калининградских бомжиках есть прибалтийский шарм: они могут весьма витиевато выражаться, они неторопливы, даже вальяжны. На них хорошо и органично смотрятся старые твидовые пиджаки или очень поношенные брюки, но из очевидно хорошей ткани. Даёт о себе знать большое число магазинов секонд-хенда.
Весь город в цвету и проклюнувшейся юной листве. На клумбах вовсю анютины глазки, тюльпаны. Слива даже начинает сбрасывать белые лепестки. На подходе сирень, боярышник, яблони, груши.
В соседнем доме живёт довольно много мужичков и парней в возрасте от двадцати пяти до сорока, и они уже открыли сезон ежевечерних посиделок во дворе. Кем они работают, не понимаю, но у них много свободного времени. Им нравится завести музыку в автомобиле, открыть нараспашку двери, сидеть за круглым столом в дальнем конце двора, жарить на ржавом мангале шашлыки или куриные окорочка, выпивать и петь какие-нибудь очень мужские песни. В воскресенье они раз десять спели песню «Белым, белым полем дым». На словах «волос был чернее смоли, стал седым» один из них брал громче всех, в голосе звучала слеза, и он крепко обнимал рядом с ним сидевшего парня. В этих посиделках чувствуется много героизма, патриотизма, и по всему видно, поднимают они в процессе очень серьёзные темы: периодически некоторые тосты пьют стоя – «за тех, кого нет с нами, за Родину, за тех, кто в море, и за женщин, которые нас ждут». Хотя женщины ждут их в десяти метрах, в доме, рядом с которым они и пьют.
Есть среди них мужик, который обычно ходит в камуфляже и тельнике, но уверен, что ни в армии, ни в силовых структурах не служит, так как двор не покидает никогда. Он периодически отзывает кого-то из молодых парней в сторонку и громким пьяным шёпотом, на весь двор, говорит что-нибудь типа: «Ты меня держись, не пропадёшь» – или: «Ты меня послушай, я тебе плохого не посоветую» – или: «Да знаю я его, ты его не слушай, я тебе всё про него расскажу»…
Сколько их, таких, сидит по городам, городишкам, посёлкам городского типа, деревням… Так вот сидят и сидят, обсуждают глобальные вопросы у гаражей или же во дворах… В них много пафоса, всезнания, чувства справедливости; они полагают, что лучше всех знают о том, что такое истинная дружба, что такое честь и достоинство; они совершенно уверены, что они труженики, работяги, прекрасные отцы семейств, настоящие мужики… Но им всё время мешают жить, их постоянно кто-то обманывает, обворовывает… Если б не все эти козлы и уроды (к которым относятся практически все, кроме них самих), не только они бы жили прекрасно, но и Расея-матушка встала бы с колен. Так они и будут до конца октября заседать в соседнем дворе, пока холодные ветра не разгонят их по домам и квартирам, где заседания продолжатся, но с меньшим размахом.
29 апреля
Меня часто спрашивают: мол, есть ли у вас какой-нибудь обязательный ритуал перед выходом на сцену?
Есть. Каждый раз, выходя на сцену, я обязательно проверяю, застёгнута ли у меня ширинка, даже если исполняю спектакль «Как я съел собаку», который играю в матросских штанах, а у них нет ширинки – пуговицы по бокам, я всё равно делаю условное движение, как будто застёгивая ширинку.
Однажды в Питере, в начале 2002 года, я сыграл спектакль «Дредноуты» с расстёгнутой ширинкой. И обнаружил это только в самом конце. На меня обрушилось осознание того, что я рассказывал про героев-моряков, говорил о благородстве и подвигах… о любви… И всё это с расстёгнутой ширинкой. Сначала чуть не провалился сквозь сцену, а после спектакля сгорал от стыда.
Я думал, что никогда уже не забуду застегнуть ширинку, но это повторилось буквально через месяц, уже в Москве, тоже в спектакле «Дредноуты»… Я вышел на сцену и стал говорить вступительное слово, как вдруг из первого ряда встал смуглый, красивый, черноволосый молодой мужчина, подошёл ко мне и жестом предложил к нему наклониться, чтобы что-то сказать мне на ухо. Все это было при полном зале. Я извинился, зал недоумевал и посмеивался, а он сказал мне на ухо, что у меня расстёгнута ширинка. Сказал и вернулся на место. Я сбегал за кулисы, исправил ситуацию и весь спектакль испытывал к нему глубочайшую благодарность. После спектакля я нашёл его, и мы подружились. Он оказался сербом из Югославии, с удивительной фамилией – Дуракович. Но он объяснил, что по-сербски его фамилия ничего плохого не означает. Давненько его не видел, но мы приятельствуем.
С тех пор я неукоснительно соблюдаю перед выходом на сцену свой ритуал.
Сегодня ходил в детский сад к своему сыну – там был концерт, посвящённый приходу весны. Саша три дня пел дома песни, которые их группа готовила к концерту (имеется в виду детсадовская группа, не рок– и не поп-). Он спел все песни, прочитал стихи, исполнил роли других детей и даже станцевал странный танец, сказав, что это танец морковки.
Сегодня мы были на этом концерте. Для начала дети под пианино походили по кругу с какой-то невнятной песней, потом нам исполнили сказку про мальчика и девочку, которые вырастили урожай гороха, моркови и капусты, и хотя хитрый заяц пробрался в огород и чуть не испортил урожай, дети прибежали с прутиками и его прогнали. По ходу сказки исполнили танец три горошины, три морковки и три капусты. Хореография была неожиданная. Замысел мы смогли оценить и понять, так как в дальнем углу детсадовский хореограф, юная барышня, все эти танцы танцевала, чтобы дети видели и старались повторить. Дети кое-что повторили.
Наш сын танцевал партию морковки. На голове у него была шапочка свекольного цвета, с пучком зелёных ленточек. Как выяснилось, это сделала, ничего нам не сказав, наша старшая (младшему четыре, старшей тринадцать). На вопрос, почему шапочка морковки была свекольного цвета, ответ был предельно прост: «Колготок нужного цвета не нашлось».
Потом дети ещё что-то делали. Пришла воспитательница, одетая, по мнению детей, очень красиво и с необычно ярким макияжем. Она представилась Весной. Дети были рады. Саша прочёл, почти без запинки, с явным воодушевлением, радуясь, что мы, родители, пришли, сольное стихотворение про одуванчик. Одуванчик в этом стихотворении очень быстро поседел, а потом и облысел. Ему особенно нравилось слово «облысел».
Одет Саша был очень аккуратно: в коричневые бархатные бриджики, белую рубашечку и бордовый галстучек. На ногах – голубые носочки и сандалики. Он сам оделся после сна и был этим горд. И весь концерт Саша выступал… Вы думаете, он выступал с расстёгнутой ширинкой? Нет! Ширинка была застёгнута! Но… она была сзади. Как он умудрился надеть эти бриджи задом наперёд, для меня загадка. И как ему удалось при этом застегнуть штаны? Тайну он не раскрыл. Ему стало неудобно, он расстроился из-за наших вопросов. Но то, что он меня в свои четыре года переплюнул, могу сказать с отцовской гордостью.
13 мая
…У нас в семье не сохранилось ни одной фотографии деда в военной форме. Помню, была его фотография в госпитале, в госпитальной пижаме и на костылях, но куда-то запропастилась. Когда дед воевал, людям было не до фотографий. Ему достались 1941-й и 1942 годы. Зато есть довоенные и послевоенные фотографии, хотя и мало. Например, фотография 1935-го или 1936 года.
Это детско-юношеский духовой оркестр Рудничного района города Кемерова, который тогда называли просто Рудник. Здесь ребята в основном 1917–1922 годов рождения. Про эту фотографию я писал в книге «Реки». До сорок пятого из всех, кто на ней изображён, дожили трое, в том числе мой дед. Он во втором ряду, второй справа от руководителя оркестра, со значком «Ворошиловский стрелок». Руководитель до победы тоже не дожил, был репрессирован в 1937-м. Дед играл на трубе и говорил, что у него был хороший звук, но при этом он был ленив и не очень техничен, поэтому первой трубой в оркестре был Колька Богомолов, который сидит между дедом и руководителем. Богомолов тоже до Победы дожил. Все остальные, кроме крайнего справа внизу, погибли в самом начале войны, так как все они были в составе тех сибирских дивизий, что полегли под Москвой.
Я не много знаю про то, как воевал дед. Знаю только, что летом 1941-го, перед самой войной, он окончил третий курс Томского университета – он учился на биолого-почвенном факультете и специализировался по ихтиологии. Как только началась война, срок обучения в университетах был сокращён до трёх лет, и дед неожиданно оказался выпускником. И как выпускник должен был пройти офицерские курсы и отправиться в действующую армию. Но он рвался на фронт: скрыл, что у него диплом, и очень скоро ушёл добровольцем, так что уже в июле в звании рядового принял первый бой, и в первом же бою был тяжело ранен. Про это он мало рассказывал, говорил только, что была полная неразбериха и касок, к примеру, не было даже у офицеров.
После тяжёлого ранения, уже в госпитале, выяснилось, что у деда высшее образование, и, ещё не окончательно долеченного, его отправили на офицерские курсы в Казахстан. Через три месяца это был готовый лейтенант. Поскольку в университете он изучал биологию, его направили в войска командиром роты химической защиты. Он говорил, что в начале войны были большие опасения, что немцы будут применять отравляющий газ. Какое-то время дед пребывал в резерве, а потом уже было не до резервов. Достоверно знаю, что его рота, усиленная взводом пулемётчиков, была оставлена в качестве заслона для отступления остатков нескольких полков на Старорусском (город Старая Руса) направлении. Из трёхсот человек, которые находились в его подчинении, ему удалось вывести из окружения всего шестнадцать. Сам он был снова ранен и попал в госпиталь. Потом был Ржев – снова тяжёлое ранение и контузия, потом снова Ржев. Несколько месяцев боёв, тяжёлое ранение и вторая контузия, после чего инвалидность второй группы и демобилизация. Так что погоны мой дед поносить не успел, потому что погоны были введены только в сорок третьем. Из боевых наград у него два ордена Красной Звезды, за сорок первый и сорок второй годы, медаль «За отвагу» сорок первого года и медаль «За оборону Москвы». Последнюю он очень ценил и говорил, что мало у кого такая есть, так как мало кто дожил до Победы из тех, кто мог такую медаль носить. Юбилейные награды и то, что давали потом каждые пять лет всем участникам войны, он не любил и называл «ёлочными игрушками».
Дед очень мало говорил про войну, зато здорово рассказывал про довоенное время. Мне жаль, что я невнимательно слушал, не ценил и тяготился его рассказами. Про свой оркестр он очень любил рассказывать. Говорил, что на шахтах часто гибли горняки, духовому оркестру приходилось играть на похоронах, и несмотря на то, что музыкантам было по 12–15 лет, им щедро наливали. Так что водку он научился пить довольно рано. Дед вообще-то здорово зашибал. У меня остались об этом смутные воспоминания. Но в 1970 году он в один день бросил пить и до самой смерти в 1993-м ни разу даже не пригубил, хотя очень любил застолье, компании, любил петь под гитару. Играл и пел он громко и плохо, мне не нравилось. Правая рука у него была сильно исковеркана ранением, и пальцы на ней скрючены, поэтому он отчаянно цеплял ими струны своей семиструнки. Любимые его песни – «Снегопад», «Берёзовый сок» и «Ты ехала домой». Я очень страдал от его пения, всегда просил перестать, и сейчас мне за это стыдно.
Вернувшись в сорок третьем с фронта на костылях, дед не удовлетворился своим неполным дипломом и решил закончить университет по-настоящему. Там он встретил бабушку, на которой немедленно женился. Её он любил так, как я никогда не видел. В сорок шестом родился отец. Дед по разным причинам не сделал научной карьеры, бабушка тоже (она тоже была ихтиологом). Многие их сокурсники потом стали педагогами – профессорами университетов, с некоторыми я был знаком. Все они утверждали, что Боря Гришковец сильно талантлив во всём. Несмотря на инвалидность, он поддерживал хорошую спортивную форму. Даже я помню, что он мог спокойно держать «уголок» и подтягиваться с «уголком» на турнике, когда ему было за шестьдесят. Дед проработал много лет директором разных школ в нескольких городах. А бабушка при нём всегда работала учительницей биологии.
Борис Васильевич Гришковец отличался порывистым характером. Может быть, даже вспыльчивым. Он не любил глубоко разбираться в ситуации, принимал отчаянно скорые решения, для него практически не существовало авторитетов, и он всегда прямолинейно, а порой и нахраписто боролся за справедливость. Ему было неважно, где добиваться справедливости: в ЖЭКе, собесе или горкоме партии. Выслушать себя он заставлял любого. Чего это ему стоило? Серьёзных физических мук. Две контузии не прошли даром: он страдал головными болями и даже приступами судорог и обмороками. Он весь был страшно изранен. Когда я был совсем маленьким, я любил находить у него под кожей рук и плеча маленькие осколки, которые когда-то не удалили. Правая его нога была изувечена, короче левой сантиметров на пять (деду повезло: он случайно попал в кремлёвский госпиталь, ему сделали сложную операцию и ногу спасли). Она плохо гнулась, но дед постоянно её разрабатывал. С палочкой ходил редко, стеснялся. Любил соломенные шляпы, хорошую обувь, которая была ему неудобна, но ради красоты терпел. Обувь ему приходилось часто менять, она очень быстро снашивалась.
Насколько я помню, дед не очень понимал отца: ни в его профессии, ни в жизненных поисках. В своё время отец решил закончить аспирантуру в Ленинграде, из-за этого ему пришлось бросить работу и ехать в неизвестность. А отец-то был женат, и уже был я. Дед не понимал этого, не одобрял, но регулярно присылал деньги из своей пенсии, на которую ему пришлось довольно рано уйти по здоровью, из-за головных болей и судорог.
Дед страшно любил кофе – его запах. Хотя тогда и кофе-то хорошего было не найти, да к тому же он ему был категорически запрещён. И отец раздобывал для него растворимый кофейный напиток «Летний», в котором кофе не было, но был похожий запах. Дед насыпал в стакан три-четыре ложки порошка и с удовольствием пил. По поводу каждой сигареты у них с бабушкой шли долгие ритуальные обсуждения. А потом он сидел под форточкой и с наслаждением курил.
Дед был очень жизнелюбив. Сейчас-то я понимаю, что он так никогда и не попробовал хорошего кофе, не покурил хороших сигарет, ни разу не выпил по-настоящему хорошего вина. Он видел много сибирских городков, городишек, в которых работал. Сам вырос в крошечном городке Щегловске, который потом стал называться Кемеровом. Никогда не был за границей, и в Москве практически не был – он её только защищал. Свои поездки на курорты и в госпитали, к Чёрному морю, он вспоминал как чуть ли не путешествия в райские пущи.
Меня он любил до дрожи. Тем самым мне сильно досаждал, особенно когда я был маленький. Я старался не попадаться к нему в руки, иначе он меня затискивал. Ему явно было меня мало. Сейчас я жалею о безвозвратном.
Дед умер летом 1993 года, во сне. Мне не довелось его похоронить. Тогда я впервые выехал на большой театральный фестиваль в город Лазаревское (рядом с Сочи). Мы показывали спектакль «Титаник», и у меня тогда случился первый в моей жизни успех. Я был счастлив, звонил домой, сообщал о том, какой у меня праздник, а отцу хватило мужества не говорить мне о смерти деда, потому что он знал, что я всё брошу и помчусь на похороны.
Чем дальше живу, тем больше понимаю, насколько важным человеком был для меня мой дед. Может быть, потому, что я даже не знаю, какое отчество было у моего прадеда Василия Гришковца. У меня нет ни одной его фотографии, я не знаю, где он похоронен. Дед про него не рассказывал, а прадед умер в 1918 году, ещё до его рождения. Он оказался единственным мальчиком и носителем фамилии. Три его старшие сестры фамилии со временем сменили. Каким образом эта украинская фамилия добралась до сибирской глубинки, я не знаю и уже вряд ли узнаю, а дед этому никогда не придавал значения.
Дед совсем не понял того, что произошло в конце 80-х. Он не принял перестройки, не смог найти в себе сил понять происходящее… Да что там, я могу много говорить про деда, то находя его в себе, то не находя. Внешне я на него совершенно не похож. И отец, и я пошли в бабушку. Но его характер я в себе чувствую. И если так можно сказать, нежно с ним борюсь. И эту борьбу ощущаю как бесконечный диалог с моим любимым дедом. Он один остался в Сибири, все мы уехали. Его любимая женщина (моя бабушка) Соня похоронена здесь, уже в Прусской – Калининградской земле. Каждый год я стараюсь побывать на его могиле. Это я делаю для самого себя, чтобы самому себе сказать, что нашёл время приехать и постоять у его могилы…
Вспоминая деда, я понимаю, что он точно был хорошим солдатом. А когда мы с отцом принесли его фотографию, чтобы её отобразили на чёрном могильном камне, довольно безразличный мастер, который изготовлял надгробия, посмотрел на карточку и сказал: «Да-а-а, серьёзный был мужик!»







