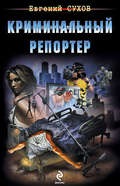Евгений Сухов
Тайный узел
– Хорошо, – бесцветным голосом произнес Геннадий Васильевич, пожимая плечами, совершенно не понимая, зачем майору милиции понадобилось его разрешение на разговор с супругой, когда служитель правопорядка волен расспрашивать кого бы то ни было согласно служебной необходимости и по собственному усмотрению.
– Вы заметили, товарищ майор, что в квартире не наблюдается никакого беспорядка? – снова подала голос Зинаида.
– Хотите сказать, что Печорский все же сам повесился? – остро глянул на младшего лейтенанта Щелкунов, жестом давая понять Стрешневу, а вместе с ним и Сабирову, что их присутствие в квартире Печорского уже необязательно.
Едва кивнув, оба незамедлительно и с немалым облегчением вышли из квартиры.
– Нет, – не задумываясь ответила Зинаида. – Хочу лишь сказать, что убийца или убийцы либо знали, где в квартире лежат деньги и самое ценное, поэтому не стали нигде рыться, либо гражданина убили по иным причинам. Если, конечно, убили.
– Вот ты к чему, – в упор посмотрел на Кац Щелкунов. За непродолжительное время ее службы в отделе Зинаида многому научилась, а главное – она обладала особенностью видеть детали, которые нередко пропускали даже иные оперативники. Говорят, что женщины наблюдательнее мужчин, это как раз про нее. – Значит, ты не можешь с уверенностью сказать, что это было: убийство или самоубийство.
– Сомневаться для следователя – вещь полезная и обязательная, – изрекла Зинаида тоном наставника, но не строгого, а доброго и участливого. – И убийство это или самоубийство, будет известно наверняка после проведения медицинских и криминалистических экспертиз и написания по ним заключений. Но вот этого, – протянула она Виталию Викторовичу листок бумаги, – не принять во внимание никак нельзя. Этот листок лежал на комоде на видном месте под серебряным портсигаром.
Щелкунов взял из рук младшего лейтенанта листок бумаги и прочитал вслух:
– «Прошу в моей смерти никого не винить. Ухожу из жизни добровольно, прощайте. Модест Печорский».
Внизу стояла неразборчивая подпись, различить в которой можно было только начальную букву «П».
Настало время допросить супругу самоубийцы. А возможно, что и убиенного.
– Вот что, Зина, давай приведи сюда Нину Печорскую. Нам будет о чем с ней поговорить.
– Хорошо, Виталий Викторович, – охотно откликнулась Кац и, постукивая каблучками о сверкающий паркет, вышла из квартиры.
Зинаида выполнила приказание майора буквально: привела Печорскую, бережно придерживая ее под локоток. Но не потому, что вдова сопротивлялась и не желала уходить. Напротив, когда младший лейтенант прошла в квартиру Стрешневых и сообщила Печорской, что с ней хочет поговорить майор милиции, то молодая женщина охотно согласилась вернуться домой. Видимо, Нина Печорская, раздавленная горем, крайне неуютно чувствовала себя в компании чужих людей, которые пришли в гости не для того, чтобы грустить, а затем, чтобы весело встретить Новый год. Да и гости с ее уходом почувствовали некоторое облегчение, что прочитывалось по их враз повеселевшим лицам.
…Но, шагнув в прихожую, вдова покачнулась. Вероятно, силы покинули ее. Вот Зинаида Борисовна и поддержала ее в нужный момент.
– Вам плохо? – сочувственно спросила она.
– Ничего… Уже все прошло, – вроде бы взяла себя в руки Нина, стараясь не смотреть на распластанный на полу труп мужа.
– Тогда скажите мне: это почерк вашего мужа? – доброжелательно поинтересовался Виталий Викторович, протянув обнаруженную записку Нине.
Вдова мельком глянула на бумагу:
– Кажется, Модеста.
Такой ответ ничуть не удовлетворил майора Щелкунова.
– Что значит – «кажется»? Это его почерк или не его? Скажите нам точно. Вы ведь знаете его почерк. Вам не однажды приходилось видеть, как ваш муж заполнял документацию для своих магазинов, – произнес Виталий Викторович уже без всякого намека на доброжелательность. – Следствию важно знать точно.
Снова мельком глянув на записку, Нина Печорская ответила:
– Мужа.
Прозвучало не очень убедительно. Майор Щелкунов невольно сжал губы.
– И подпись его? Вы подтверждаете? – ровным, сочувствующим тоном, пряча нарастающее раздражение, спросил Виталий Викторович. А ведь могла бы ответить и более убедительно. Ведь прожила с мужем бок о бок не один месяц. Ему никогда не нравилась неопределенность в словах свидетелей. Ну как можно, скажите на милость, иметь дело с очевидцем, слова которого расплывчаты и нетверды. Прикажете ему верить? Что-то не очень получается.
– Его, – устало произнесла Печорская, и ее опять качнуло. Женщина была очень слаба. Происшествие, случившееся в ее квартире, сильно на нее повлияло, забрав, по-видимому, все силы.
Без четверти двенадцать прибыл дежурный участковый, уже в годах, с орденом Красного Знамени на темно-синем мундире.
– Старший лейтенант Бабенко, – представился он.
– Помогите младшему лейтенанту, – приказал ему Щелкунов, указав на Зинаиду Кац и продолжая недоверчиво и, похоже, участливо посматривать на Нину Печорскую. – Мы ищем письма и бумаги, написанные рукою покойного. И чтобы они были подписаны его собственной рукой. Очень помогли бы личные письма, документы.
– Понял, товарищ майор, – ответил Бабенко и прошел к младшему лейтенанту: – Ваш начальник направил меня к вам.
– Хорошо, – ответила Зинаида и четко поставила участковому уполномоченному задачу: – Для начала нужно просмотреть шкаф, ящики в комодах, письменный стол. Я начну с комода, а вы осмотрите письменный стол.
Письма, написанные рукою Печорского, нашлись в том же комоде. А пачка документов в белой папке с тесемками была обнаружена Бабенко в ящике письменного стола. На некоторых документах стояла размашистая подпись Печорского.
– А теперь давайте сравним почерк с записки с теми письмами, что отыскались.
Для верности записку положили рядом с письмами. Вроде бы все буквы схожи, и вместе с тем записка и строки, написанные в письмах, каким-то неуловимым образом отличались.
– Каково твое мнение, Зина? – посмотрел на младшего лейтенанта Щелкунов.
– Мне кажется, что они не очень похожи. Вот посмотрите повнимательнее, товарищ майор, в предсмертной записке у строчек наклон немного другой и буквы ложатся как-то поровнее. А написание некоторых букв в записке и в письмах вообще разнятся! Видите, в предсмертной записке буква «И» прямее выглядит, чем в письмах и в документах, а буква «О» в записке более вытянутая. А еще Печорский перед смертью должен был находиться в сильном волнении, это как-то должно было сказаться на его почерке. А мы видим, что почерк у него в предсмертной записке ровный, как будто бы Печорский старательно выводил каждую букву. Никуда не спешил. В письмах он менее аккуратен.
– Замечание, конечно, верное, – вынужден был согласиться Щелкунов. – А ты не думаешь, Зинаида, о том, что Печорский взвешенно принимал решение о самоубийстве. Перегорело у него все внутри, вот потому он и не волновался. И торопиться ему уже было некуда. А что касается самого почерка, то мне видится, что в обоих случаях почерки очень похожи и могли быть выполнены одной рукой. Хотя я, конечно, не являюсь специалистом-почерковедом. Пусть участковый нас рассудит, – решил Виталий Викторович. – Старший лейтенант, подойдите сюда.
Участковый немедленно подошел.
– Давно служите в милиции?
– Лет пятнадцать. Поначалу, как с Гражданской пришел, мастером на заводе поставили, а уже потом, как коммуниста, в милицию направили.
– Значит, опыт большой.
– Всякого насмотрелся, чего уж там…
– Можете нас рассудить? Почерк в письмах похож на тот, что в записке?
Старший лейтенант довольно долго разглядывал бумаги, неодобрительно хмыкал, смотрел зачем-то бумаги на свет, после чего весьма глубокомысленно изрек, не поддержав ни сторону младшего лейтенанта, ни майора:
– Кое-какие отличия между почерком в предсмертной записке и почерком в письмах, следует признать, имеются. Но, с другой стороны, – добавил после небольшой паузы Бабенко, – ежели бы я собирался через пару минут удавиться, мой почерк, я думаю, тоже бы отличался от того, каким я пишу в обычных условиях… К тому же не стоит человеку, не очень-то сведущему в подобных вопросах, решать, тот это почерк или не тот, ибо ничего это не даст.
Сказано было емко и убедительно. Поэтому Щелкунов пришел к единственно правильному решению, заключив следующее:
– Хорошо. Отдадим записку с письмами и документами экспертам-почерковедам. А они уж там пусть разбираются. – Потом обратился к Нине, стоящей рядом: – Осмотрите вещи. Если у вас что-то пропало, скажите.
Нина огляделась и ответила не сразу:
– Да вроде ничего. Все на месте.
– Деньги в доме были? – поинтересовался Виталий Викторович.
– Да, – последовал ответ.
– Где они хранились?
– В письменном столе.
– Вы не можете посмотреть, – мягко обратился Щелкунов к Печорской, – находятся ли деньги на своем месте или нет?
Виталию Викторовичу отчего-то было жалко молодую беззащитную вдову. Как бывает жалко голодного щенка, тыкающегося холодным носом в ладони, или котенка, забившегося со страха перед чужим миром под лавку или скрипучее крыльцо. Хотя ранее в каких-либо прежних делах, которые ему доводилось вести, особой жалости к свидетелям происшествий или преступлений майор не испытывал.
Все теперь пойдет прахом, что Модест Печорский так кропотливо преумножал и выстраивал: магазины и ресторан.
Нина прошла к письменному столу и выдвинула верхний ящик. Денег в нем не оказалось.
– Их здесь нет, – удивленно произнесла она и посмотрела на майора милиции: – Вы полагаете, нас ограбили? – Она помолчала, собираясь с духом, чтобы произнести следующую фразу: – А моего мужа что – убили? Но кто это мог сделать? И за что?
– Мы здесь для того, чтобы разобраться во всех обстоятельствах произошедшего, – уклончиво и довольно сухо ответил Щелкунов.
– Да нет, не может такого быть, – взволнованно произнесла Печорская, обращаясь скорее сама к себе. После чего вскинула голову и посмотрела Виталию Викторовичу прямо в глаза: – Модест Вениаминович, конечно, сделал это сам. Это, вне всякого сомнения, самоубийство.
– Откуда у вас такая уверенность? У него были на то какие-то причины? Может, он болел?
Отвернувшись, вдова молчала.
– Сколько было денег? – выдержав паузу, спросил Виталий Викторович, немного удивленный поведением молодой вдовы. Другая бы на ее месте наверняка ухватилась бы за версию об убийстве мужа, которая оправдывала бы его и делала из него жертву преступления, а не явно смалодушничавшего человека, сдавшегося перед обстоятельствами. Если бы эта другая его любила и желала сохранить добрую память о нем. А Нина, похоже, больших чувств к ныне покойному супругу не испытывала.
– Точно я не могу сказать, – тихо ответила молодая женщина.
– Ну, можете сказать хотя бы примерно? – вновь спросил Щелкунов, надеясь получить точный ответ.
– Думаю, тысяч семь-восемь.
– Значит, в ящике письменного стола находилось тысяч семь-восемь, которых на настоящий момент нет, – констатировал начальник ОББ городского управления.
– Нет… Но, возможно, Модест потратил их сам. Он много вкладывался в свои магазины и ресторан, – пояснила Нина, опять-таки косвенно поддерживая версию о самоубийстве. – А вот его сберкнижки, – Печорская показала их майору милиции, – обе на месте.
– Позвольте на них взглянуть? – попросил Виталий Викторович.
Нина протянула майору обе книжки. Тот открыл одну и едва не присвистнул – пятьдесят пять тысяч целковых. Немалая сумма! Вторая – на сумму сорок три тысячи с копейками. То бишь с рублями. Итого – девяносто восемь тысяч с чем-то. Очень даже неплохой заработок для советского гражданина, готовящегося безбедно встретить старость. Чтобы заработать такие деньги, ему, начальнику отдела по борьбе с бандитизмом и дезертирством, надлежит проработать на своем месте без малого десять лет. При этом следовало не есть, не пить и ничего не покупать… Даже папиросы.
– Скажите, Нина… Как вас по отчеству? – поинтересовался Виталий Викторович.
– Александровна, – последовал ответ.
– Вот скажите мне, Нина Александровна, а враги у вашего мужа были? Или, может быть, какие-то недоброжелатели? – задал Щелкунов вопрос, являющийся, скорее, дежурным при опросе пострадавших. – Ведь он был человеком небедным. Я бы даже сказал – состоятельным. Многие могли ему завидовать.
– Я не знаю, – не сразу ответила молодая вдова. – Мы жили довольно замкнуто. Ни с кем особенно не общались.
– Значит, вы никак не можете помочь следствию… – констатировал Щелкунов и добавил, глядя куда-то поверх головы собеседницы: – Или, может, не хотите?
После этих слов Виталий Викторович внимательно и пытливо всмотрелся в Нину.
– Не могу, – тихо промолвила молодая женщина и опустила голову.
Где-то слаженно закричали «ура». Этажом выше раздалась звонкая музыка. Несколько человек вышли на лестничную площадку, громко разговаривая и смеясь. Запахло табачным дымом. Из открытой двери донеслось пение:
Если на празднике с нами встречаются
несколько старых друзей,
то, что нам дорого, припоминается,
песня звучит веселей.
Ну-ка, товарищи, грянем застольную,
выше стаканы с вином,
выпьем за Родину, выпьем за Сталина,
выпьем и снова нальем.
Это значило, что только что наступил новый, одна тысяча девятьсот сорок восьмой год.
Что же он сулит?
Глава 3. Вопросы без ответов
Он еще что-то спрашивал, этот настырный майор милиции. Но его слова доходили до Нины как через ватное одеяло, если им закрыться с головой: глухо и практически непонятно. Кажется, майор спросил, что побудило Модеста Вениаминовича, на ее взгляд, свести счеты с жизнью, «если это, конечно, было самоубийство», добавил он, пытливо всматриваясь в ее задумчивые глаза.
Нина ответила, что не знает, но ее ответ только насторожил дотошного милиционера.
– В случае, если гибель вашего мужа – убийство, и если вы хотите, чтобы человек или люди, совершившие это злодеяние, были найдены и наказаны по закону, в ваших интересах отвечать на наши вопросы искренне и правдиво, – снова глухо донесся до сознания Нины голос майора, и на сей раз все слова были для нее понятны.
– Вы все же полагаете, что это убийство? – тихо спросила Нина.
– Это всего лишь одна из версий, – ответил майор милиции и добавил: – Утверждать что-то категорично я не могу. Сейчас мы проводим следственные действия. Потом будет назначена судебная экспертиза. Надо дождаться результатов экспертизы, и тогда мы будем знать точно, что произошло – убийство или самоубийство.
– Вы знаете, – начала Нина, – эта нежданная смерть мужа меня совершенно выбила из колеи. Я как будто нахожусь во сне. У меня такое чувство, что вот сейчас я проснусь и все будет по-прежнему…
– К сожалению, это не сон, – заметил майор. – И по-прежнему уже никогда не будет.
– Я ведь даже подумать не могла, что… вот так… все произойдет. Что может все разрушиться в один миг! Когда я вошла в квартиру, то едва не лишилась чувств, когда… увидела его… висящим на двери в гостиной… – произнесла Нина, содрогнувшись, словно вновь переживала увиденное и смотрела сейчас не на задающего вопрос майора, а на него, своего мужа, висящего с тыльной стороны двери и с вытянутыми к полу носками… – Я пыталась вытащить его из петли, а потом поняла, что у меня не хватит на это силы.
– А когда вы пришли домой? – продолжил допрос майор. – В котором часу?
– Где-то в одиннадцать вечера, – немного подумав, ответила Нина. И добавила нетвердо: – Ну, может, было без пяти или без десяти одиннадцать.
– Позвольте узнать, где вы находились до этого часа и во сколько покинули днем вашу квартиру? – не сводя с Нины взгляда, спросил милиционер. И почему он так пристально и неотрывно глядит на нее? Может, с ней что-то не так?
Женщина машинально поправила прическу.
– Ушла из дому я где-то около часу дня, – несколько растерянно произнесла Нина. – И все время была у своей подруги Веры Кругловой. В городе у меня больше никого из близких мне людей нет, и идти мне больше не к кому, – завершила она свой ответ.
В лице майора что-то изменилось, он как будто бы хотел спросить: «А как же ваш муж, он что, разве не является близким вам человеком?» Нина, не выдержав взгляда майора, отвернулась. Вряд ли он станет задавать столь откровенный вопрос, который был бы совершенно неуместен в сложившейся ситуации.
– Дверь вы открыли своим ключом? – после недолгого молчания задал новый вопрос майор.
– Она была не заперта, – тихо ответила Нина.
– Вот как… Это вас не удивило? – Милиционер смотрел на нее очень внимательно.
– Удивило, конечно. Впрочем, я подумала тогда, что это муж, поджидая меня, открыл дверь. Возможно, что он увидел меня из окна.
– Итак: вы вошли в открытую квартиру и увидели, что ваш муж… висит на двери, – не нашел более подходящих слов Щелкунов.
– Да.
– Что произошло дальше?
– Не могу сказать точно, но, кажется, я сначала даже не поняла, что произошло, а потом замерла от ужаса. Попыталась вытащить его из петли, а потом выбежала на лестничную площадку и закричала. Я очень испугалась. На мой крик вышли соседи и позвонили в милицию. Потом они привели меня к себе, а затем приехали вы…
Последовало молчание. Казалось, майор закончил допрос или опрос – как это у них там называется – и теперь, наконец, оставит ее в покое, и она сможет где-нибудь уединиться, чтобы никого более не видеть и не отвечать ни на какие вопросы. Или куда-нибудь пойти, чтобы побыть одной. Только вот куда пойти?
Но нет: майор милиции снова показал ей предсмертную записку и спросил:
– Простите, но я вынужден еще раз вернуться к этой записке. Это ваш муж писал или нет?
– Ну а кто же еще? – Нина с удивлением, смешанным со страхом, посмотрела на настырного майора. Зачем он все это спрашивает? Что ему еще непонятно? Ведь все уже рассказала!
– Это не ответ, – твердо произнес майор. – Скажите точно: вы признаете, что эта записка написана рукою вашего мужа и на ней стоит его подпись?
– Да, признаю…
Нина старалась говорить убедительно, но голос подвел, было заметно ее волнение. Ну что еще этому человеку от нее нужно? Неужели милиционер не видит, что она хочет остаться одна, что разговаривать ей тяжело, что у нее не осталось сил отвечать на его вопросы.
Виталий Викторович, в свою очередь, задавался различными вопросами, на которые не находил ответов. Главным вопросом был, конечно, следующий: Печорский повесился сам или его сначала задушили, а потом повесили, имитируя самоубийство?
Записка, оставленная Печорским, написана им самим или это подделка? Если подделка, то тогда почерк и особенно подпись довольно убедительно сработаны. Если записка фальшивая, то подделал ее тот человек, кто знал почерк Модеста Вениаминовича, имел время и возможность попрактиковаться в подделке. И не является ли этот кто-то (возможный убийца) хорошим знакомым ныне покойного Печорского? Может, кто-то из его работников или человек, вхожий в их с Ниной дом?
Почему Печорская опасается вопросов – и это весьма заметно, – касающихся подлинности предсмертной записки? И почему вдова стоит на своем, говоря, что почерк и подпись в записке принадлежат ее мужу, хотя различия написания в записке и письмах, написанных рукою Печорского, довольно заметны?
А может, все гораздо проще: Нина Печорская желала смерти своему мужу? Он намного старше ее, возможно, стал попросту ей в тягость. И если поначалу и было какое-то чувство к нему, то оно улетучилось, в пользу чего свидетельствуют соседи, указывающие на частые в последнее время размолвки и ссоры между супругами.
С деньгами и всем имуществом мужа, которое после его смерти перейдет к ней, Нина преспокойно и сытно проживет и без него. Только вот как она все это провернула? Конечно, почерк и подпись в предсмертной записке Печорская могла подделать, поскольку у нее под рукой имелись письма, написанные Модестом Вениаминовичем, и документы с его подписью. И удушить супруга, надо полагать, она тоже могла. Девонька-то крепкая! Зашла незаметно сзади, накинула муженьку на шею удавку и что есть силы сдавила… А почему бы и нет? Но вот как ей удалось подвесить Печорского на двери в гостиной? Это вопрос. Мужчина он довольно грузный, и поднять его ей одной не под силу! В таком случае ей кто-то помогал. Таинственный воздыхатель? Любовник? Ну а почему бы и нет? Печорская молодая женщина, довольно хороша собой, почему бы ей не иметь такого же молодого сердечного друга? Тогда наличие любовника многое объясняет. В том числе и охлаждение к ней Модеста Вениаминовича. Однако в этом случае имеется одно немаловажное «но»… Чтобы провернуть такую комбинацию, необходима сноровка, тяга к риску. Ни того ни другого у Нины Печорской не наблюдается. М-да-а. Задачка…
Кажется, долговязый майор все-таки отвязался от нее. (Печорская тайком взглянула на Щелкунова.) Успокоился, сидит себе на стуле, даже не пошевелится. Очевидно, размышляет о произошедшем. А что ему еще остается? Не рад, что пришлось ехать на самоубийство, вместо того чтобы сидеть за праздничным столом.
Скорее бы все это закончилось…
А эта девица в форме младшего лейтенанта все рыскает злобной мегерой по квартире, будто надеется что-то отыскать. И старый участковый с ней. Такой же ведьмак! Неужели они ее подозревают?
Печорская от нехороших мыслей невольно поежилась. Какое-то время она просидела, углубившись в собственные невеселые думы, и даже не заметила, как ушел майор. Потом пришел человек с фотоаппаратом, сделал несколько снимков распластанного на полу Печорского. За ним следом появились двое крепких мужчин в белых халатах. Погрузили без особой почтительности тело мужа на носилки и расторопно (явно спешили к новогоднему столу, чтобы выпить рюмочку-другую) вынесли его из квартиры. Снова появился неприятный майор. Дополнительных вопросов задавать больше не стал. Когда выносили тело Модеста, майор изучающе глазел на молодую вдову, так и не взглянувшую на мужа. «Пусть думает про меня, что ему вздумается, – решила Печорская, отвернувшись. – Мне безразлично».
Потом все ушли из квартиры, и молодая вдова осталась одна наедине с невеселыми мыслями. Наверху звучала громкая музыка, до случившегося никому не было дела. Жизнь продолжалась. Соседи шумно встречали Новый год.
Так Нина просидела часов до трех ночи. Затем она очнулась, огляделась, словно не понимая, что она делает в этой квартире, ставшей ей ненавистной за несколько последних месяцев; поднялась, и ноги сами понесли ее прочь из опостылевшей квартиры, от соседей, проживавших в этом доме, и вообще от всех людей. От них одни только беды. Неожиданно она сделала для себя открытие: она не любит людей. Вот только не могла понять, в какое время в ее душе произошли столь радикальные перемены. Как хорошо было бы, чтобы в этом городе кроме нее и еще одного человека не было бы больше никого.
Улица Грузинская, застроенная старинными особняками, перемежающимися с деревянными купеческими домами, была пустынна и темна. Впрочем, прохожих на улицах города не было практически часов с девяти вечера – такая привычка установилась еще в годы войны и сейчас, несмотря на начавшийся третий год мирной жизни, еще не изжилась.
Пустынные улицы вполне устраивали Нину. Как хорошо, что нет прохожих! Не нужно было никому смотреть в глаза и уступать дорогу. И никто не провожал ее участливым взглядом, что она всегда чувствовала: «Новый год, а женщина одна, видно, не все у нее в жизни в порядке».
Нина Печорская шла, куда глаза глядят и несут ноги. Она миновала перекрестки с улицей Гоголя, Комлева и Толстого. Уже когда она подходила к Варваринской церкви, давно прекратившей не приветствовавшиеся советской властью богослужения, с отбитыми крестами на куполах и вывеской протезной мастерской над входом, ее неожиданно громко окликнули:
– Гражданочка!
Печорская медленно оглянулась. В нескольких метрах от нее был конный милицейский патруль из двух человек. Один милиционер, парень немногим за двадцать, ловко спешился, подошел к ней и удивленно поинтересовался:
– Вы что одна гуляете в такое время?
– А что – разве это запрещено? – с вызовом ответила Печорская, глядя милиционеру прямо в глаза. Нина вдруг с некоторым удивлением для себя осознала, что за последние часы в ее сознании произошли серьезные перемены – страх куда-то улетучился. Она стала другой, более раскованной, что ли. – Уж не арестовать ли вы меня надумали? А может быть, хотите проводить одинокую женщину, чтобы с ней ничего не случилось?
– Ты смотри, как она нам дерзит, – с некоторым изумлением обратился спешившийся милиционер к конному, продолжавшему внимательно изучать Печорскую. – Не помнишь, у нас такая не проходит по ориентировкам?
– Вроде бы не встречал, – неуверенно отозвался второй, с густыми темными усами, делавшими его старше.
– Видно, ей не впервой с милицией общаться, – проговорил пеший. – Давай-ка мы ее в отделение… проводим. Там ей самое место будет. А там и разберемся, что за птица такая нам в силки попалась.
– Она наверняка из этих самых… – сказал конный напарнику. Картинно округлил глаза и криво ухмыльнулся: дескать, по долгу службы такая порода женщин ему хорошо знакома. И как обращаться с ними – ему тоже хорошо известно.
* * *
В отделении милиции было тихо. Можно было с уверенностью сказать, что в помещении никого нет. Слева от входной двери в застекленной фанерной будке, напоминающей будочку частника-сапожника, сидел хмурый дежурный сержант с заспанным лицом, вконец расстроенный оттого, что злая планида уготовила ему участь дежурить в новогоднюю ночь, вместо того чтобы сытно подремывать в это время за праздничным столом или принимать в гостях последнюю стопку «на посошок». И вот теперь он был вынужден сидеть в осточертевшей дежурке в холодном и пустом отделении милиции и считать часы до окончания дежурства.
Одно радовало: по приходе домой жинка Дуняша угостит его куском жареной курочки с печеной картошкой и поднесет стопарь-другой беленькой с наколотым на вилку соленым огурчиком в мелких пупырках. И он пусть и с запозданием, но встретит одна тысяча девятьсот сорок восьмой год как положено… Возможно, что наступивший год принесет ему удачу.
Сержант определил Печорскую в одну из пустующих камер, перед этим предварительно обыскав женщину. Чего-то запрещенного при ней не имелось. В карманах лишь позвякивала горсть мелочи.
– Ваше имя и место жительства, – спросил дежурный перед тем, как закрыть дверь в камеру.
Нина промолчала.
– Как вас зовут? – уже громче и сердито обратился к задержанной сержант. И не получил ответа. – Мне что, голос на вас нужно повышать?
Нина отвернулась.
– Ну как знаешь, – безразлично произнес сержант. – Проблем ищешь? Так ты их получишь.
Он запер камеру на два оборота ключа и, вернувшись на прежнее место, что-то записал в амбарную замусоленную книгу, лежащую перед ним на столе.
Утром в восемь часов и пятнадцать минут дверь камеры широко распахнулась.
– Выходите, – прозвучал из коридора мужской требовательный голос.
Печорская вышла и вопросительно уставилась на незнакомого черноволосого капитана милиции, открывшего дверь.
– Следуйте за мной.
Женщина покорно пошла за милиционером, не задумываясь особо, куда ее ведут и с какой целью, – окружавшее ей сделалось безразличным. Если бы ей вдруг объявили, что ее ведут на расстрел, она бы даже не испугалась, а встретила известие смиренно. За ночь, проведенную в камере, Нина не то чтобы успокоилась – она просто сумела привести в порядок мысли, до этого хаотично блуждавшие в ее голове. За них невозможно было ухватиться, тем более додумать начатое и прийти к какому-либо осмысленному логическому заключению.
Время, проведенное в камере, предоставило ей возможность мыслить рационально, трезво воспринимать слова, обращенные к ней, то есть правильно понимать их значение и вложенную в них мысль, и без промедления искать на них подобающие ответы.
Беспомощная растерянность, овладевшая ею сразу после обнаружения трупа Печорского и во время допроса майором, прошла и уступила место состоянию, которое можно было назвать спокойным с долей невесть откуда взявшегося упрямства, чего раньше Нина за собой не замечала.
Печорская и сопровождавший ее капитан милиции прошли по длинному коридору и остановились у коричневой деревянной двери с цифрой «8». После чего милиционер извлек из кармана галифе длинный ключ и открыл кабинет.
– Проходите, – вполне дружелюбно предложил он.
Нина прошла на середину комнаты, где вдоль стен стояли три стола, и остановилась.
– Присаживайтесь, – указал капитан на стол с двумя стульями, располагавшимися у окна.
Нина осторожно опустилась на стул. С противоположной стороны стола разместился капитан. Он достал из ящика стола бумагу, ручку и принялся заполнять шапку протокола, часто макая ручку в коричневую чернильницу-непроливашку, в которой чернила, похоже, были только на донышке. Такие чернильницы Нина помнила еще со школы. Они вставлялись в специальные отверстия в партах, чтобы чернильницы ненароком нельзя было смахнуть или уронить. Ибо, несмотря на свое название – непроливашки, – они все же проливались и чернила пачкали парты, пол, а то и руки и одежду.
– Я капитан Еремин и буду заниматься вашим делом. Назовите свое имя, – потребовал милиционер, разглядывая задержанную и пытаясь сделать для себя какие-нибудь умозаключения относительно молодой женщины. Но кроме одного – что она трезвая и весьма хорошо одета – в голову ничего более не приходило.
– Вера Круглова.
– С отчеством попрошу, – заметил задержанной капитан милиции и в очередной раз макнул перо в чернильницу, чтобы записать полученный ответ. То, что молодая женщина, сидящая против него, врет, он не мог и предположить.
– Вера Николаевна Круглова.
– Год рождения? – бесцветным голосом продолжал опрос капитан.
– Одна тысяча девятьсот двадцать третий.
– Место рождения?
– Город Ленинград, – столь же уверенно произнесла задержанная.
«Из эвакуированных. В начале войны их большая партия в Казань прибыла», – сделал еще одно умозаключение Еремин, после чего спросил:
– Где вы проживаете в настоящее время?
Нина назвала адрес Веры. Если уж начала врать, то нужно держаться этой линии до конца. Капитан аккуратно записал ответы Нины в протокол, после чего внимательно глянул на молодую женщину и спросил, почему она отказалась назвать свое имя дежурному сержанту. Нина легкомысленно – на взгляд капитана – пожала плечами:
– Не знаю. Что-то нашло на меня… Может, загрустилось.
– Что вы делали ночью на улице? – задал милиционер новый вопрос.
– Встречала Новый год, – на полном серьезе ответила Нина и посмотрела капитану в глаза.
– Как это? – не понял капитан. – В три часа ночи?
Взгляд женщины выдержать он не сумел и опустил глаза. Вообще, подобного рода задержанные встречались в его практике нечасто. Что-то подсказывало ему, что сегодняшний случай – особый.