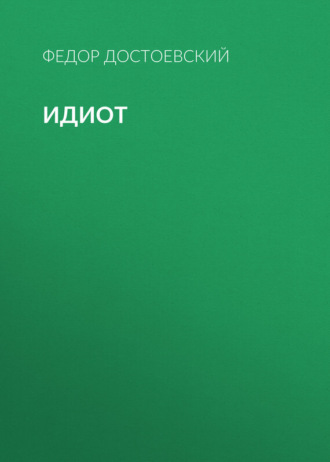
Федор Достоевский
Идиот
– Пойду.
– Знать же я тебя не хочу после этого! – Она было быстро повернулась уходить, но вдруг опять воротилась. – И к этому атеисту пойдешь? – указала она на Ипполита. – Да чего ты на меня усмехаешься, – как-то неестественно вскрикнула она и бросилась вдруг к Ипполиту, не вынеся его едкой усмешки.
– Лизавета Прокофьевна! Лизавета Прокофьевна! Лизавета Прокофьевна! – послышалось разом со всех сторон.
– Maman, это стыдно! – громко вскричала Аглая.
– Не беспокойтесь, Аглая Ивановна, – спокойно отвечал Ипполит, которого подскочившая к нему Лизавета Прокофьевна схватила и неизвестно зачем крепко держала за руку; она стояла пред ним и как бы впилась в него своим бешеным взглядом, – не беспокойтесь, ваша maman разглядит, что нельзя бросаться на умирающего человека… я готов разъяснить, почему я смеялся… очень буду рад позволению…
Тут он вдруг ужасно закашлялся и целую минуту не мог унять кашель.
– Ведь уж умирает, а всё ораторствует! – воскликнула Лизавета Прокофьевна, выпустив его руку и чуть не с ужасом смотря, как он вытирал кровь с своих губ. – Да куда тебе говорить! Тебе просто идти ложиться надо…
– Так и будет, – тихо, хрипло и чуть не шепотом ответил Ипполит, – я как ворочусь сегодня, тотчас и лягу… чрез две недели я, как мне известно, умру… Мне на прошлой неделе сам Б-н объявил… Так если позволите, я бы вам на прощанье два слова сказал.
– Да ты с ума сошел, что ли? вздор! Лечиться надо, какой теперь разговор! Ступай, ступай, ложись!.. – испуганно крикнула Лизавета Прокофьевна.
– Лягу, так ведь и не встану до самой смерти, – улыбнулся Ипполит, – я и вчера уже хотел было так лечь, чтоб уж и не вставать, до смерти, да решил отложить до послезавтра, пока еще ноги носят… чтобы вот с ними сегодня сюда прийти… только устал уж очень…
– Да садись, садись, чего стоишь! Вот тебе стул, – вскинулась Лизавета Прокофьевна и сама подставила ему стул.
– Благодарю вас, – тихо продолжал Ипполит, – а вы садитесь напротив, вот и поговорим… мы непременно поговорим, Лизавета Прокофьевна, теперь уж я на этом стою… – улыбнулся он ей опять. – Подумайте, что сегодня я в последний раз и на воздухе, и с людьми, а чрез две недели наверно в земле. Значит, это вроде прощания будет и с людьми, и с природой. Я хоть и не очень чувствителен, а, представьте себе, очень рад, что это всё здесь в Павловске приключилось: все-таки хоть на дерево в листьях посмотришь.
– Да какой теперь разговор, – всё больше и больше пугалась Лизавета Прокофьевна, – ты весь в лихорадке. Давеча визжал да пищал, а теперь чуть дух переводишь, задохся!
– Сейчас отдохну. Зачем вы хотите отказать мне в последнем желании?.. А знаете ли, я давно уже мечтал с вами как-нибудь сойтись, Лизавета Прокофьевна; я о вас много слышал… от Коли; он ведь почти один меня и не оставляет… Вы оригинальная женщина, эксцентрическая женщина, я и сам теперь видел… знаете ли, что я вас даже немножко любил.
– Господи, а я было, право, чуть его не ударила.
– Вас удержала Аглая Ивановна; ведь я не ошибаюсь? Это ведь ваша дочь Аглая Ивановна? Она так хороша, что я давеча с первого взгляда угадал ее, хоть и никогда не видал. Дайте мне хоть на красавицу-то в последний раз в жизни посмотреть, – какою-то неловкою, кривою улыбкой улыбнулся Ипполит, – вот и князь тут, и супруг ваш, и вся компания. Отчего вы мне отказываете в последнем желании?
– Стул! – крикнула Лизавета Прокофьевна, но схватила сама и села напротив Ипполита. – Коля, – приказала она, – отправишься с ним немедленно, проводи его, а завтра я непременно сама…
– Если вы позволите, то я попросил бы у князя чашку чаю… Я очень устал. Знаете что, Лизавета Прокофьевна, вы хотели, кажется, князя к себе вести чай пить; останьтесь-ка здесь, проведемте время вместе, а князь наверно нам всем чаю даст. Простите, что я так распоряжаюсь… Но ведь я знаю вас, вы добрая, князь тоже… мы все до комизма предобрые люди…
Князь всполошился, Лебедев бросился со всех ног из комнаты, за ним побежала Вера.
– И правда, – резко решила генеральша, – говори, только потише и не увлекайся. Разжалобил ты меня… Князь! Ты не стоил бы, чтоб я у тебя чай пила, да уж так и быть, остаюсь, хотя ни у кого не прошу прощенья! Ни у кого! Вздор!.. Впрочем, если я тебя разбранила, князь, то прости, если, впрочем, хочешь. Я, впрочем, никого не задерживаю, – обратилась она вдруг с видом необыкновенного гнева к мужу и дочерям, как будто они-то и были в чем-то ужасно пред ней виноваты, – я и одна домой сумею дойти…
Но ей не дали договорить. Все подошли и окружили ее с готовностью. Князь тотчас же стал всех упрашивать остаться пить чай и извинялся, что до сих пор не догадался об этом. Даже генерал был так любезен, что пробормотал что-то успокоительное и любезно спросил Лизавету Прокофьевну: «не свежо ли ей, однако же, на террасе?» Он даже чуть было не спросил Ипполита: «давно ли он в университете?», но не спросил. Евгений Павлович и князь Щ. стали вдруг чрезвычайно любезными и веселыми, на лицах Аделаиды и Александры выражалось, сквозь продолжавшееся удивление, даже удовольствие, одним словом, все были видимо рады, что миновал кризис с Лизаветой Прокофьевной. Одна Аглая была нахмурена и молча села поодаль. Осталось и всё остальное общество; никто не хотел уходить, даже генерал Иволгин, которому Лебедев, впрочем, что-то шепнул мимоходом, вероятно, не совсем приятное, потому что генерал тотчас же стушевался куда-то в угол. Князь подходил с приглашением и к Бурдовскому с компанией, не обходя никого. Они пробормотали, с натянутым видом, что подождут Ипполита, и тотчас же удалились в самый дальний угол террасы, где и уселись опять все рядом. Вероятно, чай уже был давно приготовлен у Лебедева для себя, потому что тотчас же и явился. Пробило одиннадцать часов.
X
Ипполит помочил свои губы в чашке чаю, поданной ему Верой Лебедевой, поставил чашку на столик и вдруг, точно законфузился, почти в смущении осмотрелся кругом.
– Посмотрите, Лизавета Прокофьевна, эти чашки, – как-то странно заторопился он, – эти фарфоровые чашки и, кажется, превосходного фарфора, стоят у Лебедева всегда в шифоньерке под стеклом, запертые, никогда не подаются… как водится, это в приданое за женой его было… у них так водится… и вот он их нам подал, в честь вас, разумеется, до того обрадовался…
Он хотел было еще что-то прибавить, но не нашелся.
– Сконфузился-таки, я так и ждал! – шепнул вдруг Евгений Павлович на ухо князю. – Это ведь опасно, а? Вернейший признак, что теперь, со зла, такую какую-нибудь эксцентричность выкинет, что и Лизавета Прокофьевна, пожалуй, не усидит.
Князь вопросительно посмотрел на него.
– Вы эксцентричности не боитесь? – прибавил Евгений Павлович. – Ведь и я тоже, даже желаю; мне, собственно, только, чтобы наша милая Лизавета Прокофьевна была наказана, и непременно сегодня же, сейчас же; без того и уходить не хочу. У вас, кажется, лихорадка.
– После, не мешайте. Да, я нездоров, – рассеянно и даже нетерпеливо ответил князь. Он услышал свое имя, Ипполит говорил про него.
– Вы не верите? – истерически смеялся Ипполит. – Так и должно быть, а князь так с первого разу поверит и нисколько не удивится.
– Слышишь, князь? – обернулась к нему Лизавета Прокофьевна, – слышишь?
Кругом смеялись. Лебедев суетливо выставлялся вперед и вертелся пред самою Лизаветой Прокофьевной.
– Он говорит, что этот вот кривляка, твой-то хозяин… тому господину статью поправлял, вот что давеча на твой счет прочитали.
Князь с удивлением посмотрел на Лебедева.
– Что ж ты молчишь? – даже топнула ногой Лизавета Прокофьевна.
– Что же, – пробормотал князь, продолжая рассматривать Лебедева, – я уж вижу, что он поправлял.
– Правда? – быстро обернулась Лизавета Прокофьевна к Лебедеву.
– Истинная правда, ваше превосходительство! – твердо и непоколебимо ответил Лебедев, приложив руку к сердцу.
– Точно хвалится! – чуть не привскочила она на стуле.
– Низок, низок! – забормотал Лебедев, начиная ударять себя в грудь и всё ниже и ниже наклоняя голову.
– Да что мне в том, что ты низок! Он думает, что скажет: низок, так и вывернется. И не стыдно тебе, князь, с такими людишками водиться, еще раз говорю? Никогда не прощу тебе!
– Меня простит князь! – с убеждением и умилением проговорил Лебедев.
– Единственно из благородства, – громко и звонко заговорил вдруг подскочивший Келлер, обращаясь прямо к Лизавете Прокофьевне, – единственно из благородства, сударыня, и чтобы не выдать скомпрометированного приятеля, я давеча утаил о поправках, несмотря на то что он же нас с лестницы спустить предлагал, как сами изволили слышать. Для восстановления истины признаюсь, что я действительно обратился к нему, за шесть целковых, но отнюдь не для слога, а, собственно, для узнания фактов, мне большею частью неизвестных, как к компетентному лицу. Насчет штиблетов, насчет аппетита у швейцарского профессора, насчет пятидесяти рублей вместо двухсот пятидесяти, одним словом, вся эта группировка, всё это принадлежит ему за шесть целковых, но слог не поправляли.
– Я должен заметить, – с лихорадочным нетерпением и каким-то ползучим голосом перебил его Лебедев, при распространявшемся всё более и более смехе, – что я поправлял одну только первую половину статьи, но так как в средине мы не сошлись и за одну мысль поссорились, то я вторую половину уж и не поправлял-с, так что всё, что там безграмотно (а там безграмотно!), так уж это мне не приписывать-с…
– Вот он о чем хлопочет! – вскричала Лизавета Прокофьевна.
– Позвольте спросить, – обратился Евгений Павлович к Келлеру, – когда поправляли статью?
– Вчера утром, – отрапортовал Келлер, – мы имели свидание с обещанием честного слова сохранить секрет с обеих сторон.
– Это когда он ползал-то перед тобой и уверял тебя в преданности! Ну, людишки! Не надо мне твоего Пушкина, и чтобы дочь твоя ко мне не являлась!
Лизавета Прокофьевна хотела было встать, но вдруг раздражительно обратилась к смеющемуся Ипполиту:
– Что ж ты, милый, на смех, что ли, вздумал меня здесь выставлять!
– Сохрани господи, – криво улыбался Ипполит, – но меня больше всего поражает чрезвычайная эксцентричность ваша, Лизавета Прокофьевна; я, признаюсь, нарочно подвел про Лебедева, я знал, как на вас подействует, на вас одну, потому что князь действительно простит, и, уж наверно, простил… даже, может, извинение в уме подыскал, ведь так, князь, не правда ли?
Он задыхался, странное волнение его возрастало с каждым словом.
– Ну?.. – гневно проговорила Лизавета Прокофьевна, удивляясь его тону, – ну?
– Про вас я уже много слышал, в этом же роде… с большою радостию… чрезвычайно научился вас уважать, – продолжал Ипполит.
Он говорил одно, но так, как будто бы этими самыми словами хотел сказать совсем другое. Говорил с оттенком насмешки и в то же время волновался несоразмерно, мнительно оглядывался, видимо путался и терялся на каждом слове, так что всё это, вместе с его чахоточным видом и с странным, сверкающим и как будто исступленным взглядом, невольно продолжало привлекать к нему внимание.
– Я бы удивился, совсем, впрочем, не зная света (я сознаюсь в этом), тому, что вы не только сами остались в обществе давешней нашей компании, для вас неприличной, но и оставили этих… девиц выслушивать дело скандальное, хотя они уже всё прочли в романах. Я, может быть, впрочем, не знаю… потому что сбиваюсь, но во всяком случае, кто, кроме вас, мог остаться… по просьбе мальчика (ну да, мальчика, я опять сознаюсь) провести с ним вечер и принять… во всем участие и… с тем… что на другой день стыдно… (я, впрочем, согласен, что не так выражаюсь), я все это чрезвычайно хвалю и глубоко уважаю, хотя уже по лицу одному его превосходительства, вашего супруга, видно, как всё это для него неприятно… Хи-хи! – захихикал он, совсем спутавшись, и вдруг так закашлялся, что минуты две не мог продолжать.
– Даже задохся! – холодно и резко произнесла Лизавета Прокофьевна, с строгим любопытством рассматривая его. – Ну, милый мальчик, довольно с тобою. Пора!
– Позвольте же и мне, милостивый государь, с своей стороны вам заметить, – раздражительно вдруг заговорил Иван Федорович, потерявший последнее терпение, – что жена моя здесь у князя Льва Николаевича, нашего общего друга и соседа, и что во всяком случае не вам, молодой человек, судить о поступках Лизаветы Прокофьевны, равно как выражаться вслух и в глаза о том, что написано на моем лице. Да-с. И если жена моя здесь осталась, – продолжал он, раздражаясь почти с каждым словом всё более и более, – то скорее, сударь, от удивления и от понятного всем современного любопытства посмотреть странных молодых людей. Я и сам остался, как останавливаюсь иногда на улице, когда вижу что-нибудь, на что можно взглянуть, как… как… как…
– Как на редкость, – подсказал Евгений Павлович.
– Превосходно и верно, – обрадовался его превосходительство, немного запутавшийся в сравнении, – именно как на редкость. Но во всяком случае мне всего удивительнее и даже огорчительнее, если только можно так выразиться грамматически, что вы, молодой человек, и того даже не умели понять, что Лизавета Прокофьевна теперь осталась с вами, потому что вы больны, – если вы только в самом деле умираете, – так сказать, из сострадания, из-за ваших жалких слов, сударь, и что никакая грязь ни в каком случае не может пристать к ее имени, качествам и значению… Лизавета Прокофьевна! – заключил раскрасневшийся генерал, – если хочешь идти, то простимся с нашим добрым князем и…
– Благодарю вас за урок, генерал, – серьезно и неожиданно прервал Ипполит, задумчиво смотря на него.
– Пойдемте, maman, долго ли еще будет!.. – нетерпеливо и гневно произнесла Аглая, вставая со стула.
– Еще две минуты, милый Иван Федорович, если позволишь, – с достоинством обернулась к своему супругу Лизавета Прокофьевна, – мне кажется, он весь в лихорадке и просто бредит; я в этом убеждена по его глазам; его так оставить нельзя. Лев Николаевич! мог бы он у тебя ночевать, чтоб его в Петербург не тащить сегодня? Cher prince,[21] вы скучаете? – с чего-то обратилась она вдруг к князю Щ. – Поди сюда, Александра, поправь себе волосы, друг мой.
Она поправила ей волосы, которые нечего было поправлять, и поцеловала ее; затем только и звала.
– Я вас считал способною к развитию… – опять заговорил Ипполит, выходя из своей задумчивости… – Да! вот что я хотел сказать, – обрадовался он, как бы вдруг вспомнив, – вот Бурдовский искренно хочет защитить свою мать, не правда ли? А выходит, что он же ее срамит. Вот князь хочет помочь Бурдовскому, от чистого сердца предлагает ему свою нежную дружбу и капитал, и, может быть, один из всех вас не чувствует к нему отвращения, и вот они-то и стоят друг пред другом как настоящие враги… Ха-ха-ха! Вы ненавидите все Бурдовского за то, что он, по-вашему, некрасиво и неизящно относится к своей матери, ведь так? так? так? Ведь вы ужасно все любите красивость и изящество форм, за них только и стоите, не правда ли? (Я давно подозревал, что только за них!) Ну, так знайте же, что ни один из вас, может, не любил так свою мать, как Бурдовский! Вы, князь, я знаю, послали потихоньку денег, с Ганечкой, матери Бурдовского, и вот об заклад же побьюсь (хи-хи-хи, истерически хохотал он), об заклад побьюсь, что Бурдовский же и обвинит вас теперь в неделикатности форм и в неуважении к его матери, ей-богу так, ха-ха-ха!
Тут он опять задохся и закашлялся.
– Ну, всё? Всё теперь, всё сказал? Ну, и иди теперь спать, у тебя лихорадка, – нетерпеливо перебила Лизавета Прокофьевна, не сводившая с него своего беспокойного взгляда. – Ах, господи! Да он и еще говорит!
– Вы, кажется, смеетесь? Что вы всё надо мною смеетесь? Я заметил, что вы всё надо мною смеетесь, – беспокойно и раздражительно обратился он вдруг к Евгению Павловичу; тот действительно смеялся.
– Я только хотел спросить вас, господин… Ипполит… извините, я забыл вашу фамилию.
– Господин Терентьев, – сказал князь.
– Да, Терентьев, благодарю вас, князь, давеча говорили, но у меня вылетело… я хотел вас спросить, господин Терентьев, правду ли я слышал, что вы того мнения, что стоит вам только четверть часа в окошко с народом поговорить, и он тотчас же с вами во всем согласится и тотчас же за вами пойдет?
– Очень может быть, что говорил… – ответил Ипполит, как бы что-то припоминая, – непременно говорил! – прибавил он вдруг, опять оживляясь и твердо посмотрев на Евгения Павловича. – Что ж из этого?
– Ничего ровно; я только к сведению, чтобы дополнить.
Евгений Павлович замолчал, но Ипполит всё еще смотрел на него в нетерпеливом ожидании.
– Ну, что ж, кончил, что ли? – обратилась к Евгению Павловичу Лизавета Прокофьевна. – Кончай скорей, батюшка, ему спать пора. Или не умеешь? (Она была в ужасной досаде.)
– Я, пожалуй, и очень не прочь прибавить, – улыбаясь продолжал Евгений Павлович, – что всё, что я выслушал от ваших товарищей, господин Терентьев, и всё, что вы изложили сейчас, и с таким несомненным талантом, сводится, по моему мнению, к теории восторжествования права, прежде всего и мимо всего, и даже с исключением всего прочего, и даже, может быть, прежде исследования, в чем и право-то состоит? Может быть, я ошибаюсь?
– Конечно, ошибаетесь, я даже вас не понимаю… дальше?
В углу тоже раздался ропот. Племянник Лебедева что-то пробормотал вполголоса.
– Да почти ничего дальше, – продолжал Евгений Павлович, – я только хотел заметить, что от этого дело может прямо перескочить на право силы, то есть на право единичного кулака и личного захотения, как, впрочем, и очень часто кончалось на свете. Остановился же Прудон на праве силы. В американскую войну многие самые передовые либералы объявили себя в пользу плантаторов, в том смысле, что негры суть негры, ниже белого племени, а стало быть, право силы за белыми…
– Ну?
– То есть, стало быть, вы не отрицаете права силы?
– Дальше?
– Вы таки консеквентны; я хотел только заметить, что от права силы до права тигров и крокодилов и даже до Данилова и Горского недалеко.
– Не знаю; дальше?
Ипполит едва слушал Евгения Павловича, которому если и говорил «ну» и «дальше», то, казалось, больше по старой усвоенной привычке в разговорах, а не от внимания и любопытства.
– Да ничего дальше… всё.
– Я, впрочем, на вас не сержусь, – совершенно неожиданно заключил вдруг Ипполит и, едва ли вполне сознавая, протянул руку, даже с улыбкой. Евгений Павлович удивился сначала, но с самым серьезным видом прикоснулся к протянутой ему руке, точно как бы принимая прощение.
– Не могу не прибавить, – сказал он тем же двусмысленно почтительным тоном, – моей вам благодарности за внимание, с которым вы меня допустили говорить, потому что, по моим многочисленным наблюдениям, никогда наш либерал не в состоянии позволить иметь кому-нибудь свое особое убеждение и не ответить тотчас же своему оппоненту ругательством или даже чем-нибудь хуже…
– Это вы совершенно верно, – заметил генерал Иван Федорович и, заложив руки за спину, с скучнейшим видом отретировался к выходу с террасы, где с досады и зевнул.
– Ну, довольно с тебя, батюшка, – вдруг объявила Евгению Павловичу Лизавета Прокофьевна, – надоели вы мне…
– Пора, – озабоченно и чуть не с испугом поднялся вдруг Ипполит, в замешательстве смотря кругом, – я вас задержал; я хотел вам всё сказать… я думал, что все… в последний раз… это была фантазия…
Видно было, что он оживлялся порывами, из настоящего почти бреда выходил вдруг, на несколько мгновений, с полным сознанием вдруг припоминал и говорил, большею частью отрывками, давно уже, может быть, надуманными и заученными, в долгие, скучные часы болезни, на кровати, в уединении, в бессонницу.
– Ну, прощайте! – резко проговорил он вдруг. – Вы думаете, мне легко сказать вам: прощайте? Ха-ха! – досадливо усмехнулся он сам на свой неловкий вопрос и вдруг, точно разозлясь, что ему всё не удается сказать, что хочется, громко и раздражительно проговорил: – Ваше превосходительство! Имею честь просить вас ко мне на погребение, если только удостоите такой чести и… всех, господа, вслед за генералом!..
Он опять засмеялся; но это был уже смех безумного. Лизавета Прокофьевна испуганно двинулась к нему и схватила его за руку. Он смотрел на нее пристально, с тем же смехом, но который уже не продолжался, а как бы остановился и застыл на его лице.
– Знаете ли, что я приехал сюда для того, чтобы видеть деревья? Вот эти… (он указал на деревья парка) это не смешно, а? Ведь тут ничего нет смешного? – серьезно спросил он Лизавету Прокофьевну и вдруг задумался; потом чрез мгновение поднял голову и любопытно стал искать глазами в толпе. Он искал Евгения Павловича, который стоял очень недалеко, направо, на том же самом месте, как и прежде, – но он уже забыл и искал кругом. – А, вы не ушли! – нашел он его наконец. – Вы давеча всё смеялись, что я в окно хотел говорить четверть часа… А знаете, что мне не восемнадцать лет: я столько пролежал на этой подушке, и столько просмотрел в это окно, и столько продумал… обо всех… что… У мертвого лет не бывает, вы знаете. Я еще на прошлой неделе это подумал, когда ночью проснулся… А знаете, чего вы боитесь больше всего? Вы искренности нашей боитесь больше всего, хоть и презираете нас! Я это тоже, тогда же, на подушке подумал ночью… Вы думаете, что я над вами смеяться хотел давеча, Лизавета Прокофьевна? Нет, я не смеялся над вами, я только похвалить хотел… Коля говорил, что вас князь ребенком назвал… это хорошо… Да, что бишь я… еще что-то хотел…
Он закрыл руками лицо и задумался.
– Вот что: когда вы давеча прощались, я вдруг подумал: вот эти люди, и никогда уже их больше не будет, и никогда! И деревья тоже, – одна кирпичная стена будет, красная, Мейерова дома… напротив в окно у меня… ну, и скажи им про всё это… попробуй-ка, скажи; вот красавица… ведь ты мертвый, отрекомендуйся мертвецом, скажи, что «мертвому можно всё говорить»… и что княгиня Марья Алексевна не забранит, ха-ха!.. Вы не смеетесь? – обвел он всех кругом недоверчиво. – А знаете, на подушке мне много мыслей приходило… знаете, я уверился, что природа очень насмешлива… Вы давеча сказали, что я атеист, а знаете, что эта природа… Зачем вы опять смеетесь? Вы ужасно жестокие! – с грустным негодованием произнес он вдруг, оглядывая всех. – Я не развращал Колю, – закончил он совершенно другим тоном, серьезным и убежденным, как бы вдруг тоже вспомнив.
– Никто, никто над тобой здесь не смеется, успокойся! – почти мучилась Лизавета Прокофьевна. – Завтра доктор новый приедет; тот ошибся; да садись, на ногах не стоишь! Бредишь… Ах, что теперь с ним делать! – хлопотала она, усаживая его в кресла. Слезинка блеснула на ее щеке.
Ипполит остановился почти пораженный, поднял руку, боязливо протянул ее и дотронулся до этой слезинки. Он улыбнулся какою-то детскою улыбкой.
– Я… вас… – заговорил он радостно, – вы не знаете, как я вас… мне он в таком восторге всегда о вас говорил, вот он, Коля… я восторг его люблю. Я его не развращал! Я только его и оставляю… я всех хотел оставить, всех, – но их не было никого, никого не было… Я хотел быть деятелем, я имел право… О, как я много хотел! Я ничего теперь не хочу, ничего не хочу хотеть, я дал себе такое слово, чтоб уже ничего не хотеть; пусть, пусть без меня ищут истины! Да, природа насмешлива! Зачем она, – подхватил он вдруг с жаром, – зачем она создает самые лучшие существа с тем, чтобы потом насмеяться над ними? Сделала же она так, что единственное существо, которое признали на земле совершенством… сделала же она так, что, показав его людям, ему же и предназначила сказать то, из-за чего пролилось столько крови, что если б пролилась она вся разом, то люди бы захлебнулись, наверно! О, хорошо, что я умираю! Я бы тоже, пожалуй, сказал какую-нибудь ужасную ложь, природа бы так подвела!.. Я не развращал никого… Я хотел жить для счастья всех людей, для открытия и для возвещения истины… Я смотрел в окно на Мейерову стену и думал только четверть часа говорить и всех, всех убедить, а раз-то в жизни сошелся… с вами, если не с людьми! и что же вот вышло? Ничего! Вышло, что вы меня презираете! Стало быть, не нужен, стало быть, дурак, стало быть, пора! И никакого-то воспоминания не сумел оставить! Ни звука, ни следа, ни одного дела, не распространил ни одного убеждения!.. Не смейтесь над глупцом! Забудьте! Забудьте всё… забудьте, пожалуйста, не будьте так жестоки! Знаете ли вы, что, если бы не подвернулась эта чахотка, я бы сам убил себя…
Он, кажется, еще много хотел сказать, но не договорил, бросился в кресла, закрыл лицо руками и заплакал как маленькое дитя.
– Ну, теперь что с ним прикажете делать? – воскликнула Лизавета Прокофьевна, подскочила к нему, схватила его голову и крепко-накрепко прижала к своей груди. Он рыдал конвульсивно. – Ну-ну-ну! Ну, не плачь же, ну, довольно, ты добрый мальчик, тебя бог простит, по невежеству твоему; ну, довольно, будь мужествен… к тому же и стыдно тебе будет…
– У меня там, – говорил Ипполит, силясь приподнять свою голову, – у меня брат и сестры, дети, маленькие, бедные, невинные… Она развратит их! Вы – святая, вы… сами ребенок, – спасите их! Вырвите их от этой… она… стыд… О, помогите им, помогите, вам бог воздаст за это сторицею, ради бога, ради Христа!..
– Говорите же наконец, Иван Федорович, что теперь делать! – раздражительно крикнула Лизавета Прокофьевна, – сделайте одолжение, прервите ваше величавое молчание! Если вы не решите, то было бы вам известно, что я здесь сама ночевать остаюсь; довольно вы меня под вашим самовластьем тиранили!
Лизавета Прокофьевна спрашивала с энтузиазмом и с гневом и ожидала немедленного ответа. Но в подобных случаях большею частию присутствующие, если их даже и много, отвечают молчанием, пассивным любопытством, не желая ничего на себя принимать, и выражают свои мысли уже долго спустя. В числе присутствующих здесь были и такие, которые готовы были просидеть тут хоть до утра, не вымолвив ни слова, например Варвара Ардалионовна, сидевшая весь вечер поодаль, молчавшая и всё время слушавшая с необыкновенным любопытством, имевшая, может быть, на то и свои причины.
– Мое мнение, друг мой, – высказался генерал, – что тут нужна теперь, так сказать, скорее сиделка, чем наше волнение, и, пожалуй, благонадежный, трезвый человек на ночь. Во всяком случае, спросить князя и… немедленно дать покой. А завтра можно и опять принять участие.
– Сейчас двенадцать часов, мы едем. Едет он с нами или остается у вас? – раздражительно и сердито обратился Докторенко к князю.
– Если хотите – останьтесь и вы при нем, – сказал князь, – место будет.
– Ваше превосходительство, – неожиданно и восторженно подскочил к генералу господин Келлер, – если требуется удовлетворительный человек на ночь, я готов жертвовать для друга… это такая душа! Я давно уже считаю его великим, ваше превосходительство! Я, конечно, моим образованием манкировал, но если он критикует, то ведь это перлы, перлы сыплются, ваше превосходительство!..
Генерал с отчаянием отвернулся.
– Я очень рад, если он останется, конечно, ему трудно ехать, – объявлял князь на раздражительные вопросы Лизаветы Прокофьевны.
– Да ты спишь, что ли? Если не хочешь, батюшка, так ведь я его к себе переведу! Господи, да он и сам чуть на ногах стоит! Да ты болен, что ли?
Давеча Лизавета Прокофьевна, не найдя князя на смертном одре, действительно сильно преувеличила удовлетворительность состояния его здоровья, судя по наружному виду, но недавняя болезнь, тяжелые воспоминания, ее сопровождавшие, усталость от хлопотливого вечера, случай с «сыном Павлищева», теперешний случай с Ипполитом, – все это раздражило больную впечатлительность князя, действительно, почти до лихорадочного состояния. Но кроме того, в глазах его теперь была еще и какая-то другая забота, даже боязнь; он опасливо глядел на Ипполита, как бы ожидая от него еще чего-то.
Вдруг Ипполит поднялся, ужасно бледный и с видом страшного, доходившего до отчаяния стыда на искаженном своем лице. Это выражалось преимущественно в его взгляде, ненавистно и боязливо глянувшем на собрание, и в потерянной, искривленной и ползучей усмешке на вздрагивавших губах. Глаза он тотчас же опустил и побрел, пошатываясь и всё так же улыбаясь, к Бурдовскому и Докторенку, которые стояли у выхода с террасы; он уезжал с ними.
– Ну, вот этого я и боялся! – воскликнул князь. – Так и должно было быть!
Ипполит быстро обернулся к нему с самою бешеною злобой, и каждая черточка на лице его, казалось, трепетала и говорила.
– А, вы этого и боялись! «Так и должно было быть», по-вашему? Так знайте же, что если я кого-нибудь здесь ненавижу, – завопил он с хрипом, с визгом, с брызгами изо рта (я вас всех, всех ненавижу!), – но вас, вас, иезуитская, паточная душонка, идиот, миллионер-благодетель, вас более всех и всего на свете! Я вас давно понял и ненавидел, когда еще слышал о вас, я вас ненавидел всею ненавистью души… Это вы теперь всё подвели! Это вы меня довели до припадка! Вы умирающего довели до стыда, вы, вы, вы виноваты в подлом моем малодушии! Я убил бы вас, если б остался жить! Не надо мне ваших благодеяний, ни от кого не приму, слышите, ни от кого, ничего! Я в бреду был, и вы не смеете торжествовать!.. Проклинаю всех вас раз навсегда!
Тут он совсем уж задохся.
– Слез своих застыдился! – прошептал Лебедев Лизавете Прокофьевне. – «Так и должно было быть!» Ай да князь! Насквозь прочитал…
Но Лизавета Прокофьевна не удостоила взглянуть на него. Она стояла гордо, выпрямившись, закинув голову и с презрительным любопытством рассматривала «этих людишек». Когда Ипполит кончил, генерал вскинул было плечами; она гневно оглядела его с ног до головы, как бы спрашивая отчета в его движении, и тотчас оборотилась к князю.
– Спасибо вам, князь, эксцентрический друг нашего дома, за приятный вечер, который вы нам всем доставили. Небось ваше сердце радуется теперь, что удалось вам и нас прицепить к вашим дурачествам… Довольно, милый друг дома, спасибо, что хоть себя-то дали наконец разглядеть хорошенько!..
Она с негодованием стала оправлять свою мантилью, выжидая, когда «те» отправятся. К «тем» в эту минуту подкатили извозчичьи дрожки, за которыми еще четверть часа назад Докторенко распорядился послать сына Лебедева, гимназиста. Генерал тотчас же вслед за супругой ввернул и свое словцо:
– Действительно, князь, я даже не ожидал… после всего, после всех дружественных сношений… и, наконец, Лизавета Прокофьевна…
– Ну как, ну как это можно! – воскликнула Аделаида, быстро подошла к князю и подала ему руку.
Князь с потерянным видом улыбнулся ей. Вдруг горячий, скорый шепот как бы ожег его ухо.







