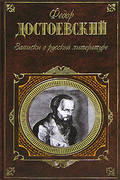Федор Достоевский
Скверный анекдот
Студент круто повернулся к нему, скорчил какую-то гримасу и, приблизив свое лицо к его превосходительству на близкое до неприличия расстояние, во все горло прокричал петухом. Это уже было слишком. Иван Ильич встал из-за стола. Несмотря на то, последовал залп неудержимого хохоту, потому что крик петуха был удивительно натурален, а вся гримаса совершенно неожиданна. Иван Ильич еще стоял в недоумении, как вдруг явился сам Пселдонимов и, кланяясь, стал просить к ужину. Вслед за ним явилась и мать его.
– Батюшка, ваше превосходительство, – говорила она, кланяясь, – окажите честь, не погнушайтесь нашей бедностью…
– Я… я, право, не знаю… – начал было Иван Ильич, – я ведь не для того… я… хотел было уже идти…
Действительно, он держал в руках шапку. Мало того: тут же, в это самое мгновение, он дал себе честное слово непременно, сейчас же, во что бы то ни стало уйти и ни за что не оставаться и… и остался. Через минуту он открыл шествие к столу. Пселдонимов и мать его шли перед ним и раздвигали ему дорогу. Посадили его на самое почетное место, и опять непочатая бутылка шампанского очутилась перед его прибором. Стояла закуска: селедка и водка. Он протянул руку, сам налил огромную рюмку водки и выпил. Он никогда прежде не пил водки. Он чувствовал, что как будто катится с горы, летит, летит, что надо бы удержаться за что-нибудь, но нет к тому никакой возможности.
Действительно, положение его становилось все более и более эксцентричным. Мало того: это была какая-то насмешка судьбы. С ним бог знает что произошло в какой-нибудь час. Когда он входил, он, так сказать, простирал объятия всему человечеству и всем своим подчиненным; и вот не прошло какого-нибудь часу, и он, всеми болями своего сердца, слышал и знал, что он ненавидит Пселдонимова, проклинает его, жену его и свадьбу его. Мало того: он по лицу, по глазам одним видел, что и сам Пселдонимов его ненавидит, что он смотрит, чуть-чуть не говоря: «А чтоб ты провалился, проклятый! Навязался на шею!..» Всё это он уже давно прочел в его взгляде.
Конечно, Иван Ильич даже и теперь, садясь за стол, дал бы себе скорее руку отсечь, чем признался бы искренно, не только вслух, но даже самому себе, что все это действительно точно так было. Минута еще вполне не пришла, и теперь еще было какое-то нравственное балансе. Но сердце, сердце… оно ныло! оно просилось на волю, на воздух, на отдых. Ведь слишком уж добрый человек был Иван Ильич.
Он ведь знал, очень хорошо знал, что еще давно бы надо было уйти, и не только уйти, но даже спасаться. Что все это вдруг стало не тем, ну совершенно не так обернулось, как мечталось давеча на мостках.
«Я ведь зачем пришел? Я разве затем пришел, чтоб здесь есть и пить?» – спрашивал он себя, закусывая селедку. Он даже приходил в отрицание. В душе его шевелилась мгновеньями ирония на собственный подвиг. Он начинал даже сам не понимать, зачем, в самом деле, он вошел?
Но как было уйти? Так уйти, не докончив, было невозможно. «Что скажут? Скажут, что я по неприличным местам таскаюсь. Оно даже и в самом деле выйдет так, если не докончить. Что скажет, например, завтра же (потому что ведь везде разнесется) Степан Никифорович, Семен Иваныч, в канцеляриях, у Шембелей, у Шубиных? Нет, надо так уйти, чтоб они все поняли, зачем я приходил, надо нравственную цель обнаружить… – А между тем патетический момент никак не давался. – Они даже не уважают меня, – продолжал он. – Чему они смеются? Они так развязны, как будто бесчувственные… Да, я давно подозревал все молодое поколение в бесчувственности! Надо остаться во что бы то ни стало!.. Теперь они танцевали, а вот за столом будут в сборе… Заговорю о вопросах, о реформах, о величии России… я их еще увлеку! Да! Может быть, еще совершенно ничего не потеряно… Может быть, так и всегда бывает в действительности. С чего бы только с ними начать, чтоб их привлечь? Какой бы это такой прием изобресть? Теряюсь, просто теряюсь… И чего им надо, чего они требуют?.. Я вижу, они пересмеиваются… Уж не надо мной ли, господи боже! Да чего мне-то надо… я-то чего здесь, чего я-то не ухожу, чего добиваюсь?..» Он думал это, и какой-то стыд, какой-то глубокий, невыносимый стыд все более и более надрывал его сердце.
Но все уж так и шло, одно к другому.
Ровно две минуты спустя, как он сел за стол, одна страшная мысль овладела всем существом его. Он вдруг почувствовал, что ужасно пьян, то есть не так, как прежде, а пьян окончательно. Причиною тому была рюмка водки, выпитая вслед за шампанским и оказавшая немедленное действие. Он чувствовал, слышал всем существом своим, что слабеет окончательно. Конечно, куражу прибавилось много, но сознание не оставляло его и кричало ему: «Нехорошо, очень нехорошо, и даже совсем неприлично!» Конечно, неустойчивые пьяные думы не могли остановиться на одной точке: в нем вдруг явились, даже осязательно для него же самого, какие-то две стороны. В одной был кураж, желание победы, ниспровержение препятствий и отчаянная уверенность в том, что он еще достигнет цели. Другая сторона давала себя знать мучительным нытьем в душе и каким-то засосом на сердце. «Что скажут? чем это кончится? что завтра-то будет, завтра, завтра!..»
Прежде он как-то глухо предчувствовал, что между гостями у него есть враги. «Это оттого, что я, верно, и давеча был пьян», – подумал он с мучительным сомнением. Каков же был его ужас, когда он действительно, по несомненнейшим признакам, уверился теперь, что за столом действительно были враги его и что в этом уже нельзя сомневаться.
«И за что! за что!» – думал он.
За этим столом поместились все человек тридцать гостей, из которых уже некоторые были окончательно готовы. Другие вели себя с какою-то небрежною, злокачественною независимостью, кричали, говорили все вслух, провозглашали преждевременно тосты, перестреливались с дамами хлебными шариками. Один, какая-то невзрачная личность в засаленном сюртуке, упал со стула, как только сел за стол, и так и остался до самого окончания ужина. Другой хотел непременно влезть на стол и провозгласить тост, и только офицер, схватив его за фалды, умерил преждевременный восторг его. Ужин был совершенно разночинный, хотя и нанимался для него повар, крепостной человек какого-то генерала: был галантир, был язык под картофелем, были котлетки с зеленым горошком, был, наконец, гусь, и под конец всего бламанже. Из вин было: пиво, водка и херес. Бутылка шампанского стояла перед одним генералом, что принудило его самого налить и Акиму Петровичу, который собственной своей инициативой за ужином уже не смел распорядиться. Для тостов же прочим гостям предназначалось горское или что попало. Самый стол состоял из многих столов, составленных вместе, в число которых вошел и ломберный. Накрыт он был многими скатертями, в числе которых была одна ярославская цветная. Гости сидели вперемежку с дамами. Родительница Пселдонимова сидеть за столом не захотела; она хлопотала и распоряжалась. Зато явилась одна злокачественная женская фигура, не показывавшаяся прежде, в каком-то красноватом шелковом платье, с подвязанными зубами и в высочайшем чепчике. Оказалось, что это была мать невесты, согласившаяся выйти наконец из задней комнаты к ужину. До сих пор она не выходила по причине непримиримой своей вражды к матери Пселдонимова; но об этом упомянем после. На генерала эта дама смотрела злобно, даже насмешливо, и, очевидно, не хотела быть ему представленной. Ивану Ильичу эта фигура показалась до крайности подозрительною. Но кроме нее и некоторые другие лица были подозрительны и вселяли невольное опасение и беспокойство. Казалось даже, что они в каком-то заговоре между собою, и именно против Ивана Ильича. По крайней мере ему самому так казалось, и в продолжении всего ужина он всё более и более в том убеждался. А именно: злокачествен был один господин с бородкой, какой-то вольный художник; он даже несколько раз посмотрел на Ивана Ильича и потом, повернувшись к соседу, что-то ему нашептывал. Другой, из учащихся, был, правда, совершенно уж пьян, но все-таки по некоторым признакам подозрителен. Худые надежды подавал тоже и медицинский студент. Даже сам офицер был не совсем благонадежен. Но особенною и видимою ненавистью сиял сотрудник «Головешки»: он так развалился на стуле, он так гордо и заносчиво смотрел, так независимо фыркал! И хоть прочие гости не обращали никакого особенного внимания на сотрудника, написавшего в «Головешке» только четыре стишка и сделавшегося оттого либералом, даже, видимо, не любили его, но когда возле Ивана Ильича упал вдруг хлебный шарик, очевидно назначавшийся в его сторону, то он готов был дать голову на отсечение, что виновник этого шарика был не кто другой, как сотрудник «Головешки».
Все это, конечно, действовало на него плачевным образом.
Особенно неприятно было и еще одно наблюдение: Иван Ильич совершенно убедился, что он начинает как-то неясно и затруднительно выговаривать слова, что сказать хочется очень много, но язык не двигается. Потом, что вдруг он как будто стал забываться и, главное, ни с того ни с сего вдруг фыркнет и засмеется, тогда как вовсе нечему было смеяться. Это расположение скоро прошло после стакана шампанского, который Иван Ильич хоть и налил было себе, но не хотел пить, и вдруг выпил как-то совершенно нечаянно. Ему вдруг после этого стакана захотелось чуть не плакать. Он чувствовал, что впадает в самую эксцентрическую чувствительность; он снова начинал любить, любить всех, даже Пселдонимова, даже сотрудника «Головешки». Ему захотелось вдруг обняться с ними со всеми, забыть все и помириться. Мало того: рассказать им все откровенно, все, все, то есть какой он добрый и славный человек, с какими великолепными способностями. Как будет он полезен отечеству, как умеет смешить дамский пол, и, главное, какой он прогрессист, как гуманно он готов снизойти до всех, до самых низших, и, наконец, в заключение, откровенно рассказать все мотивы, побудившие его, незваного, явиться к Пселдонимову, выпить у него две бутылки шампанского и осчастливить его своим присутствием.
«Правда, святая правда прежде всего и откровенность! Я откровенностью их дойму. Они мне поверят, я вижу ясно; они даже смотрят враждебно, но когда я открою им все, я их покорю неотразимо. Они наполнят рюмки и с криком выпьют за мое здоровье. Офицер, я уверен в этом, разобьет свою рюмку о шпору. Даже можно бы прокричать „ура!“. Даже если б покачать вздумали по-гусарски, я бы и этому не противился, даже и весьма бы хорошо было. Новобрачную я поцелую в лоб; она миленькая. Аким Петрович тоже очень хороший человек. Пселдонимов, конечно, впоследствии исправится. Ему недостает, так сказать, этого светского лоску… И хотя, конечно, нет этой сердечной деликатности у всего этого нового поколения, но… я скажу им о современном назначении России в числе прочих европейских держав. Упомяну и о крестьянском вопросе, да и… и все они будут любить меня, и я выйду со славою!..»
Эти мечты, конечно, были очень приятны, но неприятно было то, что среди всех этих розовых надежд Иван Ильич вдруг открыл в себе еще одну неожиданную способность: именно плеваться. По крайней мере слюна вдруг начала выскакивать из его рта совершенно помимо его воли. Заметил он это на Акиме Петровиче, которому забрызгал щеку и который сидел, не смея сейчас же утереться из почтительности. Иван Ильич взял салфетку и вдруг сам утер его. Но это тотчас же показалось ему самому до того нелепым, до того вне всего здравого, что он замолчал и начал удивляться. Аким Петрович хоть и выпил, но все-таки сидел как обваренный. Иван Ильич сообразил теперь, что уже чуть не четверть часа говорит ему о какой-то самой интереснейшей теме, но что Аким Петрович, слушая его, не только как будто конфузился, но даже чего-то боялся. Пселдонимов, сидевший через стул от него, тоже протягивал к нему свою шею и, наклонив набок голову, с самым неприятным видом прислушивался. Он действительно как будто сторожил его. Окинув глазами гостей, он увидал, что многие смотрят прямо на него и хохочут. Но страннее всего было то, что при этом он вовсе не сконфузился, напротив того, он хлебнул еще раз из бокала и вдруг во всеуслышание начал говорить.
– Я сказал уже, – начал он как можно громче, – я сказал уже, господа, сейчас Акиму Петровичу, что Россия… да, именно Россия… одним словом, вы понимаете, что я хочу ска-ка-зать… Россия переживает, по моему глубочайшему убеждению, гу-гуманность…
– Гу-гуманность! – раздалось на другом конце стола.
– Гу-гу!
– Тю-тю!
Иван Ильич было остановился. Пселдонимов встал со стула и начал разглядывать: кто крикнул? Аким Петрович украдкой покачивал головою, как бы усовещивая гостей. Иван Ильич это очень хорошо заметил, но с мучением смолчал.
– Гуманность! – упорно продолжал он. – И давеча… и именно давеча я говорил Степану Ники-ки-форовичу… да… что… что обновление, так сказать, вещей…
– Ваше превосходительство! – громко раздалось на другом конце стола.
– Что прикажете? – отвечал прерванный Иван Ильич, стараясь разглядеть, кто ему крикнул.
– Ровно ничего, ваше превосходительство, я увлекся, продолжайте! пра-дал-жайте! – послышался опять голос.
Ивана Ильича передернуло.
– Обновление, так сказать, этих самых вещей…
– Ваше превосходительство! – крикнул опять голос.
– Что вам угодно?
– Здравствуйте!
На этот раз Иван Ильич не выдержал. Он прервал речь и обратился к нарушителю порядка и обидчику. Это был один еще очень молодой учащийся, сильно наклюкавшийся и возбуждавший огромные подозрения. Он уже давно орал и даже разбил стакан и две тарелки, утверждая, что на свадьбе как будто бы так и следует. В ту минуту, когда Иван Ильич оборотился к нему, офицер строго начал распекать крикуна.
– Что ты, чего орешь? Вывести тебя, вот что!
– Не про вас, ваше превосходительство, не про вас! продолжайте! – кричал развеселившийся школьник, развалясь на стуле. – Продолжайте: я слушаю и очень, о-чень, о-чень вами доволен! Па-хвально, па-хвально.
– Пьяный мальчишка! – шепотом подсказал Пселдонимов.
– Вижу, что пьяный, но…
– Это я рассказал сейчас один забавный анекдот-с, ваше превосходительство, – начал офицер, – про одного поручика нашей команды, который точно так же разговаривал с начальством; так вот он теперь и подражает ему. К каждому слову начальника он все говорил: па-хвально, па-хвально! Его еще десять лет назад за это из службы выключили.
– Ка-кой же это поручик?
– Нашей команды, ваше превосходительство, сошел с ума на похвальном. Сначала увещевали мерами кротости, потом под арест… Начальник родительским образом усовещивал; а тот ему: па-хвально, па-хвально! И странно: мужественный был офицер, девяти вершков росту. Хотели под суд отдать, но заметили, что помешанный.
– Значит… школьник. За школьничество можно бы и не так строго… Я, со своей стороны, готов простить…
– Медициной свидетельствовали, ваше превосходительство.
– Как! Ана-то-мировали?
– Помилуйте, да он был совершенно живой-с.
Громкий и почти всеобщий залп хохоту раздался между гостями, сначала было державшими себя чинно. Иван Ильич рассвирепел.
– Господа, господа! – закричал он, на первое время даже почти не заикаясь. – Я очень хорошо в состоянии различить, что живого не анатомируют. Я полагал, что он в помешательстве был уже не живой… то есть умер… то есть я хочу сказать… что вы меня не любите… А между тем я люблю вас всех… да, и люблю Пор… Порфирия… Я унижаю себя, что так говорю…
В эту минуту преогромная салива[7] вылетела из уст Ивана Ильича и брызнула на скатерть, на самое видное место. Пселдонимов бросился обтирать ее салфеткой. Это последнее несчастье окончательно подавило его.
– Господа, это уж слишком! – прокричал он в отчаянии.
– Пьяный человек, ваше превосходительство, – снова было подсказал Пселдонимов.
– Порфирий! Я вижу, что вы… все… да! Я говорю, что я надеюсь… да, я вызываю всех сказать: чем я унизил себя?
Иван Ильич чуть не плакал.
– Ваше превосходительство, помилуйте-с!
– Порфирий, обращаюсь к тебе… Скажи, если я пришел… да… да, на свадьбу, я имел цель. Я хотел нравственно поднять… я хотел, чтоб чувствовали. Я обращаюсь ко всем: очень я унижен в ваших глазах или нет?
Гробовое молчание. В том-то и дело, что гробовое молчание, да еще на такой категорический вопрос. «Ну, что бы им, что бы им хоть в эту минуту прокричать!» – мелькнуло в голове его превосходительства. Но гости только переглядывались. Аким Петрович сидел ни жив ни мертв, а Пселдонимов, немея от страха, повторял про себя ужасный вопрос, который давно уже ему представлялся:
«А что-то мне за все это завтра будет?»
Вдруг сотрудник «Головешки», уже сильно пьяный, но сидевший до сих пор в угрюмом молчании, обратился прямо к Ивану Ильичу и с сверкающими глазами стал отвечать от лица всего общества.
– Да-с! – закричал он громовым голосом. – Да-с, вы унизили себя, да-с, вы ретроград…. Рет-ро-град!
– Молодой человек, опомнитесь! с кем вы, так сказать, говорите! – яростно закричал Иван Ильич, снова вскочив с своего места.
– С вами, и, во-вторых, я не молодой человек… Вы пришли ломаться и искать популярности.
– Пселдонимов, что это! – вскричал Иван Ильич.
Но Пселдонимов вскочил в таком ужасе, что остановился как столб и совершенно не знал, что предпринять. Гости тоже онемели на своих местах. Художник и учащийся аплодировали, кричали «браво, браво!».
Сотрудник продолжал кричать с неудержимою яростью:
– Да, вы пришли, чтоб похвалиться гуманностью! Вы помешали всеобщему веселью. Вы пили шампанское и не сообразили, что оно слишком дорого для чиновника с десятью рублями в месяц жалованья, и я подозреваю, что вы один из тех начальников, которые лакомы до молоденьких жен своих подчиненных! Мало того, я уверен, что вы поддерживаете откупа… Да, да, да!
– Пселдонимов, Пселдонимов! – кричал Иван Ильич, простирая к нему руки. Он чувствовал, что каждое слово сотрудника было новым кинжалом для его сердца.
– Сейчас, ваше превосходительство, не извольте беспокоиться! – энергически вскрикнул Пселдонимов, подскочил к сотруднику, схватил его за шиворот и вытащил вон из-за стола. Даже и нельзя было ожидать от тщедушного Пселдонимова такой физической силы. Но сотрудник был очень пьян, а Пселдонимов совершенно трезв. Затем он задал ему несколько тумаков в спину и вытолкал его в двери.
– Все вы подлецы, – кричал сотрудник, – я вас всех завтра же в «Головешке» окарикатурю!..
Все повскакали с мест.
– Ваше превосходительство, ваше превосходительство! – кричали Пселдонимов и его мать и некоторые из гостей, толпясь около генерала, – ваше превосходительство, успокойтесь!
– Нет, нет! – кричал генерал. – Я уничтожен… я пришел… я хотел, так сказать, крестить. И вот за все, за все!
Он опустился на стул, как без памяти, положил обе руки на стол и склонил на них свою голову, прямо в тарелку с бламанже. Нечего и описывать всеобщий ужас. Через минуту он встал, очевидно желая уйти, покачнулся, запнулся за ножку стула, упал со всего размаха на пол и захрапел…
Это бывает с непьющими, когда они случайно напьются. До последней черты, до последнего мгновенья сохраняют они сознание и потом вдруг падают как подкошенные. Иван Ильич лежал на полу, потеряв всякое сознание. Пселдонимов схватил себя за волосы и замер в этом положении. Гости стали поспешно расходиться, каждый по-своему толкуя о происшедшем. Было уже около трех часов утра.
Главное дело в том, что обстоятельства Пселдонимова были гораздо хуже того, чем можно было их представить, несмотря на всю непривлекательность и одной теперешней обстановки. И покамест Иван Ильич лежит на полу, а Пселдонимов стоит над ним, в отчаянии теребя свои волосы, прервем избранное нами течение рассказа и скажем несколько пояснительных слов собственно о Порфирии Петровиче Пселдонимове.