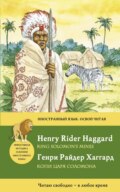Генри Райдер Хаггард
Дочь Монтесумы
Отоми умолкла. Собравшиеся в зале удивленно перешептывались: никто из них не подозревал, что в женском сердце может быть столько любви и мужества. Только Куитлауак пришел в ярость.
– Изменница! – вскричал он. – Ты предпочла любовника своей родине? Как ты осмелилась? Позор тебе, бесстыдная дочь императора! Видно, это у вас в крови – каков отец, такова и дочка! Разве Монтесума не бросил свой народ и не предпочел остаться среди теулей, ложных детей Кецалькоатля? А теперь и дочь идет по той же дорожке. Признайся, женщина, как тебе с любовником удалось спастись от смерти на теокалли, когда все остальные погибли? Может быть, ты уже в заговоре с теулями? Если бы дела шли по-другому, клянусь тебе, племянница, ты умерла бы рядом с этим человеком. Ты ведь этого хочешь? Этого?
Куитлауак задохнулся от гнева, и только глаза его продолжали метать молнии. Но Отоми не дрогнула. Бледная и спокойная, она стояла перед ним, крепко сжав руки и не поднимая глав.
– Не упрекай меня за силу моей любви, – ответила она. – Впрочем, упрекай, если хочешь, я сказала свое последнее слово. Можешь осудить этого человека на смерть, но тогда, повелитель, ищи другого посла, чтобы заставить отоми сражаться за Анауак. Куитлауак задумался, тяжело глядя в пространство перед собой и пощипывая бородку. Воцарилась мертвая тишина. Никто не знал, каким будет его решение.
Но вот он заговорил:
– Да будет так! Нам нужна моя племянница Отоми. Бороться с женской любовью неразумно. Теуль, мы дарим тебе жизнь, а вместе с ней богатство, честь, знатнейшую женщину нашей земли и место на нашем совете. Прими все это, но подумайте – я говорю вам обоим! – подумайте, как этим воспользоваться. Если ты нас предашь, если ты только задумаешь нам изменить, клянусь, ты умрешь самой медленной и такой страшной смертью, что при одной лишь мысли о ней сердце твое оледенеет! И с тобой умрут все – жена, дети, слуги. Ты понял? Покончим на этом. Пусть он принесет клятву.
Я слушал его, а сердце мое едва билось и глаза застилало туманом. Еще раз мне удалось спастись от неминуемой гибели!
Но вот туман рассеялся, и мои глаза встретились с главами женщины, которая меня спасла. Отоми, жена моя, смотрела на меня с грустной улыбкой.
Ко мне приблизился жрец. В руках у него была деревянная чаша, покрытая причудливой резьбой, и кремневый нож. Он заставил меня обнажить руку, сделал на ней надрез, так что кров брызнула в чашу, затем вылил из нее несколько капель на землю, бормоча какие-то заклинания. После этого жрец вопросительно посмотрел на Куитлауака, и тот, горько усмехнувшись, ответил ему:
– Освяти его кровью принцессы Отоми. Ведь она за него ручалась!
– Нет, повелитель! – возразил Куаутемок. – Они уже смешали свою кровь на жертвенном камне, а кроме того, они муж и жена. Но я тоже за него поручился, и я дам свою кровь, как залог моей жизни.
– У этого теуля хорошие друзья, – сказал Куитлауак. – Ты ему оказываешь слишком много чести, принц. Но пусть будет по-твоему!
Куаутемок вышел вперед. Жрец хотел надрезать ему руку ножом, но принц удержал его и со смехом проговорил, показывая на стреляную рану у себя на шее:
– Убери нож! Вот рана, нанесенная теулями. Словно нарочно для такого случая!
Сдвинув повязку, жрец собрал немного крови Куаутемока в другую маленькую чашу, затем обмакнул в нее палец и начертил у меня на лбу крест, словно христианский священник на лбу новорожденного.
– Перед ликом нашего бога, – медленно заговорил жрец, – именем бога всевидящего и вездесущего отмечаю тебя этой кровью, и да будет она твоей! Перед ликом нашего бога, именем бога всевидящего и вездесущего проливаю твою кровь на землю!
Тут он пролил часть моей крови и продолжал:
– Как эта кровь исчезла в земле, пусть исчезнет и будет забыта твоя прошлая жизнь, ибо ты вновь родился среди народа Анауака. Перед ликом нашего бога, именем бога всевидящего и вездесущего я смешиваю кровь с кровью, – жрец смешал кровь из обеих чаш, – и касаюсь этой кровью твоего языка, – обмакнув палец в чашу, он коснулся им кончика моего языка, – дабы ты мог повторить слова клятвы: «Пусть все страдания и болезни поразят меня, пусть проживу я всю жизнь в нищете и умру в мучениях страшной смертью, пусть душа моя будет изгнана из Обители Солнца, пусть она странствует вечно во мраке, лежащем за звездами, если преступлю эту клятву.
Я, теуль, клянусь в верности народу Анауака и его законным правителям. Клянусь сражаться со всеми его врагами, вплоть до их истребления, а особенно с теулями, покуда не будут они сброшены в море. Клянусь не гневить богов Анауака. Клянусь быть верным супругом Отоми, принцессы народа отоми, дочери Монтесумы, до конца ее дней. Клянусь не пытаться бежать из этой страны. Клянусь позабыть об отце и матери и о земле, на которой родился, ради этой земли, что стала мне новой родиной. И да будет клятва моя нерушима, пока из жерла Попокатепетля извергается дым и пламя, пока наши вожди царствуют в Теночтитлане, пока наши жрецы приносят жертвы на алтарях богов и пока существует народ Анауака.»
– Клянешься ли ты во всем этому? – возгласил жрец.
И мне пришлось ответить:
– Клянусь во всем.
Многое в этой клятве мне совсем не нравилось, однако делать было нечего. Но вот что примечательно! С той ночи не прошло и пятнадцати лет, как Попокатепетль перестал извергать дым и пламя, в Теночтитлане не осталось ни одного ацтекского вождя, жрецы перестали приносить жертвы на алтарях богов, народ Анауака перестал быть народом, и, следовательно, клятва моя утратила всякую силу и смысл. А ведь жрец перечислял все это как нечто самое незыблемое, нерушимое!
Когда я принес клятву, Куаутемок приблизился и обнял меня:
– Приветствую тебя, теуль, брат мой по крови и духу! – сказал он. – Теперь ты один из наших, и мы ждем от тебя совета и помощи. Садись со мной рядом.
Я недоверчиво взглянул на Куитлауака, но тот ответил мне с ласковой улыбкой:
– Теуль, судьба твоя решена. Мы тебя приняли, и ты принес великую клятву братства и верности. Нарушить ее – значит умереть страшной смертью и обречь себя на мучения на том свете. Забудь же обо всем, что было сказано, когда весы колебались, ибо чаша склонилась на твою сторону. Пока ты не дашь нам повода усомниться в тебе, в нас ты можешь не сомневаться. Отныне, как муж Отоми, – ты вождь среди вождей, наделенный богатством и властью, и можешь по праву сидеть на нашем совете рядом со своим братом Куаутемоком.
Я занял указанное мне место, и Отоми удалилась. Со мной было все решено. Куитлауак вернулся к насущным государственным делам.
Он говорил медленно, с трудом, и голос его не раз прерывался от горя. Он говорил о страшных бедствиях, обрушившихся на страну, о гибели сотен храбрейших ацтеков, об избиении жрецов и воинов на большом теокалли, о надругательстве над богами Анауака. Положение было отчаянное.
– Что делать? – спрашивал Куитлауак. – Монтесума умирает пленником в лагере теулей, а тем временем огонь, который он сам раздул, пожирает страну. Все усилия наши разбиваются о железную мощь этих белых дьяволов, вооруженных непонятным и страшным оружием. Каждый день приносит новые поражения. На что надеяться, когда боги свергнуты, когда их алтари залиты кровью жрецов, когда оракулы безмолвствуют или пророчат гибель?
Один за другим поднимались вожди и военачальники, высказывая свое мнение. Наконец, Куитлауак проговорил, глядя на меня:
– Среди нас находится новый член совета, опытный в военных делах и обычаях белых людей. Час назад он сам был одним из них. Может быть, он скажет что-нибудь утешительное? Говори, брат мой!
И тогда я заговорил:
– Высокородный Куитлауак, вожди я принцы! Вы оказали мне честь, спрашивая у меня совета. Я отвечу вам коротко. Вы зря тратите силы, бросая свои отряды против каменных стен и оружия теулей. Так вы их не одолеете. Чтобы добиться победы, нужно действовать по-другому. Испанцы не боги, как думают невежды, они обыкновенные люди, и ездят они не на демонах, а на обыкновенных вьючных животных. В стране, где я родился, эти животные служат для всевозможных целей. Испанцы, как я сказал, обыкновенные люди. А разве люди не испытывают жажды и голода? Разве они могут обходиться без сна? Разве их нельзя убить сотнями способов? И разве вы сами не видите, что они уже смертельно измучены? Пусть это будет моим словом утешения. Прекратите атаки и окружите лагерь теулей так плотно, чтобы ни к ним, ни к их союзникам тласкаланцам не проникало ни крошки пищи. Не пройдет и десяти дней, как они либо сдадутся, либо попытаются прорваться к побережью. Но для этого им придется сначала выйти из города. Если мы пересечем все дамбы рвами, теулям придется нелегко! И вот тогда, когда они попытаются вырваться, нагруженные золотом, которого они жаждали и ради которого сюда явились, тогда, повторяю, настанет час обрушиться на них и уничтожить всех до единого!
Ропот одобрения встретил мои слова.
– Похоже, что мы не ошиблись, сохранив жизнь этому человеку, – сказал Куитлауак. – Он говорит мудро, и я жалею только о том, что мы не действовали так с самого начала. Я готов последовать его совету. А что скажете вы, вожди?
– Мы скажем вместе с тобой: его слова мудры! – ответил Куаутемок. – Надо, чтобы они стали делом.
Вскоре после этого совет закончился, и на исходе ночи я отправился в свою комнату, полуживой от усталости и волнения, пережитого за эти сутки, полные всевозможных событий. На востоке уже разгоралась заря. Сумеречный свет ее помог мне отыскать дорогу среди безлюдных переходов дворца, и, наконец, я добрел до знакомого занавеса. Я откинул его и вошел. Там в дальнем конце комнаты стояла женщина. Призрачный свет мерцал на ее белоснежном одеянии, на ее распущенных иссиня-черных волосах и золотых украшениях. Это была Отоми, моя жена.
Я приблизился к ней. Она скользнула мне навстречу с простертыми вперед руками. Они обвились вокруг моей шеи, а губы ее запечатлели поцелуй на моем лбу.
– Свершилось, – прошептала она. – О, любовь моя, господин мой! К добру или к худу, но теперь мы одно до самой смерти, ибо наши клятвы нельзя нарушить.
– Поистине свершилось, Отоми, – ответил я, – и клятвы наши нерушимы на всю жизнь, хотя ради них я нарушил другую клятву.
Так я, Томас Вингфилд, стал супругом Отоми, принцессы народа отоми, дочери Монтесумы.
24. «Ночь печали»
Наутро, когда я проснулся, решение совета уже было исполнено: все мосты, соединявшие дамбы, разрушены, а сами дамбы, пересекающие озеро, подобно широким приподнятым над водой дорогам, перекопаны глубокими рвами.
К вечеру, облаченный в наряд индейского воина, я вместе с Куаутемоком и военачальниками отправился на переговоры с Кортесом. Кортес говорил с той самой башни, на которой стрела Куаутемока поразила Монтесуму. Переговоры ничего не дали, и я вспоминаю о них лишь потому, что впервые после того, как оставил Табаско, увидел вблизи Марину и услышал ее певучий и нежный голос. Она стояла, как обычно, рядом с Кортесом и переводила ацтекам его условия перемирия. Одно из них показало мне, что де Гарсиа не потратил времени зря. Кортес обещал отпустить несколько знатных ацтеков в обмен на белого человека, сбежавшего с жертвенного алтаря, которого испанцы хотели повесить как шпиона и дезертира, изменившего королю Испании.
«Интересно, – подумал я, – знает ли Марина, что „белый человек“ – это ее старый друг из Табаско?»
– Как видишь, тебе повезло, теуль, – со смехом обратился ко мне Куаутемок. – Если бы ты не стал одним из наших, твои собратья встретили бы тебя веревочной петлей!
Затем он ответил Кортесу, ни словом не упоминая обо мне. Он советовал испанцам готовиться к смерти.
– Многие из нас погибли, – говорил Куаутемок, – но и вы погибнете тоже. Теули, вы умрете от голода и жажды или на алтарях наших богов. Вам нет спасения, теули, ибо мосты разрушены!
И вся многотысячная толпа подхватила его слова:
– Вам не спастись, теули! Мосты разрушены!
Затем засвистели стрелы, и я вернулся во дворец, чтобы рассказать Отоми все, что мне удалось узнать о ее двух сестрах-заложницах и о ее отце. По словам испанцев, Монтесума лежал при смерти.
Я также поведал Отоми о происках своего врага. Она поцеловала меня и, улыбаясь, сказала, что, хотя отныне моя жизнь и связана с вей, это все-таки лучше, чем если бы я попал в руки испанцев.
Два дня спустя по городу разнесся слух о смерти Монтесумы, а вскоре после этого испанцы передали ацтекам для погребения его труп, облаченный в великолепные царственные одежды. Монтесуму перенесли в приемный зал дворца, а оттуда ночью переправили в Чапультепек и похоронили без всяких церемоний, опасаясь, как бы разъяренная толпа не растерзала на клочки даже его останки.
Стоя рядом с плачущей Отоми, я в последний раз видел лицо этого несчастнейшего из монархов, чье царствование началось так блистательно и кончилось так плачевно.
«Чьи горести могут сравниться с его страданиями? – думал я, глядя на мертвого императора. – Он умирал, лишенный власти и окруженный ненавистью своего народа, которому сам изменил. Он умирал пленником чужеземных хищников, терзающих сердце его родины. Понятно, почему Монтесума срывал повязки со своих ран и не давал себя перевязывать. Самая глубокая рана была у него в душе, и исцелить ее могло только одно лекарство – смерть. А ведь он был не так уж виноват! Трусливым и суеверным его сделали идолы, почитаемые им за богов, идолы, ныне низвергнутые вместе со своими жрецами. Если бы они не внушили Монтесуме тот непреодолимый ужас, который заставил его впустить испанцев в Теночтитлан, ацтеки оставались бы свободными еще долгие годы. Но, видно, судьба решила иначе: обесчещенный и ныне мертвый император был только ее орудием!»
Так размышлял я над телом великого Монтесумы, когда Отоми, сдерживая слезы, поцеловала покойного и воскликнула:
– Хорошо, что ты умер, отец мой, ибо все, кто тебя любил, не хотели тебя видеть в рабстве и унижении! Да пошлют мне твои боги силу отомстить за тебя! А если они не боги – я найду эту силу в себе. Клянусь тебе, отец, пока у меня останется хоть один воин, я буду мстить!
Не прибавив больше ни слова, Отоми взяла меня за руку, и мы удалились.
Этой своей клятве она была верна до конца.
В тот день и на следующий испанцы предприняли несколько вылазок, чтобы завалить сделанные нами разрывы в дамбах. Им удалось это сделать, правда, не без потерь, но едва они отступили, мы снова перекопали дамбы еще более глубокими рвами, так что усилия противника не привели ни к чему.
В эти дни я впервые принял участие в схватках. Мой английский лук сослужил мне добрую службу, и случилось так, что первая выпущенная из него стрела полетела в моего заклятого врага де Гарсиа. Но мне снова не повезло, хотя цель была превосходной. То ли от чрезмерного волнения, то ли с отвычки я взял слишком высоко, и наконечник стрелы пронзил самую верхушку его железного шлема, не причинив испанцу никакого вреда: он только покачнулся в седле – и все. Но и этот весьма скромный успех необычайно возвысил меня в глазах ацтеков. Лучники они были прескверные, и к тому же ни разу не видели, чтобы стрела пробивала испанские доспехи. Я бы тоже не смог этого сделать, если бы не подобрал тяжелые стрелы от испанских арбалетов и не приделал их железные наконечники к своим стрелам. Когда расстояние не слишком велико и цель хорошо видна, против такой стрелы не мог защитить ни один панцирь.
После первого боевого дня меня назначили военачальником отряда в три тысячи лучников. Теперь впереди меня носили мой боевой значок, сам я ходил в пышном облачении военного вождя. Но мне лично гораздо больше пришлась по душе кольчуга, снятая с убитого испанского всадника. В течение многих лет я всегда носил ее под стеганым хлопковым панцирем, и это не раз спасало мне жизнь, потому что даже пули не пробивали такую двойную броню.
Мне довелось командовать своими лучниками всего двое суток – срок слишком ничтожный, чтобы научить их дисциплине, о которой они имели весьма слабое представление, хотя каждый из них в отдельности был достаточно храбр. А затем пришло время бросить их в бой. Это случилось в ту самую роковую ночь, которую испанцы до сих пор называют «noche triste» – «Ночь печали»[23].
Вечером накануне во дворце собрался совет. Я выступил на нем и сказал, что теули наверняка попытаются вырваться из города и сделают это скорее всего под покровом темноты, потому что иначе они не пытались бы засыпать рвы в дамбах. Куитлауак, ставший после смерти Монтесумы императором, хотя еще и не коронованным, ответил мне, что теули, конечно, помышляют о бегстве, но никогда не осмелятся выступить ночью, ибо тогда они запутаются в лабиринте улиц и дамб.
Я возразил ему:
– Ацтеки не привыкли к ночным сражениям и переходам, но для белых людей они обычное дело. Вы уже могли в этом убедиться. Испанцы знают, что ночью ацтеки не воюют, и именно потому скорее всего постараются ускользнуть под прикрытием темноты, надеясь, что их враги будут в это время спать. Я советую поставить часовых в начале каждой дамбы.
Куитлауак согласился. Охрану дамбы, ведущей на Тлакопан, он поручил Куаутемоку и мне.
Ночью мы с Куаутемоком и несколькими воинами отправились в обход постов, установленных нами на дамбе. Время приближалось к полуночи. В кромешном мраке моросил мелкий дождь, и вокруг ничего не было видно, словно у нас в Норфолке осенью, когда землю по ночам окутывает туманная мгла. С трудом отыскали мы и сменили часовых, которые сказали, что все было спокойно. Лишь на обратном пути к большой площади я вдруг услышал неясный шум, похожий на звук сотен шагающих ног.
– Слушай! – проговорил я.
– Это теули, – шепотом ответил Куаутемок. – Они уходят?
Мы бросились бегом к улице, выходившей с большой площади на дамбу, и здесь даже сквозь темноту и дождь увидели тусклый блеск панцирей.
– К оружию! – закричал я страшным голосом. – К оружию! Теули уходят по дамбе на Тлакопан!
Часовые мгновенно подхватили мой призыв, и, переходя от поста к посту, он вскоре зазвучал по всему городу. Его выкрикивали на улицах и на каналах, он гремел с кровель домов и верхних площадок сотен храмов. Город с ропотом пробуждался. Воды озера забурлили под ударом десятков тысяч весел, словно бесчисленные стаи водяных птиц разом сорвались со своих тростниковых гнездовий. Повсюду, то здесь, то там, падающими звездами вспыхивали и угасали факелы, со всех сторон слышались дикий вой труб и хриплые звуки раковин, а над всем этим, надрываясь, гудел на теокалли барабан из змеиной кожи, в который неистово колотили жрецы. Скоро глухой ропот превратился в рев, и многочисленные отряды вооруженных ацтеков устремились к тлакопанской дамбе. Некоторые бежали по суше, однако большинство прибывало на челнах, сплошь покрывших все озеро, насколько хватал глаз.
Но вот появились испанцы. Их было тысячи полторы, да еще тысяч шесть-восемь тласкаланцев. Они вступили на дамбу, вытягиваясь в тонкую линию.
Куаутемок и я, собирая по пути воинов, бросились навстречу врагу, к первому каналу, пересекающему дамбу, где уже теснились десятки наших челнов. Авангард испанской колонны достиг тем временем противоположного берега канала, и сражение закипело.
Ацтеки дрались беспорядочно, без всякого плана. Военачальники в темноте не видели своих воинов, а те не слышали их приказов. Но ацтеков было бесчисленное множество, и в груди у каждого горело только одно желание – уничтожить теулей!
Загрохотала пушка, осыпав нас градом картечи, и при вспышке выстрела мы увидели, что испанцы перекидывают через канал заранее приготовленный переносный мост. Мы бросились на врага. Все смешалось. Каждый сражался теперь сам за себя.
Первый натиск испанцев расшвырял нас с Куаутемоком, как вихрь осенние листья, и хотя оба мы уцелели, в эту ночь нам больше не удалось встретиться. Вместе с нами и следом за нами по дамбе катился растянувшийся поток испанцев и тласкаланцев, в то время как ацтеки вгрызались во фланги продвигающейся с боем колонны, словно муравьи в раненого червя.
Как рассказать обо всем, что произошло в ту ночь? Я этого сделать не могу, потому что сам видел немного. Знаю только, что в течение двух часов я дрался как одержимый.
Врагам удалось пройти через первый канал, но переносный мост под их тяжестью осел и так увяз в грязи, что его уже невозможно было сдвинуть с места. А впереди через шестьсот ярдов дамбу пересекал второй канал, еще шире и глубже первого. Перебраться через него испанцы смогли бы, только завалив его трупами.
Казалось, все дьяволы сорвались с цепи и разбушевались на этой узенькой полоске земли. Гром пушек, мушкетов в аркебуз, предсмертные стоны и вопли ужаса, призывы испанских солдат и боевые кличи ацтеков, ржание раненых лошадей, плач женщин, свист дротиков, жужжание стрел и глухой шум ударов – все смещалось в дикую, отвратительную, потрясающую небеса какофонию. Словно обезумевшее стадо, длинная колонна испанцев с ревом металась из стороны в сторону. Многие скатывались с дамбы в озеро, и здесь в воде их либо убивали, либо втаскивали в челны и увозили, чтобы принести в жертву, другие тонули сами, но больше всего испанцев было затоптано в грязь и погибло при переходе каналов.
Сотни ацтеков тоже пали в этом бою, и большей частью от руки своих соплеменников, которые рассыпали в темноте удары, не зная, кому они достанутся, и стреляли из луков, не ведая, в чью грудь вонзятся их стрелы.
Я сражался вместе с небольшим отрядом собравшихся вокруг меня воинов до самого рассвета, когда первые лучи, наконец, озарили ужасающую картину боя. Оставшиеся в живых испанцы и их союзники перебрались через второй канал, заваленный трупами их соратников, пушками, остатками снаряжения и грузом сокровищ. Теперь сражение на дамбе кипело уже по ту сторону канала. Но часть испанцев и тласкаланцев еще пробивалась тесной толпой через второй страшный мост; на них-то я и напал со всеми своими воинами.
Я устремился в гущу врагов. Внезапно передо мной мелькнуло лицо де Гарсиа. Закричав, я бросился на него, и он узнал меня, оглянувшись на мой голос. С проклятием обрушил он свой тяжелый меч мне на голову, но клинок отколол только часть моего деревянного раскрашенного шлема и лишь ранил меня. Но, падая, я нанес де Гарсиа удар прямо в грудь своей боевой палицей и тоже сбил его с ног. Наполовину оглушенный и ослепленный ударом, я ползком пробирался к нему сквозь давку. Я ничего не видел, кроме его сверкающего в грязи панциря. Вцепившись в горло испанца, я подтащил его к краю дамбы, и мы вместе скатились в озеро. Здесь у самой дамбы было неглубоко. Оседлав своего врага, я с жестокой радостью отер кровь с лица, чтобы теперь-то разделаться с ним наверняка.
Все тело его было под водой, но голова лежала на выступе дамбы. Палицу свою я потерял, и единственное, что мне оставалось, – ото окунуть его с головой и держать в воде, пока он не захлебнется.
– Попался, де Гарсиа! – крикнул я по-испански, стискивая пальцы на его шее.
– Отпусти меня, ради бога! – прохрипел снизу грубый голос. – Болван, ты принял меня за индейского пса!
С удивлением уставился я на своего врага. Я схватил де Гарсиа, но голос был не его и лицо не его. Передо мной был обыкновенный огрубевший в походах испанский солдат.
– Кто ты? – спросил я, ослабляя хватку. – Куда делся де Гарсиа, – вы его называете Сарседой?
– Сарседа? Откуда я знаю! Минуту назад он валялся носом вверх на дамбе. Этот дурак подкатился мне под ноги, и я упал. Отпусти, говорят тебе! Я не Сарседа, но даже будь я им, разве сейчас время сводить личные счеты? Я твой товарищ Берналь Диас. Матерь божья! А ты кто? Ацтек, говорящий по-испански?
– Я не ацтек, – ответил я. – Я англичанин и сражаюсь за ацтеков только для того, чтобы убить этого Сарседу, как вы его зовете. Но к тебе у меня нет вражды. Вставай, Берналь Диас, и спасайся, если можешь. Нет, твой меч я оставлю себе.
– Англичанин, испанец, ацтек или сам черт, – проворчал Диас, выбираясь из тины, – кто бы ты ни был, ты добрый малый, и, клянусь, если я сегодня уцелею и когда-нибудь потом случайно схвачу за глотку тебя, я вспомню о твоей услуге. Прощай!
Не прибавив больше ни слова, он вскарабкался по откосу дамбы и нырнул в поток отступающих, оставив свой добрый меч у меня в руках. Я хотел последовать за ним, чтобы отыскать де Гарсиа, который снова ушел от расплаты, но силы меня оставили. Рана была слишком глубока. Истекая кровью, я сидел в воде до тех пор, пока не подошел челн и меня не отвезли к Отоми. Ей пришлось ухаживать за мной целых десять дней, прежде чем я снова смог встать на ноги.
Таково было мое участие в «Ночи печали». Увы, наша победа ничего не дала, несмотря на то, что в ту ночь пало более пятисот испанцев и тысячи их союзников. Ацтеки не имели никакого понятия ни о военном искусстве, ни о дисциплине и не сумели воспользоваться своим преимуществом. Вместо того, чтобы преследовать испанцев и уничтожить их всех до последнего, они бросились грабить мертвых и вылавливать из озера живых для своих жертвоприношений.
Отоми эта ночь отмщения тоже принесла много горя. Два ее брата, сыновья Монтесумы, которых испанцы захватили в качестве заложников, погибли во время отступления.
Что касается де Гарсиа, то я так и не узнал, уцелел он тогда или нет.