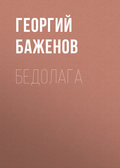Георгий Баженов
Яблоко раздора. Уральские хроники
В 45-м Иван сказал себе: брата из жизни вон; это решение было слепым от боли. Жену он простил, брата нет. Почему?
Он думал, кажется, об этом не переставая. Он представлял, что, если бы он простил обоих, жизнь, вероятно, не была бы такой тяжелой. Но он не хотел этого. Да и что могло остановить Григория и Машу продолжать начатое? Совесть? Но ее у них не было. Он твердо, после всего передуманного, верил в это, потому что именно совести не было у них в тот первый раз. Любовь к нему? Но разве не любя единственного брата, Ивана, предавал его Григорий, и разве не любя его, мужа, изменила ему навсегда Маша? Нет, в них верить было нельзя, в обоих; ничто, никакая сила не может заставить предателя снова стать честным человеком: раз предавший, предаст во второй раз, потому что сила не предавать нужна именно в первый, а не во второй, не в третий раз. Тогда почему, не простив брата, он простил жену? Он не знал этого, но предчувствовал, что простил и не простил правильно. Маша была единственным человеком, без которого он не мог уже жить: он любил ее больше правды их отношений. Он простил жену не потому, что ее можно было простить, но потому, что иначе жить невозможно: и без нее невозможно, и не простив невозможно…
Он, конечно, не верил, будто Григорий взял ее силой. Какая-то искорка все время светилась в нем, что случившееся не случайно, что неспроста произошло предательство. И когда глядел он на спящую Машу, на ее лицо, губы, закрытые глаза, ресницы, спокойный свежий румянец, то понимал, что все это ложь… ложь – такое в нем было ощущение, как ненависть! То, что, возможно, неспроста, что часть сердца Маша отдала Григорию искренне, еще более мучило Ивана…
Как сидели молча, так и продолжали сидеть; ни встать, уйти, ни быть вместе в одной комнате – они не могли, но первое, встать и уйти, требовало особенного усилия – на него не хватало мужества.
Много воды утекло, как жизнь разделила братьев, но в своем отношении к случившемуся Григорий оставался прежним; он понимал, что был виноват, но не казнил себя, потому что виноват был не в том, в чем осуждал его брат. Так думал он. Он думал и порой искренне спрашивал себя, что, если бы довелось вновь пережить минуты 45-го года: вот он приехал на родину, вот он с отцом, братом, Машей, а вот в лесу, на рыбалке, вот за ширмой он видит Машу, вот, когда полная луна и звезды светили вверху, он приходит к Маше, вот снова переживает все то, что пережил в доме, рядом со спящей женщиной… – довелись воскресить эти минуты, разве вновь не случилось бы того, что случилось?! Он отвечал: да, случилось бы! Никогда прежде и после не был он так счастлив, не испытывал тех чувств, того волнения, радости, какие пришлось испытать тогда. Он помнил, что был как во сне все то время, но какой это сон – страшный ли, злой ли, несправедливый или горький, – он не знал, кроме того, что он неповторим – ибо был истинным счастьем. Перед братом он виноват, но разве виноват он перед самим собой? Разве, как все люди, не имел права на счастье? И если счастье это, помимо воли его, разрушило жизнь других, – разве он виноват в этом? Перед братом он виноват лишь как перед братом, но не как перед человеком. Брат – человек, и он – человек, каждому в жизни своя судьба, и только чистая случайность построила короткое счастье Григория на несчастье именно Ивана, не другого человека. Будь то не брат, а другой – испытал ли хоть какие-то угрызения совести, хоть какую-то вину в душе? Никогда в жизни.
Часто удивлялся Григорий, как не понимал того же Иван. Конечно, он не мог и не может понять всего, потому что не все знает, но все-таки… Отчего, думая о себе, Маше, Иван думал только хорошее или такое, что оправдывает и прощает их, а о брате никогда не подумает справедливо.
А может, он просто не знает, что то была любовь?
Когда он начинал думать так, то вина его исчезала совсем. Он начинал жалеть брата – и жалость эта, понимал он, была бы унизительной для Ивана. Григория поражала самоуверенность брата, дикая и нелепая его вера в нее, в Машу. Он боготворил Машу, он простил ее, но боготворил бы, простил бы он ее, знай всю правду? Вероятно, ему и в голову не приходило, что Маша сказала Григорию: «Люблю!» Она рассказала Григорию, что отец ее погиб на фронте в самом начале сорок четвертого года, после этого мать стала задумчивой, рассеянной, иногда даже заговаривалась… Кончилось все ужасно: однажды на заводе мать попала по рассеянности под дрезину, ей переломало все ребра, сплющило грудь… На третьи сутки жестоких мучений она умерла на глазах у дочери: Маша потеряла интерес к миру, осунулась, похудела, почти все время лежала в постели в холодном, голодном доме, безучастно глядя в одну точку… В это время – время ранней весны – к ней начал приходить мальчик Ваня, был добрый, ухаживал за ней… Домик Маши стоял на окраине поселка, недалеко от лесничества, и всякий раз Ваня обязательно приносил ей что-нибудь из еды. Особенно ей запомнились вечера, когда Ваня возвращался из леса то с глухарем, то с тетеркой, а то и просто с вальдшнепом, если охота не удавалась… Потом он подолгу сидел у печи, красные языки пламени мерцали на его бледном мальчишечьем лице, а в чугуне побулькивало варево…
Она ничего не хотела ни есть, ни пить, но он силой заставлял ее пить крепкий глухариный навар. Навар не нравился ей, казался горьким и непривычным на вкус… но если бы не эти бульоны, если бы не безмерная доброта Вани – разве бы она была сейчас жива? Он спас ее, а потом – и это вышло как-то само собой – взял в жены. Она не знала еще, что такое любовь, она думала, что благодарность, которую испытывала к мальчику, и есть любовь, и вышла за мальчика замуж. Но не только за доброту, как оказалось, любят человека. За что? Она не знала. Она только позже почувствовала, что полюбила по-настоящему Григория, враз. И все.
Вероятно, ни до чего другого Иван не додумался, кроме как представить, что Григорий взял ее силой. Если бы хоть каплю правды знал он! Если бы видел, как сама протянула к нему руки… потому что любила! Если бы мог он это представить! А если сказать ему? Вот сейчас? Если открыть ему глаза на правду?.. Нет, такого не мог сделать Григорий. Во что бы верил, чем бы жил, какой бы еще иллюзией питался этот его самоуверенный, любимый им брат? Какому бы человеку смог еще верить?..
Убить одним словом брата Григорий не мог. Пускай, решил он, Иван презирает меня, ненавидит, пускай простил жену, а его не простил, пускай живут они, в самом деле, счастливо, пусть все у них будет хорошо…
Правды он не скажет. Не скажет ее Ивану и жена: он погибнет тогда. Оба они знали об этом.
– Вот так, брат… – сказал, наконец, Григорий.
Много пробежало времени, а были сказаны всего лишь эти три слова.
Григорий налил себе водки и выпил.
Выпил, налив себе, и Иван. Но ничего не сказал. Сморщившись от боли и напряжения, собрав все силы, он вдруг резко поднялся с табуретки и вышел от брата навсегда, тихо закрыв за собой дверь.
Наутро сестра разбудила Ивана: «Вставай, Ваня, Ванечка, вставай…» Он проснулся и посмотрел на нее глазами, которых как будто и не закрывал во всю ночь.
– Гриша уезжает… пойди, Ванечка, попрощайся…
Иван с отчаяния, что сестра так жестока и непонятлива, глубоко простонал: «Нет у меня брата! Не-ет!..»
И отвернулся к стене.
Глава седьмая
Слава уехал, и для Лии начались мучительные дни… Она ходила на работу, машинально принимала и отправляла телеграммы, за неделю похудела, глаза стали какие-то затуманенные, словно прикрытые маслянистой пленкой. Никто, правда, не обращал на это внимания, считали, что так и должно быть: она скучает, страдает, ей тяжело…
Она, действительно, страдала, было ей тяжело, но по мужу не скучала… Однажды вечером, вдруг проснувшись, она услышала в себе страстный протест против случившегося, против того, что замужем, что Слава ее муж, что она его жена… Она его ненавидела. Ненавидела так же глубоко теперь, как любила, казалось ей, в день свадьбы… О нет, она смогла бы ждать, она готова была ждать сколько угодно… но как любить, как ждать теперь? Как помнить его хорошим, добрым, любящим?..
Он оказался совсем не тот, совсем не тем… как же она заблуждалась! Не прошло и недели, как он уехал, а она, мучимая и многого не понимавшая до того, поняла: он ей не верил! Он не поверил ей с самого начала их общей жизни: он нарочно женился перед самым отъездом, чтобы, не трогая ее, знать и быть уверенным два года, что она его, только его – и ни за что не изменит ему. Измени она – и сразу будет ему известно. Сколько в этом холодного расчета, лицемерия, неверия в нее, в ее любовь, в ее способность ждать! – ужасалась она. Сколько эгоизма, жестокости, животного страха! Как собственность приобрел он ее, запер в доме на два года, чтобы потом, вернувшись, наверняка знать, что от собственности не убыло ни грамма, что собственность цела, невредима – можно пользоваться ею на полную катушку. Когда она думала, что именно такими, холодными, страшными были мысли мужа, когда он улыбался ей, когда целовал ее, когда говорил нежные, горячие слова, то все переворачивалось в ней, протестовало, кричало не своим голосом; хотелось исчезнуть с земли, не быть никогда – а между тем приходилось жить, потому что сил умереть в ней не было. А приходилось жить – приходилось и мучиться всем тем, чем мучилась, приходилось десятки раз на день проходить, как по раскаленным углям босыми ногами, по тем же самым мыслям, что были и тревожили день, два, три дня назад…
Не верил… Не верит… Не поверил! Но почему? За что? В чем виновна она? Какое преступление совершила, за что так жестоко, страшно ранил ее?.. Нет, он не любит ее, не любил никогда… потому что, если бы любил, то верил бы безгранично…
Когда 13 ноября со свекром случился сердечный приступ и его тотчас положили в больницу, она почувствовала, оставшись одна в пустом огромном доме, странное облегчение… В последние дни, только потому, что он отец Славы, она возненавидела его так же искренне, как мужа. Григорий Иванович не понимал причины ее озлобленности, даже ненависти – а все это только-только после свадьбы, когда глядела она на всех, на него тоже, счастливыми, благодарными глазами, – не понимал и очень мучился. Сердце его сдавало не на шутку, а тут еще внезапная озлобленность Лии…
Но на первом же свидании, будто спохватившись, Лия нашла в себе нежность к Григорию Ивановичу, была с ним ласкова, добра – и глаза ее искренне светились тем же.
Женское чутье подсказало ей, что Григорий Иванович очень плох…
Зато с матерью дошло до скандала. Когда Надежда Тимофеевна приезжала из поселка на Красную Горку, так коса находила на камень.
– Ты стала просто невозможна! – не выдержала однажды мать.
– Зато вы все хороши! Да, да! – закричала Лия.
– Да что с тобой, маленькая? – Надежда Тимофеевна хотела еще что-то сказать, но Лия перебила:
– Не называй меня маленькой! Не называй, не называй!..
– Ну, знаешь ли! – рассердилась вдруг мать. – Это просто неприлично… какой-то глупый каприз взбалмошной девчонки! Тебе должно быть стыдно.
– А мне не стыдно! Знай – мне нисколечко, ни капельки не стыдно!
– Извини меня… – дрогнувшим голосом сказала мать. – Но в тебе, кажется, совсем совести не осталось… – Надежда Тимофеевна вот-вот должна была заплакать… – А все это твой Слава, любимый твой муж, я уверена, не оправдывайся, не протестуй!.. Я говорила тебе, говорила!..
Жестче удара мать не могла и придумать для Лии. Лия задохнулась и испытала к матери острый приступ брезгливости, отвращения и вражды.
– Мама… – прошептала она, и слово это, сказанное странно-неопределенным тоном, повисло в воздухе. Лия закрыла лицо руками и под ладошками оно затряслось у нее тихо и исступленно; так не плакала она никогда – без слез. Они брызнули позже, побежали горячими струйками…
– Лиинька, – опомнилась мать. – Родная… девочка моя, прости меня… ради Бога…
Лия открыла лицо, поглядела через слезы на мать и, ничего не увидев, бросилась вон…
А в другое время она начинала вспоминать свадьбу, но видела и слышала как будто совсем другое, чем тогда. То, что раньше происходило незамеченным, едва услышанным, теперь вдруг приобретало значение, силу, важность. Ведь слышала она, в ту, первую ночь, слышала ведь какой-то шум во дворе, но совсем не придала ему значения. А это, как рассказывали позже, Коля Смагин пришел и начал барабанить в дверь. Он был пьян. Он кричал: «Откройте, откройте же! Пустите меня!.. Что они делают, что делают! Пустите, я не хочу, не хочу! Я люблю ее, люблю! Пустите!..» Дверь ему открыли и начали успокаивать, стыдить, но он никого не хотел слушать и все повторял, вырываясь из дружеских рук: «Пустите, я люблю ее! Она знает… Пустите! Я пропал… что делают, Боже мой!..» В это время Слава Никитушкин сидел на веранде один, слышал все и пил водку – и как много уже времени назад хотелось ему встать, подойти и показать «хлюпику» кулак с фигой. Но он не вышел…
А успокоила тогда Колю Тома, они тоже когда-то вместе учились, ходили в школу и из школы. Коля относился к ней, как к другу, защищал ее, но чаще как раз защищала она его. Он слушался ее во всем, но – любя другую – был, конечно, жесток и несправедлив к ней. Все равно она любила его законченной, навсегда верной любовью…
Она-то и успокоила Колю, подошла откуда-то со стороны:
– Коля, не надо все это… пойдем…
– Томочка! – взмолился он. – Тома!
– Да, да… – говорила она ласково. – Зря, Коленька, это уже зря… поздно… ничего не поделаешь, Коленька. А так не надо… так не надо…
– Тома! – не соглашался, но уже подчинялся он. – Хоть ты скажи им, ты!..
– Да, да, Коленька, – говорила Тома. – Все правильно., здесь уже спят, отдыхают… и тебе пора спать… правда? Правда, миленький, правда…
Он кивал, протестуя в душе.
– Ну вот… вот и хорошо… пойдем, я провожу тебя, уложу спать. Пойдем, Коленька…
И так, постепенно, слово за словом, она успокоила его, увела от всех.
В эту ночь, так и не уйдя от него, она сделалась его навечно. Он пожалел ее – и принял, задыхаясь от жалости к самому себе, в свою жизнь…
А когда-то темными летними вечерами, взявшись за руки, Коля и Лия гуляли вместе. Пахло в полях мокрой травой, ромашками… Они нравились друг другу, чистая, еще детская радость переполняла их. Целоваться, кроме одного раза, они еще не целовались, а тот, первый раз – каким страшным и жгучим вспоминался тот первый раз! Он боялся, ему было стыдно положить руку на ее плечо, обнять, стыдно любое, неизвестное еще прикосновение к ней… И все-таки, в тот вечер, он еще раз обнял ее – и вместо того, чтобы поцеловать нежно, осторожно, сделал нечаянно больно. Она не обиделась.
– Смешной какой ты, Коля! – засмеялась она. – Какой же ты смешной!..
Тогда, подождав немного, он решился снова – и снова она позволила целовать себя. Он не сказал тогда, что готов ради нее на все. Не успел…
Когда они подходили к поселку, вышел навстречу Слава Никитушкин с тремя парнями, которых Коля не знал.
– Вы тут разберитесь, – показал Славка на Колю. – А я пока с девушкой поговорю… – Он усмехнулся.
Трое встали напротив Коли и начали теснить его, а Слава Никитушкин остался с Лией, не пускал ее никуда, когда она порывалась оскорбиться и уйти.
– Но позвольте! – протестовал Коля, поправляя очки. – Как же так? Послушайте, вы же люди!..
Один из парней вытянул правый кулак из кармана и показал Коле плексигласовый кастет с острыми зубьями.
– Видишь это? – спросил он. – Вот тебе люди… – И уже зло добавил: – Давай катись отсюда, пока цел!..
Впервые в жизни Коля узнал, что такое настоящий страх. Это было односложное, унизительное чувство, оскорбляющее в человеке лучшее, искреннее, настоящее… И, однако, односложное чувство было сильней всех других, с ним ни справиться, ни бороться Коля не мог. С одной стороны, он должен был броситься вперед, должен защищать Лию, несмотря ни на что, с другой – защищать ее он не мог, потому что все равно его изобьют. Очень простая ситуация: или быть избитым и остаться ни с чем, или не быть избитым и тоже остаться ни с чем. Однако в первом случае он остался бы уважаем Лией, а во втором – а во втором случае за него рассуждал только страх. Страх говорил ему, что Лия должна, обязана все понимать, как должна и понять, что защитить ее он никак не может, потому что это бесполезно. Понимая это, она сама не захочет, чтобы он был за здорово живешь избит, а потому, даже если он не бросится вперед, она в своем отношении к нему не изменится.
Но Лия не размышляла о Коле, а испытывала еще больший, чем он, страх. Но у нее хоть была надежда – Коля!..
А Коля, пятясь, еще сопротивлялся тихо, протестовал – но когда кастет острыми зубьями подносили к его подбородку,
Колю охватывал ужас. Он должен был шагнуть вперед, но шагал назад… Он только представлял, как шагнет вперед, драться с врагами – и тотчас почти физически ощущал удар кастетом, острыми зубьями, в подбородок… Когда он упадет, его будут бить еще… Какой смысл тогда, для чего тогда сопротивляться, шагать вперед? – никакого!.. Но ведь и уйти, вот так просто, трусливо пятясь, он тоже не может – и пока рассуждал, что не может, сам пятился… Он видел, что Лия все дальше и дальше от него, стоит рядом со Славкой, который никуда ее не пускает; как оставить ее одну? Ведь они могут такое натворить, такое натворить… чего только не могут натворить эти головорезы!.. Кровь стучала у него в висках, кулаки сжимались – а разум понимал, что он бессилен, слаб, бессмыслен в своей внутренней борьбе. Он должен был драться, но не дрался, потому что это бесполезно и для него и для Лии, в то же время он не должен был оставлять Лию, потому что оставлять ее одну ну никак нельзя, а он все-таки оставлял… Кажется, он уже не помнил и страха; только дикое, протестующее отчаяние – отчаяние, что бессилен, что мир так нелепо устроен, что никто его не поймет, а если и поймет, то не оправдает, а если оправдает, то не простит… Поймет ли Лия, простит ли?
Лия не простила… Больше никогда уже не ходила с Колей и, кажется, презирала его… Мать Лии, Надежда Тимофеевна, так и не могла понять, что произошло у них. Только в одном она была убеждена: Коля Смагин гораздо лучше многих других, а уж тем более – Славы Никитушкина.
Но кто знает, какие мысли, какое отчаяние и страх, какие вообще чувства испытала и пережила Лия, оставшись тогда одна?
Кто мог ее обвинять в чем-то?
Вспоминая свадьбу, Лия действительно вспоминала нечто другое, что видела, слышала, ощущала в то время. Только теперь она поняла истинный смысл шума во дворе, и поразила ее простая мысль: есть люди, которые любят ее по-настоящему. Не в том дело, что любил ее Коля, которого она любить никак не могла и которого даже уважать не смела, а в том, что она не умела разобраться, кто любит ее, а кто нет. Возможно, кроме Коли, она оттолкнула от себя еще не одного парня – а где они теперь? Никого нет, она одна. Одна…
Так проходили дни, кончался уже ноябрь…
Как вдруг однажды, будто от долгого сна, Лия очнулась и отчетливо поняла: что-то должно случиться… Если ничего не случится, если все будет идти по-прежнему, если не произойдет какого-либо взрыва и ее не встряхнет – она сойдет с ума, или умрет, или…
Надежда на случай, который, казалось, все может изменить, повернуть ее жизнь, заставить бороться за другую, более лучшую и счастливую долю, странно успокаивала и будоражила ее. Потому что, в самом деле, не может все идти, как идет, не может продолжаться, как продолжается…
Эти мысли не оставляли ее целый день, а к вечеру, когда пошла на работу, она была уже уверена, что или сегодня – или никогда… Что сегодня? что никогда? – она не знала. Что бы ни было – но сегодня или никогда…
Но прошел час, два, три на работе, мимо нее сотни людей пронесли свои чемоданы, десятки отправили обычные и срочные телеграммы, простучал колесами не один уже пассажирский поезд, случились тысячи маленьких и больших событий, – но ничто не имело никакого отношения к Лии. Все, что ни происходило, происходило само по себе и само для себя, а все, что было Лией, было отдельным, независимым, никому не нужным миром… Лия начала сомневаться в своих надеждах – и как только начала, так почувствовала себя в тысячу раз несчастней, чем была несчастна до того. Как будто отпуская в воду канат, стремительно уходящий вглубь, она отпускала свою надежду, но, спохватившись, вновь подхватывала канат, ободрала себе руки, но надежду задержала. Не быть с надеждой до конца, до последнего мига – просто невозможно, и снова, ободренная, сидела Лия за окошечком телеграфа и надеялась…
На солдата, сидевшего в углу, она не обратила поначалу внимания, но вскоре почувствовала, что кто-то пристально смотрит на нее. Она глазами поискала человека и встретилась взглядом с солдатом, он ей по-хорошему улыбнулся… Она рассердилась, нахмурилась, но сердце застучало живей, потому что – Бог его знает – может, это и есть случай?.. Когда во второй раз она встретила его глаза, то на улыбку ответила своей, неопределенной и смущенной… Но как только она улыбнулась, солдат перестал на нее смотреть: ему, верно, надо было увидеть ее улыбку – и все. Лия не верила этому, украдкой несколько раз взглядывала на него – но солдат был тот же: не обращал на нее внимания, думал что-то свое и пил глотками вино. Она глядела на него уже требовательно, раздраженно, пугаясь, что так и не посмотрит солдат снова, а он действительно не смотрел и, кажется, не собирался смотреть. Ему было скучно. «Что же он такой?» – думала она. Тогда гнев и требовательность она сменила на просьбу, – и он отвлекся от своего, увидел ее глаза: они были открыты и сердечны. «Что же ты такой?» – стояло в ее глазах. Но он, гордый, снова долго и упорно не смотрел на нее, а когда, наконец, посмотрел, когда, казалось ей, она вот-вот уже возненавидит его, он улыбнулся ей в открытую – и она тоже улыбнулась ему…
Дядя Евгения, Григорий Иванович Никитушкин, умер вовремя.