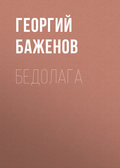Георгий Баженов
Яблоко раздора. Уральские хроники
– Так она уж вот-вот, на днях, может, и приедет…
– Тем более – значит, очень скоро все станет на свои места. Понятно вам теперь, Александра Петровна, что о вас товарищи побеспокоились?
– А как же, понятно… большое спасибо. Можно, значит, пойти?
– Ну да, конечно. Поставьте вот здесь подпись. И можно вас поздравить с получением ордера.
Петровна опять было склонилась над книгой, нацелилась ручкой и вдруг тихонько, не поднимая головы, спросила:
– А без подписи, выходит, никак нельзя?
– Как без подписи?! Да вы что, Александра Петровна, в самом-то деле?! Я ведь вам столько объясняла…
– За то спасибо, конешно. Но сами посудите… – Петровна подняла глаза, жалобно сиявшие горечью и мукой. – Аня-то приедет, а я што скажу? Комнату, мол, получила. Выходит, и не хочу я жить с ними… как же так-то? А я как раз наоборот… вся душа к ним прикипела… мне без них и жизнь зазря получается. Вот как…
– Александра Петровна, как же вы не понимаете! Да ведь вы…
– Вы уж извините, а я… я, пожалуй што, пойду… вот как… – И с этими словами Петровна неожиданно поднялась со стула и направилась к выходу. – До свиданьица.
– Как?! Куда же вы?! – встала из-за стола Яновская. – Да постойте же…
– А значит, так, – серьезно проговорила Петровна, обернувшись в дверях. – Не сегодня-завтра Аня приедет, мы и ответим свое. А без Ани мне мало што понятно, а обижать ее – это мне никак не под силу… – И старуха вышла из комнаты.
Глава вторая
– Уйди… не могу я, не могу! – Аня не противилась, не отталкивала его, но сидела как в воду опущенная, полуотвернувшись к окну, низко опустив голову. – Господи, как ты меня мучаешь… и ведь стыдно-то как, сты-ы-ыдно…
Он все понимал и терзался не меньше ее, в то же время ничего нельзя было поделать с собой. Он с трудом оторвал свои губы от пульсирующей на ее исхудавшей шее голубоватой жилки, медленно открыл глаза, с тяжелой тоской выдохнул воздух.
– Не можешь? – потерянно прошептал он, как бы вовсе не спрашивая, а утверждая.
– Не могу, Яша… – Она повернулась к нему, из глаз ее навстречу ему засочились глухая горечь, любовь, мука, он любил эти глаза больше всего на свете, в них светились правда и преданность, в них укором стояла память, проклятая и светлая память.
– Я понимаю, – сказал он. – Я завидую.
Осторожный, нежный ее палец лег ему на губы:
– Не надо…
Он чувствовал губами легкое прикосновение ее пальца, вдыхал горчащий запах шершавой кожи, подрагивая то верхней, то нижней губой, как бы лаская ее палец. На самом деле это пульсировала в надкусанных его губах кровь. Он снова без сил закрыл глаза, ощущая ломящую боль в висках, отчего брови поневоле нахмурились, сдвинулись к переносице, и он чуть покачал головой, словно хотел убаюкать свою боль. Палец ее скользнул с его губ, упал на подбородок, уютно лег в ямочке, поросшей жесткой щетиной, и сдержать себя было для нее сейчас выше их общей муки, она два-три раза провела мягкой округлостью пальца по его ямочке, что-то в нем задрожало и сдвинулось, левой рукой он потянулся к ее собранным на затылке волосам, неощутимо привлек к себе ее голову и смотрел на Аню широко открытыми, молящими о любви глазами. Волна томности нахлынула на нее, палец соскользнул с подбородка, горячая влажная ладонь легла на загорелый, открытый от распахнутой рубахи треугольник его груди, поросший седоватыми колечками волос… Она почувствовала, как пальцы его напряглись и больно вжались в ее затылок, и эта боль не была болью, а была желанна, Аня подалась на его чувство, которое сама только что вызвала в нем, глаза ее слёзно подёрнуло дымкой, и теперь она смотрела на Яшу его же глазами – молящими о любви, о прощении. В какую-то долю секунды она еще видела, как веки его медленно опустились, а губы были уже совсем рядом и были ослаблены, и когда доля этой секунды отлетела в вечность, Аня уже сама была с закрытыми глазами, ощущая пока еще холодными губами горячие губы Яши. Она с силой, с трудом оторвалась от него, когда дышать было совсем нечем, широко открыла рот и быстро-глубоко вдохнула несколько раз воздух; Яша в нетерпении снова поймал ее губы на полувдохе, и опять она отдалась поцелую, с обмирающей в душе покорностью чувствуя, что нет в ее сердце ни стыда, ни защиты от этого наваждения. Он целовал ее такими изнуряюще долгими поцелуями, что вскоре она перестала сознавать, кто она, где она, зачем она, только покой и истома и необоримое желание блаженства, глухое моление Богу: Боже мой, Боже мой, Бо-о… «Бо-о-ольно!» – вдруг тихо вскрикнула она, и этот для нее самой неожиданный крик пронзил ее память так, будто игла вошла в сердце. Яша подергивал ее лифчик, никак не давалась застежка, маленькая и верткая под дрожащими пальцами; застежка больно впилась в тело, Аня вскрикнула, и вместе с этим вскриком жалящая укором мысль пронеслась в ней: «Кольша был не такой. И в ту же секунду ей стало мерзостно от самой себя, от обоюдной этой похоти, страсть схлынула, будто ее и не было.
– Уйди… уйди же! – с решимостью оттолкнула она Яшу двумя руками; он упал на постель навзничь, ошарашенно глядя на нее и почернев в лице от унижения. – Уйди! – повторила она не то что голосом, а злобным шепотом.
Он медленно поднялся с постели, в который раз выругивая себя в душе черным матом, кляня себя за эту прихотливую и постыдно-беспомощную любовь, кляня судьбу за то, что когда-то она свела их всех вместе. «Мать твою и в Бога, и в душу!» – шептали его губы, пока он непослушными руками надевал пиджак, шарф, полушубок, нахлобучивал шапку.
В дверях он замедлил жесткий свой шаг, остановился. И так стоял, дожидаясь, скажет ли она хоть слово, или он так и уйдет, с замутнённой, как прежде и как всегда, душой. Она молчала. Было непосильное искушение обернуться, взглянуть на нее и, если что, пусть даже упасть на колени, лишь бы не чувствовать удушающей сердце вины, которая и не была виной, а была одним лишь обманом. Она молчала. Он резко шибанул рукой дверь и вышел из комнаты, грохоча в передней коваными сапогами.
Она молчала, сидя с поникшей головой, уронив отяжелевшие руки между колен, и напряженно вслушивалась почти с умалишенным выражением на лице, как удаляется грохот его сапог. Каждый раз исступленно казалось, что это конец, что это даже больше, чем конец – это, быть может, начало выздоровления, уход от муки и любви, приход к освобождению и надежде. Но и этого ничего не было никогда и никогда не будет. С этой мыслью, которая гнетом сдавливала и без того отяжелевшее сердце, она как подкошенная упала на постель, уткнулась лицом в подушку, так и не освобождая стиснутых между колен рук, и, вовсе не замечая ни неудобства, ни боли в напряженных предплечьях, громко зарыдала. Голова ее сотрясалась, как сотрясается повозка на булыжной мостовой – безжалостно, остервенело, вкривь-вкось; отчаянное рыдание, ударяясь о подушку, опахивало ее лицо горячей одурью, а слезы и рыдания все больше безумили ее, застилали сознание, и нельзя было даже самой понять сейчас до конца, отчего так горячо она плачет – тут одно на одно, накопленное, наслоившееся, истерзавшее душу и сердце.
Нет, не о жизни она сейчас рыдала, а в который уже раз оплакивала то, что должно было быть ее жизнью и что стало пропастью и тяжелым сном. Она знала, она давно поняла, что все былое – не суд ей и не судья и никак не может вершить всю судьбу женскую – от начала и до конца, и все же пока что именно былое решало ее жизнь. И через это безумие она не в силах была перешагнуть, память была ее мукой, но мука эта была ее совестью, а совесть и есть весь человек во всей его подлинности. И она рыдала сейчас с таким безысходным надрывом, столько муки и отчаяния выплескивала наружу вместе с плачем, что вскоре совсем обессилела и неожиданно, будто нырнув в небытие, провалилась в сон, взявший ее глубоко и крепко. Яркий до болезненности румянец проступил пятнами на ее щеках и висках, в правом уголке губ натянулась тонкой глянцевитой паутинкой запекшаяся слюна, изъеденные слезами веки грузно отяжелели, старчески сморщенно нависнув над дымными под глазами полукружьями теней… Через минуту-две Аня уже крепко спала…
На вахту она ехала ни с кем не разговаривая. Это бывало с ней, находило такое – как сыч замыкалась в себе, хмуро глядя исподлобья в одну какую-нибудь нацеленную точку. Ребята привыкли, хотя помнили ее и другой – веселой, беспощадной на расправу, если уж попался ей на язычок. Но это еще когда был жив Кольша…
Вахту Яша принял с мрачной сосредоточенностью: на Аню даже не взглянул, когда она, проседая в снегу, отправилась по сугробам в свою котельную.
– Врубились! – с той же мрачной, почти даже злобной сосредоточенностью, с ходу скомандовал Яша.
«Будет сегодня!» – переглянулись Базиль с Ерохиным.
Ревет электропривод… Надсадно скрежещет трос лебедки, многотонным камнем ахает вниз элеватор, бряцают запоры замков, звенит как будто выстреленная вверх свеча, с бешенством набрасывается на тело свечи автоматический ключ, сотрясая глубинное нутро буровой вышки – шум, грохот, скрежет, звон, рев моторов, сипение пара, бряцание замков и цепей, безжалостный северный морозец, жгучие нахлесты ветра – и темп, безостановочный темп, ускоряющийся темп работы… Под ногами надоедливо взрастает наледь, Яша с остервенением бьет каблуками кирзы по обкатистому нахолмию – летят по сторонам брызги льда. Ноги сейчас как бы живут отдельно от бурильщика, им надо – они и следят, скользко или твердо на рабочей площадке; самое главное – твои руки и твои глаза: руки и глаза бурильщика – его судьба.
– Спуск-подъем! Врубились!
Полувзгляд первого помбура: «Базиль вас понял». Разудалая улыбка третьего помбура Сашки Ерохина, жест Вовчика на «полатях» – вахта готова к подъему инструмента, много слов не надо.
Яша врубает рычаг – болванка элеватора стремительно несется вниз; легкие довороты рычага – усмиряется бешеный танец скорости, элеватор плавно наплывает на торчащую из скважины свечу. Базиль с Сашкой толкают замок на тело свечи – щелкают затворы, свеча захвачена. Новый поворот рычага – со скрежетом и стоном потянул элеватор из чрева земли громадину двухтысячеметровой колонны, вытянул на длину одной свечи – на двадцать четыре с хвостиком метра, – и тут уж стоп, родная, Яша дожимает тормоз до упора. Только еще содрогнулась свеча от резкого толчка остановки, а уж Базиль на своем пульте дает ход автоматическому ключу, со змеиной стремительностью бросается ключ к свече, железными челюстями перехватывает ее горло и ловко, вертко, как лампу из патрона, выкручивает свечу из колонны. А уж там, наверху, на «полатях», Вовчик захлестнул свечу жгутом, будто аркан на нее набросил. Поднялась малость свеча наверх, нижний ее ок-рай обхватили Базиль с Сашкой и, налегая телом, прижимаясь брезентухой к синюшной, в потеках раствора, родной свечечке, загнали торец в свободный угол площадки. Еще дожим рычага – свеча плюхается на свое законное место, а вверху, на «полатях», Вовчик подтягивает уже верхний окрай к себе и пристраивает его вдоль «пальца». Одна свеча на месте.
Свеча за свечой, минута за минутой, час за часом, без отдыха, без перерыва на обед, в задубевших брезентухах, чумазые, с паутинцей морозного инея на бровях и ресницах, обожженные ветром, с растекающейся ватностью в мышцах, ребята выдают на-гора всю многотонную громаду разъемного в свечи инструмента, пока не проклевывается из зева скважины долгожданное долото…
– Базиль, новое!
Открутили старое долото – а новое не подходит. Яша попробовал резьбу на ощупь.
– Резьба дрянь. Меняем переводник.
Сменили.
– Спуск, ребята. Врубились!
Девяносто свечей, громада метров и металла, девяносто сигарообразных спаренных труб нетерпеливо ожидали, когда их одна за одной вгонят в глубинное чрево скважины. Ничего не поделаешь – через каждую сотню метров приходится поднимать и опускать инструмент – менять долото. Не заменишь – не забуришься дальше, заменишь – продвинешься внутрь земли на сотнягу метров.
Яша «стреляет» элеватором ввысь, Вовчик наверху загоняет свечу в мертвый по хватке замок, Яша легонько вирает свечу, а в это время Базиль с Сашкой накатывают свечу на резьбу турбобура. Яша врубает ключ – свеча, как будто намасленная внутри, прокручивается в замке.
– Не берет! Мать твою… – ругнулся Базиль.
Яша вывел ключ в сторону, захлестнул инструмент в скважине пневмоклиньями.
– Проверь «сухарики»! – показал Базилю. – Да не так, не так… – пробурчал недовольно и сам шагнул к автоматическому ключу и вдруг неловко поскользнулся, задев рукой трос…
Слабо закрепленный в проушине, боковой крюк резко сорвался и с лету ударил его по голове, чуть ниже каски; веером брызнула кровь.
– Сука-а… – захлебнулся стоном Яша, горестно сморщившись, не понимая еще, что с ним случилось. И тут же, как подкошенный, повалился на колени; тело его обмякло, повиснув на инструменте.
– Чего стоишь, дура! – заорал Базиль на осоловевшего от страха Ерохина. – А ну, держи… – Подхватив Яшу под руки, они стащили его с инструмента и положили прямо на залитую раствором площадку.
– Платок! Ну! Или… чего там…
Базиль сдернул с Яши каску, кровь, казалось, хлестанула из раны ручьем.
– Живей, ну… копаешься-а-а!..
Сашка скинул с себя робу, дерганул с головы свитер, рубаху, взялся за майку…
– Рубаху… давай рубаху!
Базиль распластал рубаху на длинные лоскуты и, как мог, обмотал Яше голову.
– Братцы, чего такое?! – По лесенке, с «полатей», как кошка, свалился на площадку Вовчик.
– Тихо, не ори… не видишь?! – прикрикнул Базиль. – А ну, взяли… Стоп! – Сам себя остановил Базиль. – Сашка, дуй к Ане. Скажи… понял?..
Сашка кивнул и кубарем скатился вниз, побежал к котельной.
Базиль с Вовчиком подхватили Яшу и осторожно понесли с вышки; верхняя губа у Вовчика прыгала.
Они еще только подносили Яшу к будке, когда увидели, как из котельной, перемахивая сугробы, в расстегнутой настежь телогрейке, без шапки, бежала к ним Аня.
Она налетела на них как коршун, вцепилась в Яшу, им стало не под силу, и они опустили его на землю, на снег.
Аня упала с ним рядом, на колени, так и не выпуская из окостеневших рук брезентухи Яши, впиваясь взглядом в серо-мглистое лицо, словно пронзая его мольбой: «Что такое, что случи-и-илось, что-о?!.»
Наконец, когда ее прорвало, и она дико закричала:
– Не хочу, не хочу-у!.. – они, не обращая на нее внимания, разом подняли Яшу и понесли в будку.
– Вызывай машину! – Базиль жестом показал Сашке Ерохину на «Теслу». – Скажи: так и так…
– Ага, понял… – Руки у Сашки дрожали.
* * *
– Я думала, это все… конец… Я бы умерла.
– Ну что ты… – Он благодарно, ласково гладил ее тяжелой ослабевшей рукой. – Ну, ударило разок… бывает.
– Ты не видел себя… Как смерть был.
– Скажешь тоже, – улыбнулся Яша какой-то детски недоверчивой, удивленной улыбкой: он как-то не представлял себя мертвым. – Ну, потерял сознание… а вы уж… навыдумывали…
– Ты не понимаешь… Я… я бы не выдержала… я не знаю, что бы с собой сделала. Я не хочу больше, не хочу, не хочу! – На кончиках ее ресниц задрожали слезы.
– Глупая… Ну, я же живой? Ну и вот… и не надо плакать, не надо расстраиваться, моя родная.
– Господи, если бы ты знал… вся душа перевернулась во мне. Так и пронзило: «Что же я наделала?! Это я, я! Он из-за меня… я замучила его…»
– Ну, вот еще… случайно вышло, поскользнулся… сам виноват, крюк не закрепили.
– Ничего ты не понимаешь. Ничего…
Он гладил рукой ее волосы, а она с каким-то тайным испугом и одновременно с прорвавшейся наконец открытой нежностью в глазах вглядывалась в его лицо, как бы не до конца еще веря, что все обошлось. Ну, полежит день, другой… а там выйдет снова на работу, рана неглубокая; крови немало потерял, ослаб, а в остальном все такой же, как будто и не случилось с ним ничего. Яша, Яша…
– Я хотел тебе сказать…
И как прежде, как совсем недавно, осторожный нежный ее палец лег на его губы:
– Не надо…
Он вдруг разом, глубоко задохнулся от этого тихого, ослабевающего на излете шепота, потянулся рукой к ее горячей, истонченной муками последних месяцев шее, обвил ее крепко, желанно, и она приняла его ласку, склонилась к нему, улыбаясь, как в тумане, плавающей, плывущей перед его глазами улыбкой, смотрела на него как на маленького ребенка, заранее прощая ему все его глупости из-за безмерности своей любви, и взгляд ее был полон не только нежности, но и как бы легкой усмешки, небольшого подтрунивания, но вскоре все это расплылось, растаяло, как только она почувствовала вначале слабый, а затем все более забирающий ее озноб, губы их слились, и ничего уже нельзя было понять и осознать…
В эту ночь она так и не смогла уйти от него.
А дома ее ожидало письмо, которое она распечатывала утром с виновато сжавшимся сердцем:
«Здравствуй, милая наша Анечка. Сил нету больше сдерживаться, потому пишу тебе все как есть. Ты не подумай, што у нас тут што плохо, наоборот, мы живем с Алешкой в веселости и довольны премного, хужее другое, сны мне разные с ужастями снятся, токо не об том сейчас и речь, раз-болталася… язык, недаром люди говорят, он без костей у нас. Приходил к нам мужчина милиционер, и после сама я была у начальницы в жэке, которая по ордерам, заладили в один голос, штоб мне из квартиры, Анечка, уйти, а как ты приедешь, скажешь, как, мол, мама, ты уехала, об том они не думают и не печалятся. Еще побывала у Лиды, ты не обидишься, кто старое помянет, тому, говорят, глаз вон, она посоветовала, пиши скорей Ане, а срок ее кончится, пускай приезжает, а то будто бы квартиру вовсе отберут, а твои слова, што ты здеся родилась и никуда отсюдова не съедешь, умрешь тут, как твои отец с мамкой, хотя не дай Бог, такие слова твои я сроду помню и потому пишу тебе, штоб ты все знала и решила б, как тут надо. А кабы приехала, то и Алешка был бы рад несказанно, потому, когда Марья Ивановна, учительша, говорит, завтра-де, детки, родительское собрание, очинно ему хочется, раз папки его дорогого нету, штоб хотя мамка посидела за партой с другими всеми родителями. Учиться он шибко старательный, но много разных мыслей в голове, от которых хмурится, а мне, старой, догадаться чаще невдомек, получается, живем хорошо, а будто и плохо. Измучился он душой по тебе, одно слово. А меня наискось слушается, говорит, ты, бабушка, прожила без арихметики, я тоже проживу. Нетто нынче так можно рассуждать. А в другом во всем у нас тишь и порядок, ждусь не дождуся весны, охота по земле потоптаться, кожа на ногах зудит – просится по земле-матушке пройтиться… Вот хотя и то, куды без огорода я буду, и Алешке без него тоже некуда, с мальства это куда как худо, а в другом месте и без земли остануся, хотя не знаю, как это и можно. Много не надо, а без немногу нельзя, хотя бы штобы с крылечка повидать, как зацветает по лету картошка. Так што Лида говорит, Аня пускай долго не думает, а то тута квартир как повсюду не хватает, могут враз забрать, ино не заявится, а мне тогда уйти придется беспременно, хотя куда уходить, сама знаешь, без вас мне как без белу свету. На этом кончаю, крепко целуем и с большим душевным приветом к тебе – мама с Алешкой».
Глава третья
Аня возвращалась от судьи, с трудом, в тяжелый полунаклон снимала с ног боты и, чувствуя себя вконец разбитой, густо дыша от непривычной телесной грузности, осторожно пристраивалась на диван. Еще не знали, кто у них будет, Алешка или кто-то другой, а уж он вовсю давал о себе знать. Аня лежала на диване, распахнув настежь платье-халат, и какое-то время в облегчении ожидала, когда сердце ее само по себе немного успокоится. С каждой секундой дышать становилось полегче, и какая-то как будто истома, но не истома, а томящая изнутри тяжесть наконец оставляла ее. Аня глубоко, порывисто делала два-три полных вдоха, воздух был так плотен, что даже в горле саднило, а через некоторое время все же легчало. Кожа с выступившими на ней капельками пота становилась прохладной, и явственно ощущалось, как она, подсыхая, колюще сжималась и натягивалась на животе. Удивленная до чувства недоверия к видимому, Аня, как и много раз до того, с холодящей тревогой смотрела, как округлый, большой живот вдруг начинал бугристо, волнами ходить, и, что самое странное, каждый раз в другом месте, будто ребенок там внутри крутился и кувыркался, как ему когда нужно. Все-таки до жути странно было и непонятно, что он там давно живой, настоящий, с ручками и с ножками, ест, пьет и спит… и так иной раз чудно и загадочно это представится, что голова вдруг кругом пойдет: надо же, не было никого, никакой жизни, ничего… и вдруг… В такие секунды Аня проникалась особенной нежностью к Кольше, тут было так, словно это он, Кольша, и есть главный виновник чуда. И сейчас, когда она с прежним любопытством вглядывалась, как нетерпеливо бьется в ней ребенок, к всегдашнему ее чувству умиления и нежности прибавлялось ощущение горькой обиды за человеческую жизнь. Неужели он родится только для того, чтобы потом умереть? Господи, как же это обидно…
Ребенок в животе слишком растревожился, требовательно и сильно бил ножками, как будто недовольный чем-то, хотя чем ему быть недовольным? Аня улыбнулась, и в этой ее улыбке было все-таки столько материнского счастья, гордости собой, что, конечно же, никакие мысли о смерти не могли ни смутить, ни замутить ее состояния надолго. Пусть хоть что, хоть как, но что же делать, если она счастлива, если так надо, если так хочется, если без этого она уже и не представляет своей жизни. Аня улыбнулась тихой, умиротворенной улыбкой, вместе с физическим отдохновением после всей этой мышиной и обидно-бестолковой беготни пришло на душу успокоение, хотя в иные минуты, когда она как бы вдруг сознавала, в какие же мгновения ей бывало покойно и светло на душе, ей становилось страшновато от собственной жестокой беспамятности, что ли, от того, что она способна ощущать счастье и радость даже тогда, когда у нее, в сущности, такое большое горе. Жизнь в ней была сильней, чем смерть матери, и вместо того, чтобы представлять жестокой смерть, Аня представляла жестокой себя и свою жизнь. Но в конце концов все эти мысли мешались в голове, в них просто не было ни выхода, ни облегчения, и сердце ее, отяжеленное счастьем скорого материнства, окатывалось волнами все же глубоко отрадного волнения.
С шумом хлопнула входная дверь. Аня вздрогнула, всполошилась, услышав голоса; быстро запахнула на животе халат и, невольно охнув, с усилием привстала на диване. И в этот момент, когда она, сидя на диване, нащупывала ногами тапочки, а руками, как от боли, обхватила крест-накрест живот, но не от боли, а просто для удобства, в комнату влетел Кольша, а за ним вошла Лида.
– Вот, Анют, Лидуха тебе сейчас все растолкует!
– Здравствуй, Лида, – улыбнулась Аня.
– Да сиди ты, сиди, – обеспокоенно и быстро заговорила Лида, – вот еще, гостья нашлась, чтоб из-за меня вставать. – И как бы с завистью, нараспев добавила: – Ань, а тебе иде-е-ет!.. – И приложила ладошки-лодочки к своим щекам: – Ты така-ая-я… дородная, как булка! Честное слово! – Лида звонка рассмеялась, и смех ее был приятен, как весна, которая стояла сейчас на дворе – и там и тут чувствовалась свежесть, беззаботность, звончатость.
– Я все уже знаю! – затараторила Лида. – Слушай, только так: когда пойдешь к директору, обо мне ни слова. Обо мне вообще никому ни-ни… поняла? Потому что, если узнают, тогда делу каюк… короче, когда придешь, главное, чтоб он тебе резолюцию черкнул: мол, не согласен там или категорически возражаю, поняла? А то все эти заявления в суд будут как слону дробинка. Надо, главное, чтобы основание было…
– Ну да, он тоже мне сказал… говорит, а какое у вас, собственно, основание?
– Во-от! – весело подхватила Лида. – Правильно! Они-то вам морочат тут голову, а вы без подписей слабаки против них… у вас и заявление-то в суд не примут. Что ты! Они тут все знают, им главное – квартиру заполучить, а там хоть трава не расти. Завод расширяется, жилплощади не хватает, а ваша квартира – пустует. Почему бы ее не забрать. Правильно они рассуждают?
– А что ж правильного, если несправедливо? – возмутился Польша.
– Это другой вопрос, совсем другой вопрос, Коленька, – как учительница ученику снисходительно сказала Лида. – Вот представь сам. К нам в юрисконсультацию завода идут без конца люди. А по какому вопросу? На девяносто процентов с жильем. И завод, конечно, всеми способами изыскивает площадь. А с такими, как вы, которые, по существу, не живут в поселке, у нас одна задача – поскорей разделаться. Вы как балласт для нас.
– Понятно, – усмехнулся Кольша.
– И учти, Ань, обо мне ни слова, нигде, – снова забеспокоилась Лида. – А то получается, я против своего завода пошла.
– Не против завода, а за справедливость, – вставил Кольша.
– Ишь какой борец за справедливость нашелся! – всплеснула руками Лида. – Скажи спасибо, по старой дружбе решила помочь… А то заладил— справедливость, справедливость…
– Ладно, ладно… – Кольша подошел к Ане, подхватил ее под руку и, помогая встать, повернулся вполоборота к Лиде: – Вам тут дай волю, вы все законы на свое местничество перевернете. И еще гордиться будете.
– И будем.
– Во-во, – усмехнулся Кольша. – А забыла, как в школе клялась: до конца, до смерти… за правду, за честность.
– А это и есть, Кольша, до конца, до смерти… Только тут правда жизненная, человеческая, а не придуманная за школьными партами. Тут, Коленька, жизнь.
– Да, недаром тебя в консультации держат да нахваливают. Ты же настоящий патриот завода!
– Спасибо. – Лида деланно-шутливо поклонилась и вдруг весело, легко рассмеялась. – Ну, пошли, что ли? Вы к директору, а я…
Втроем они вышли на улицу, и так на них пахнуло весной, талым снегом, ласковым теплом солнца!
Директор завода, прочитав заявление, даже и разговаривать не стал.
– Я этими вопросами не занимаюсь. Зайдите к моему заместителю по быту.
– Но я… – начала было Аня.
– Я вам еще раз повторяю, этими вопросами занимается мой заместитель Глебов. Всего хорошего, девушка.
– Но он…
Директор нажал на кнопку, вошла секретарша.
– Следующий, пожалуйста, – сказал директор.
Секретарша, кивнув, вышла; Аня, посидев две-три секунды в замешательстве, забрала со стола заявление и, тяжело переваливаясь, хотя и стараясь скрыть это, направилась к выходу.
– Ну что? – спросил Кольша.
– К заместителю послал.
– Но ты ему сказала, что ты…
– И слушать не хочет.
– Ты бы ему…
– «Ты бы, ты бы»… Говорю тебе, не слушает, послал к заместителю. Девушка, а где тут у вас Глебов сидит? – спросила Аня у секретарши.
– В конце коридора направо. Вторая дверь.
– Спасибо. А как его зовут, не скажете?
– Кого? Глебова? Сергей Сергеевич.
Сергей Сергеевич Глебов принял их, прочитал внимательно заявление. Взглянул на Аню. Перечитал заявление еще раз.
– Не могу подписать, – сказал спокойно.
– Тогда поставьте свою резолюцию. – Кольша привстал и напористо указал пальцем: – Вот здесь.
Глебов улыбнулся. У него была хорошая, добрая улыбка и какие-то неожиданно грустные глаза.
– Наверное, считаете нас страшными бюрократами? – продолжал улыбаться Глебов и одновременно как-то задумчиво посматривал в окно.
– А уж это наше дело, кем мы вас считаем. – Кольша и не думал принимать игру Глебова в вежливые улыбочки-ухмылочки.
– Ответьте мне на один вопрос. Только откровенно. – Глебов посмотрел Ане в глаза. – Разве вы вернетесь в поселок после окончания техникума?
– А вот это и вовсе наше дело, – опередил Аню Кольша. – Ваше дело – отказать нам или подписать заявление. Вот так.
– Ну а все-таки, Анна Борисовна?
Аня слегка покраснела, услышав свое отчество, непривычно показалось.
– Я… согласна со своим супругом. Квартира наша, и нам нужен ордер. А все остальное только разговоры…
– Та-ак… – протянул, как бы взвешивая что-то, Глебов. – Ну, хорошо… давайте просто поговорим.
– Странно, мы к вам с заявлением, вы к нам с разговорами, – не выдержал Кольша. – Вы бы лучше резолюцию поставили, вот здесь. Да, да…
Глебов посмотрел на Кольшу долгим пристальным взглядом, и в этом взгляде было больше раздумия, чем укоризны или неодобрения.
– Поставлю, поставлю, молодой человек, не беспокойтесь. Только вот поговорить с вами мне все-таки хочется. И вот почему.
Но ни Аня, ни Кольша не откликнулись ни единым движением на это «почему», в кабинете на какое-то время повисла тишина.
– И вот почему… – задумчиво повторил Глебов. – Конечно, я понимаю, Анна Борисовна, у вас большое горе, умерла мать. Я вам глубоко, искренне сочувствую. – При этих словах губы у Кольши иронически растянулись. – И поверьте, я говорю искренне, – продолжал Глебов. – Но… жизнь есть жизнь. Разве на так?
Как-то непонятно было, нужно ли и можно ли отвечать на такой вопрос, так что в кабинете опять повисло молчание.
– Вы и сами пришли сюда именно поэтому. Потому что жизнь – это жизнь. Только так… – Глебов многозначительно обвел их взглядом. – А теперь взгляните на это дело другими глазами. Вы оба студенты, учитесь в техникуме. И для нас важно, вернетесь ли вы сюда, к нам в поселок? Спору нет, вы оба вписаны в ордер, и вы, Анна Борисовна, вправе претендовать на то, чтобы ордер был переписан на ваше имя. Но… И вот здесь начинаются «но». Квартира у вас какая? Трехкомнатная. Площадь? Тридцать три и семь десятых метра. А семья у вас? Два человека. Вы просто не имеете права вдвоем занимать такую огромную площадь. Кроме того, вы учитесь. Живете не у нас, а в Свердловске. Значит, здесь впустую пропадает не только жилье, но и приусадебный участок, огород, сад, сарай, сеновал, конюшня. Заметьте, для нашего заводского поселка это немаловажное обстоятельство – свой огород, свой сад. Поэтому что мы вам предлагаем? Мы предлагаем вам отдельную двухкомнатную квартиру со всеми удобствами. Взамен вашей. В новом микрорайоне. Чем вас не устраивает такой вариант?
– Скажите пожалуйста! – возмущенно привскочил со стула Кольша. – Мы что сюда, торговаться пришли?! Или вы думаете, что нас можно, как пятилетних, уговорить на что угодно? А вообще-то здорово вы тут сработались… Вы хоть знаете, что нам сначала предлагал ваш Шляпкин?
– Кто?
– Шляпкин… Фу, черт, не Шляпкин, а этот, как его… начальник ЖЭКа… Шляпников!
Глебов вдруг от души, весело рассмеялся:
– А, Шляпников! Фрол Данилыч! Ну и что же, что?
– А то, что когда у Анюты мать умерла, он уже на третий день тут как тут с дурацким своим предписанием – на основании того-то и того-то вы обязаны в двухдневный срок освободить квартиру и занять комнату по улице Розы Люксембург.
– Неужели? – смеялся Глебов.
– А вы будто не знаете? – язвительно усмехнулся Кольша. – Он, видно, совсем из ума выжил, этот ваш Шляпников! Ведь полнейший болван, а вы его держите… почему? Да потому, что вам выгодно негодяя под руками держать: чуть что – можно все на него свалить.