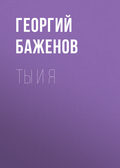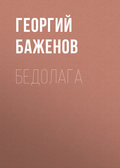Георгий Баженов
Земное и вечное (сборник)
– Подходи, налетай, бабуля, кардиганчик как раз на твои плечики, ляжет – не снимешь! – нахваливает кофты Саша.
– Проходи, проходи, папаша, здесь товар женский! Вот напротив смотри, там мужской, свитера да пуловеры! – показывает Юра на палатку напротив, где стоит-мерзнет-топчется Марина Михайловна.
Вот так они и работали: сыновья торговали в одной палатке женскими кофтами, а Марина Михайловна в палатке напротив, мужскими свитерами. Кто понимает, тот знает секрет: женщины охотней покупают товар у мужчин, а мужчины у женщин.
– Подходи, подходи, бабуля, говорю тебе: вот кардиганчик, как раз с твоего плеча да на твои плечики!
– Да что за кардиганчик такой, сынок? Я и слова такого не слыхала…
– Это, бабуля, последний писк моды. А по-другому сказать: самая нужная вещь в ваши годы. Потому что не просто кофта или жакет, а как вязаный удлиненный халат будет. Наденешь, как на печи себя почувствуешь. Приходилось на русской печи лежать? На лежаночке-то? Ох, там погреться бы сейчас, косточки помять, с боку на бок поваляться… Хорошо бы так-то, а, бабуля?
– Ох, хорошо бы, сынок… да где взять ее нынче, эту русскую печь? Ну-ка, покажи давай мне свой… карди… как говоришь-то?
– Кардиган, бабуля, кардиган!
– Вот его давай… а смотри-ка, правда, какой мягкий, какой теплый, смотри-ка, бабоньки, верно парень говорит.
– Где? что? почем? – И в самом деле начинают подбегать женщины, обращать внимание, щупать да трогать, а Юра – тот в помощь Саше давай еще больше масла в огонь подливать:
– По одной кофте в руки, строго по одной – и в очередь, женщины, в очередь!
Ох, начинают тут толкаться, доказывать, кто первый, а кто еще раньше, а некоторые с ласковым заискиваньем просят:
– Уж ты, сынок, две кофты мне продай, сноха-то узнает, обидится, что не взяла ей. Себе, мол, взяла, а мне пожадничала. Уж ты уважь, уважь, сынок!
– Так, бабоньки, кто невесткам берет, тем особый почет, без очереди.
– Как без очереди? Почему без очереди? Да я первая!
– И я…
– И я…
И вот так весь день… Смотришь, и сам разогрелся, будто на русской печи побывал.
Хорошо у них тогда получалось. Ладно, весело, со смаком и вкусом. А потом и ребятишки (сыновья) стали летать по заграницам, Марина Михайловна уже подустала, а они вошли в силу. Брали товар по сезону, то куртки и плащи, то платья и блузки, то обувь или дубленки. Летали не только в Индию, но и Китай, Южную Корею, Турцию и даже Сингапур. Завелись у сыновей свои денежки… Хорошо это или плохо? Конечно, хорошо. Но вместе с тем… У Саши появилась девушка; красивая, яркая, добрая и славная девчушка Алена. Она тоже на рынке работала, и вот сняли они комнату… Пять лет вместе, а никак не женятся, и в гости редко приезжают. Отчего так? Аленка, и правда, девчонка смышленая, рынок рынком, а нашла в себе силы, стала заочно учиться в Торговом институте, на менеджера, немного еще осталось, весной диплом защищать, а там и госэкзамены…
Юра… у того другая история. Когда они с Сашей деньги поделили, он стал работать в паре с одной взрослой женщиной, Тамарой Семеновной. Легче им так было, проще, удобней. Потом он машину купил, а после дефолта и рынок забросил. А уж дальше так получилось (неизвестно как), что стал Юра все реже ночевать дома, все у Тамары Семеновны да у Тамары Семеновны. И, главное, ни разу эту Тамару Семеновну никто в глаза не видел. Юра как бы стеснялся, что ли, познакомить родителей с ней, а, может, она сама этого не хотела. Но главное, у Тамары Семеновны, кроме однокомнатной квартиры на Автозаводской, был еще сын тринадцатилетний, который жил, правда, не с ней, а с бабушкой в Подмосковье, в Мытищах.
Антон Иванович – тот ничего, совершенно спокойно относился к тому, как развернулась их необычная семейная сага. А, может, это только казалось. Во всяком случае, говорил он примерно вот что: живут они самостоятельно? Самостоятельно. Не жалуются, не хнычут? Не жалуются. Нас не позорят? Нет, конечно. Ну и слава Богу! Жаль, разумеется, что нигде не учатся, но сейчас время такое, что не ученых жалуют, а умных. А вот умные ли они – жизнь покажет.
Нет, были, были, конечно, у Антона Ивановича свои мысли насчет сыновей, но он их скрывал от Марины Михайловны. Она чувствовала это.
А вот ей скрывать было нечего. Без детей, без заботы о сыновьях, без тревоги за них жизнь ее как бы обессмыслилась, стала пресной и нудной. После дефолта она тоже забросила всякую торговлю (не имело смысла: горбатишься за троих, а доходы с гулькин нос), вот так и сидела дома одна, мучилась да тосковала.
И больше всего на свете мечталось ей об одном: как бы так случилось, чтобы в доме у них появилась маленькая-маленькая девочка. Откуда, как, почему… непонятно. Но чтобы именно девочка, не сыновья, не парни, не мужички, которые рано или поздно уходят из твоей жизни, а именно девочка. Марина Михайловна согласна была (в глубине души) даже завести дочку (но как скажешь такое Антону Ивановичу? на старости-то лет? ведь в обморок упадет), ну, если не дочку, то внучку, маленькую, крошечную, милую, забавную и любимую. Любимую…
Митя в очередной (в который уже) раз поругался с отцом. Верней, он не ругался, это отец кричал и бесновался, а Митя просто захлопнул перед его носом дверь.
– Что закрываешься? Что прячешься? Чего мать пугаешь, гаденыш? – стучал в дверь Тимур Терентьевич. – А ну, выходи, выходи, я тебе говорю. Если ты такой смелый и отчаянный – выходи!
Но Митя не открывал, он отрешенно стоял, прислонясь к двери спиной, и слезы сами собой текли по его щекам. Как он ненавидел отца! Как он ненавидел его крик, шум, его уверенность и самоуверенность, его грубые и беспощадные словечки, его неистовость и хвастовство знанием жизни.
Тимур Терентьевич и в самом деле не переносил современную молодежь, всю эту молодую шпану, эту компьютерную поросль, которые, как бараны, тусуются на каком-нибудь одном пяточке, тупо перемалывают, как жвачку, жаргонные и пустые свои словечки, самовозвышаясь какой-то придуманной ими самими избранностью и особостью: им ничего не надо, они такие как есть, и оставьте их всех в покое…
Оставьте их всех в покое! А кто будет спасать государство, кто будет работать, кто будет наводить порядок, кто, наконец, продолжит дело отцов и дедов?!
На все на это одни усмешечки и улыбочки, один молодой и грубый гогот, одна общая кривая татарская ухмылка: говори, говори, батя, тренируй голосовые связки, сам проморгал (здесь, правда, словечко погрубей) государство, а мы теперь за все отвечай, да это ты, ты, папаша, нам ничего не оставил, это ты нас бросил на произвол судьбы, это из-за тебя мы тут кучкуемся и знать не знаем, что делать, чтобы понравиться тебе, а если честно: плевать нам на тебя, как и тебе на нас, плевать, потому что ты ископаемое, монстр, ты отжил свое, ты пожил всласть, покомандовал, а нам ничего не оставил, нам не досталось и капли того, что было у тебя, и к нам же еще претензии? к нам же еще вопрос? Пошел вон, папаша, пока мы тебе не накостыляли!
И гоготали, гоготали, подонки… (Так именно, внутренне, чувствовал этот разговор Тимур Терентьевич.)
Многое, наверное, было правдой в их словах, но все-таки… Но все-таки главное было другое: они не знали его, он не знал их, и оставалось только вот это – рычать и рычать друг на друга, показывать в оскале зубы.
– Открывай, открывай, я тебе говорю! – продолжал в неистовстве стучать в дверь сына Тимур Терентьевич. – Сколько ты будешь мать мучить, гаденыш? Сколько будешь строить из себя какого-нибудь там Онегина или Печорина? Да вы «Квазимодо» все, бараны и олухи, на вас воду возить надо, а вы все гамбургеры да пиццу жрете, иностранные прикормыши, зарубежные подпевалы!
Сын не отвечал, крепился, молчал, только слезы текли и текли по его щекам.
– Открывай, слышишь! Что ты все мать стращаешь, что ты все пугаешь ее? Мужик ты наконец или тряпка? Открывай!
Но сын и не собирался открывать. Если бы была возможность, он бы вообще жил так, как будто его совсем не существует, ему не хотелось говорить отцу ровно ни одного слова: ни плохого, ни хорошего, лучше просто молчать, ничего не говорить, и когда это удается, как хорошо и полно и без всякой тоски ему живется. Это странно, но это так: когда Митя подолгу молчит, ему спокойно и совсем не одиноко, но это дома, а когда он с друзьями, он говорит без умолку, говорит все, что только в голову взбредет, и там не различают ни ума, ни глупости, там все в кайф, там клёво и всё по барабану, то есть никому никакого дела, чем по-настоящему ты живешь (если живешь), никто не лезет в душу, ни о чем не спрашивает и ничем не интересуется, сто раз встречаешься, а не знаешь, кто где учится и кто чем занимается, может, это и важно, но это не главное, просто ты это ты, и всё, и ты тусуешься, а не отчитываешься за свою жизнь и не комплексуешь, и от этого всем легко, отсюда и братство, пусть легкое, ничего не значащее, но братство и сиюминутное понимание. А дома… ну да, он много раз говорил матери (признавался зачем-то, дурак), что не то что не хочется ему жить, а так… просто… не знает, зачем и для чего жить.
– Но как же, сынок, – пугалась мать, – о чем ты говоришь, разве так можно? Жизнь – это дар, надо просто радоваться. Вот я радуюсь, что ты у меня есть, что есть солнце, что у меня была мама, и потом, когда сделаешь что-то хорошее, тоже на душе светло…
– Но как ты могла выйти замуж за такого… идиота, как мой отец?
– Сынок, что ты говоришь, разве можно так? – еще больше пугалась Антонина Ивановна. – Он просто человек такой – прямой, неугомонный. И все время наше другое было… Ты должен понять… ты должен войти в наше положение.
– Я его ненавижу!
– Нельзя отца ненавидеть, что ты… Это грех. Он переживает за тебя, он резкий, не понимает вас, молодежь… Я вот недавно передачу смотрела, там Владимир Смуруженков выступал, известный художник, он сказал: молодежь не хуже и не лучше сейчас, чем была, она такая, какая есть, вот и всё, но миссию свою она выполнит.
– «Миссию»… Нет у нас никакой миссии. Если бы не ты, я бы давно с балкона спрыгнул… Знаешь, мам, так иной раз хочется умереть.
– Что ты, что ты говоришь!
– Нет, я не назло, просто сам не знаю… Мне уже девятнадцать, а толку от меня никакого. Я ничего не умею, ничего не знаю, ни к чему не гожусь… что это за жизнь?
– Обычная жизнь. Ты молод, учишься, что еще надо? Не пугай ты меня, Митенька! Что за мысли у тебя?
– Но зачем ты отцу про это рассказываешь?
– Разве? Не знаю… так, к слову. Чтоб он помягче с тобой был, чтоб не кричал… не бесновался.
– Вот он и выдумал, что я запугиваю вас… что добиваюсь этим от вас, чего захочу. А чего я добиваюсь?
– Да ничего ты не добиваешься. Просто, знаешь, жизнь так устроена: мы, взрослые люди, очень быстро забываем, какие мы сами когда-то были. А мы были такие же.
– Мне как-то не верится, что отец молодым был. Он просто дурак набитый. Только бы орать да кричать.
– Что ты, что ты, сынок…
– Помнишь, ты мне рассказывала, у тебя в детстве котенок был. Пушистый такой, серебрился на свету. Как мне тоже хотелось котенка всегда! А отец запретил.
– Но мы же купили тебе щенка. Тоже такой хорошенький, помнишь, такой забавный, все тявкал и тявкал на тебя… умора!
– Ну да, Бинго… Но Бинго – это другое. И потом, какой же он забавный? Взял и выбросился из окна. Я уверен, от тоски выпрыгнул. Замордовали мы его.
– Да что ты, как замордовали? Это просто несчастный случай. Не бывает такого, чтобы собаки из окна прыгали.
– А у нас произошло. Вот котенок, тот бы такого не сделал.
– Ну о чем ты говоришь, Митенька… выкинь ты все это из головы!
…А отец все бесновался и бесновался за дверью, все кричал:
– Ты думаешь, я не знаю твою политику! Застращал мать, запугал до смерти, вот она и стелется перед тобой: Митенька да Митенька! Все тебе как на блюдечке: и компьютер твой, и…
«И еще что?» – злорадно усмехнулся Митя за дверью. Он и сам не особенно любил вещи, но такого, как у них в квартире, еще не встречал ни у кого: в спальне у родителей кровать да тумбочка, в столовой стол и диван, на кухне холодильник и «уголок», ну а у него, Мити, компьютер и кушетка.
– …и компьютер твой, и… – тут отец наконец вспомнил: – и кушетка! А благодарности никакой! Ты смотри у меня, я в конце концов доберусь до тебя. В чернорабочие пойдешь, мясо рубить, чемоданы на вокзале таскать, глину на стройке месить.
«Пойду, пойду, как же…»
– Тебе чего не хватает, чего конкретно мало и плохо? Если тебе в армию хочется, я тебе это быстро могу устроить. Или в стройбат.
«Есть еще и такой, оказывается?» – все усмехался Митя. (Плакать он давно перестал.)
– А если стройбат не по душе, можно в Чечню или еще черт знает какие дебри! Только скажи, намекни, чего ты конкретно хочешь!
«Вот черт-то точно знает, чего да куда… А вот куда бы тебя самого послать?» – думал уже как-то отрешенно, машинально, что ли, Митя.
Он подошел к окну, открыл раму и встал на подоконник…
…Когда мы умираем, нам все кажется, что это не серьезно, не вполне до конца и навсегда, мы как бы надеемся еще взглянуть на себя да и на все последующее со стороны, посмотреть, какое это на всех произведет впечатление: вот, мол, спохватятся все, пожалеют еще, локти будут кусать, плакать и рыдать… Что-то все театральное представляется и жалостливое, но главное, конечно, будто смотришь на себя со стороны, отрешенно и отстранённо, и не понимаешь до конца, не осознаешь: это все навсегда, навеки, до скончания веков, до кромешной и беспросветной глубины времени.
А Митя… Что Митя! Этот мальчик, делая то, что сделал, совсем не догадывался, что он никому ничего не докажет. Просто его не будет – и всё. А другая жизнь будет продолжаться как ни в чем не бывало. Нужно просто преодолеть этот возраст, это искушение, эту тягу к смерти, потому что в действительности не к смерти это тяга, а к самоутверждению, к тому, чтобы с тобой считались, признавали в тебе личность, уважали и любили тебя такого, какой ты есть, именно такого: пока никчемного и, казалось бы, никому не нужного, но… но в глубине-то души каждый знает: в нем дремлют немалые силы!
…Была одна ошибка у Антонины Ивановны, была. Сколько раз она слышала от умных людей: если есть у кого тяга к смерти, того надо обязательно сводить на чужие похороны. Как увидишь другого человека в гробу, мертвого, страшного, бездыханного, мертвого-то без шуток и без прикрас, так сразу все мысли о смерти пропадут.
Чужая-то смерть – она враз отрезвляет!
Пересекая не совсем даже и поздним вечером небольшой сквер, не по тротуару, а так, наискосок, по траве-мураве, Антон Иванович машинально отметил про себя, что около одного куста словно светятся несколько огоньков, что-то такое странно-привлекательное и любопытное. Но, сделав два-три шага вперед, Антон Иванович почувствовал некоторую тревогу, а еще через несколько шагов настоящий страх. Он невольно оглянулся, но было поздно. Сзади него, как бы замкнув дугу, сидело несколько бродячих псов, три или четыре, сразу не осознаешь. Зато то, что путь назад отрезан, сознаешь сразу, но ведь и впереди тебя, там, куда ты шел, тоже горят две пары глаз (видать, вожака), – куда тут деваться? Бывают в жизни моменты, когда от растерянности, что бы ни делал, все невпопад; может, и Антон Иванович принял неправильное решение: бросился наутек, как бы поближе к кусту (то ли спрятаться в нем, то ли защититься от нападения), а из куста именно, как раз из засады, и набросилась на него первая псина. И так это было неожиданно для Антона Ивановича, что он замер на секунду как вкопанный, а потом, сбитый прямым ударом могучих лап в грудь, полетел от куста в сторону, на середину сквера. (Может, в дальнейшем, это и спасло его, что полетел на середину сквера.) Упав навзничь, он почувствовал, как крепкие яростные зубы, будто несколько острых шил, вонзились в правую икру, и еще он почувствовал, верней, осознал, понял, мгновенно уяснил, внезапно пронзился мыслью, что если он сейчас каким угодно способом не окажется на ногах, ему конец. Потому что рядом с ним и вокруг него уже клацали зубами другие псы, такие же свирепые и кровожадные, как тот, первый, который хватанул его за икру. Жуткий, животно-отчаянный крик, даже не крик, а рык, издал неожиданно Антон Иванович и, крутанувшись на траве, как волчок, вскочил на ноги, как будто подброшенный вверх мощной спасительной пружиной. На секунду собаки растерялись, замерли в оторопи, и именно этого мгновения хватило Антону Ивановичу, чтобы нанести первый и мощный удар по укусившему его псу. Он знал, он знал, Антон Иванович, что именно этого пса, который его хватанул за икру, он и бьет сейчас по загривку той спасительной тростью, которую подарил ему недавно Виталий Капитонов и которая всегда теперь находилась при нем, куда бы он ни пошел.
Тот пес, которого Антон Иванович огрел тростью по загривку, этот пес повалился наземь и устрашающе скалил зубы, а остальные начали сужать кольцо вокруг Антона Ивановича, угрожающе рыча и брызжа слюной. Антон Иванович вновь как волчок крутанулся на месте и, вращаясь, бил всех собак подряд, какие попадались под трость; но по-настоящему никого не задел, только грозно припугнул их, и они, показывая в оскале клыки, отступили на прыжок-на два от своего врага. И собрату их тут же досталось: в упоении, в каком-то неистовстве и злобе Антон Иванович начал бить и бить эту псину заостренной тростью по голове, туловищу, лапам, куда ни попало, и чувствовал все больший и больший сладострастный ужас, что так жестоко расправляется с диким зверем.
Сквер этот, а вернее, лужайка, на которой творилась кровавая драма, был всего в нескольких метрах от автобусной остановки (да и огромный жилой дом в двенадцать этажей тоже горел всеми своими теплыми и яркими окнами как раз напротив сквера), и, разумеется, многие люди видели и слышали, что творится рядом, но никто не решился ни помочь Антону Ивановичу, ни остановить его, как не решились защитить и собак или, наоборот, разогнать их какой-нибудь палкой.
Но уж когда Антон Иванович начал насмерть забивать бродячую псину, при этом победно разогнав ее сородичей все более и более меткими и ожесточенными ударами (собаки-то, оказывается, отметил про себя с удивлением Антон Иванович, бросают своих собратьев, когда им грозит истовый и жестокий отпор), когда он забивал насмерть эту укусившую его тварь, и когда действительно забил ее, и когда для верности, словно находясь в гипнотической эйфории, бил ее и бил уже после того, как она замертво уронила окровавленную пасть на перебитые лапы, вот тут граждане и окружили Антона Ивановича, и говорил каждый кто во что горазд: кто ругал Антона Ивановича, кто хвалил, кто восхищался его смелостью, кто возмущался его жестокостью. Только один, здравого ума мужчина с бородкой клинышком (на вид профессор), посоветовал Антону Ивановичу:
– Тут же в клинику, срочно! Блокаду против бешенства…
– Что? – неожиданно зарычал Антон Иванович. – В клинику их? Да я вас сейчас самого в клинику! (Отчего и почему, но Антону Ивановичу в этом разумном совете послышались некие нотки в защиту собак, скорее всего он был просто на грани безумия или безумного упоения своей победой.) Я вам покажу сейчас…
– Да он ненормальный! – бросил кто-то испуганно. – Посмотрите, он сейчас бросаться на нас будет. Мужчина, оставьте бедное животное в покое. Вы в своем уме или нет?
– Я-то?! – закричал Антон Иванович. – Я-то в своем, а вот вы чего тут собрались? Человека чуть насмерть не загрызли, а вам все спектакль!
– Таких загрызешь, – бросила какая-то старушка. – Ничего человеческого не осталось… Скоро всех животных загубим.
Но кто-то из толпы ей резонно возразил:
– Не животных загубим, а скоро они нас, бродячие-то, сожрут с потрохами. Не Москва, а дикие прерии какие-то.
– Вот-вот, наступило время: бросаемся друг на друга, а потом локти кусать будем!
…Ну, все эти разговоры известны, их можно слушать-не переслушать. Любопытно, пожалуй, только одно замечание, сделанное все той же старушкой:
– Как вам не стыдно, мужчина, загубили живое существо, теперь какая же вам будет дорога в рай?
Но в защиту Антона Ивановича вступился местный «философ» дядя Вася (его тут все знали, в этом районе от Абрамцевской улицы до Алтуфьевки):
– В рай-то мы все враз попадем. Как только в аду окажемся… Косточки на огне погреем.
…Дома Марина Михайловна пришла в ужас, увидев Антона Ивановича; даже и слушать ничего не стала, усадила его в такси и повезла в травмопункт. Там Антону Ивановичу тщательно промыли рану (одиннадцать серьезных прокусов!), а потом еще сделали блокаду из двадцати четырех уколов.
…И только когда Антон Иванович оказался в постели (ближе к полуночи), когда Марина Михайловна укутала его в теплое, верблюжьей шерсти одеяло, только тогда Марина Михайловна заметила: в прихожей, в углу, бесхозно валяется трость Антона Ивановича, которой он так дорожил и с которой в последнее время практически не расставался. Но дело даже не в этом. Трость, эта изящная, ручной работы инкрустированная вещь-игрушка, была вся в крови и в клочьях собачьей шерсти. Марина Михайловна отнесла ее в ванную и там тщательно, с мылом промыла, и так же тщательно, насухо протерла байковой тряпкой. И вот, протирая ее, она впервые заметила, что на рукоятке трости просматривается, оказывается, какая-то вязь букв. Что-то там такое написано мелкими-мелкими иностранными буквами. Приглядевшись внимательней, Марина Михайловна разобрала латинскую надпись: Hotel BINGO. «Что за чертовщина, какой отель?» – удивилась Марина Михайловна и направилась в комнату к Антону Ивановичу. Он начинал уже засыпать, но все-таки еще можно было у него спросить:
– Антоша, ты знаешь, а у тебя на трости какая-то надпись.
– Какая надпись? – не понял Антон Иванович.
– Не знаю. Hotel BINGO.
– Да неужто? – удивленно встрепенулся Антон Иванович. – Где? Покажи! Ой… – вдруг застонал он от боли (раны давали о себе знать).
– Лежи, лежи, тихо… Вот, смотри, – показала она.
– И правда, – прошептал Антон Иванович. – Ну надо же, а я ни разу не обратил внимания. Какие мы все, оказывается, неприметливые люди.
– А что это, отель «Бинго»?
– Да это Капитонов Виталий, помнишь, я тебе рассказывал, в Испанию уехал. Он там отель себе купил.
– Вон что.
– Уехал, а мне трость подарил. Я-то все думал: что за трость, откуда она у него? А, оказывается, вон откуда: из отеля. Ну, спасибо, друг, спасла меня твоя трость.
– Надо же, и собаку наверху звали Бинго. Которая из окна выбросилась.
– Марина, ну что за глупости? Я тебе говорил: просто несчастный случай… и все, – поморщился, как от боли, Антон Иванович.
– Несчастный-то несчастный, а все-таки странно как-то… – Но развивать свою мысль Марина Михайловна не стала, и вскоре Антон Иванович мирно и тихо спал. Как ребенок.