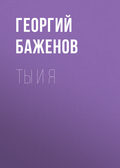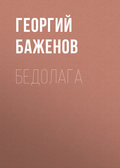Георгий Баженов
Земное и вечное (сборник)
Часть третья
Где – везде – нигде
Они приехали в этот небольшой уральский поселок ранним осенним утром. Никто их, конечно, не встречал, да и нужды в том не было: к дому от станции они шли пешком не более пяти минут. Дом стоял на взгорке, на веселом открытом месте, и как раз, когда они подходили к дому, выглянуло с востока первое солнце, и окна в доме сами собой зажглись нежным малиновым светом. У калитки, показалось им, кто-то как будто стоял, но, когда они подошли поближе, увидели нечто вроде идолища, протягивающего навстречу руки. Идолище – звучит грубовато, на самом деле это был веселый деревянный человек-гном, вырубленный из высокого пня искусным плотницким топором. Искусным потому, что взмахи топора, чувствовалось, были резкими, грубыми, но очень точными, разовыми (по слову «раз и навсегда»). На калитке, тоже на деревянной доске, выдолблено старинной вязью:
Биологический
Институт
Народной
Гуманной
Ортопедии
А чуть ниже, помельче: «имени В. В. Котова».
Это и был отец Максима, и вот так сегодня он их встречал.
Мартемьяна Фирсовна, хранительница отцовского очага, вышла на крыльцо, когда они уже звякнули кольцом калитки, старенькая, сгорбленная, подслеповатая, с клюшкой в руке, но однако неплохо шустрая и проворная.
– Надо же, вылитый Владимир Викентьевич! – всплеснула она руками, когда увидела Максима. – То-то мне сон снился…
Давно они переписывались, договаривались, что Максим приедет к отцу в гости, пусть не к живому теперь, но все-таки… И вот он взял и приехал, да не один, а, кажется, со своей суженой…
Конечно, ничего от Института в этом доме не чувствовалось, наоборот, какое-то чересчур захламленное, ветхое двухэтажное строеньице (с покосившейся деревянной лестницей), сплошь заставленное и заваленное старьем и безделушками, среди которых, правда, выделялись то тут, то там деревянные поделки, главным образом, человеки и человечки.
– Отец-то считал, Владимир Викентьевич, что главное в лечении – это душу лечить, – говорила и говорила Мартемьяна Фирсовна, накрывая потихоньку на стол (Нина ей помогала, конечно). – Он хирург был, да, а лечил душу. «Ортопедия как инструмент воскресения души» – вон у него рукопись такая лежит, да никто что-то не печатает ее. Никому теперь ничего не надо. А народ к нам ходит, ой, ходит… Верующие, те покрестят идолище и заходят, а неверующие встанут перед ним на колени, потом тоже идут. Народ-то дикий, ой, дикий, и такой, и сякой, и разэтакий (всякий), а Владимир Викентьевич жалел всех, говорил: «Ногу или руку хочешь вылечить? Сначала к биожизни обрати взор… (так и говорил: «к биожизни»)… там она, твоя душа, в солнце, в лесе, в траве да в воде… поклонись сущему, а уж я тебе помогу по-своему!» Шел и шел к нему народ, и ноги сломанные, и руки, и позвоночник, и головы пробитые, он как-то чудно всех вылечивал, сам не знал как. Прикоснется только – и человек как бы здоров делался. Одно слово: язычники мы.
– Вот и Максим, – вставила словцо Нина, – он тоже язычник.
– Язычник? – ухмыльнулась старуха. – Язычник будешь, когда отцово дело продолжишь. Я-то гиблая стала, скоро помру; кто охранять отцово богатство будет? Охранять да множить?
…Три дня Максим с Ниной пробыли в поселке. Люди перед Максимом (кто в Институт приходил) на колени падали, так что ему как-то не по себе становилось, а Нина ничего, быстро в соображение вошла, помогала старикам да старушкам на ноги вставать, слова разные приговаривала, ласкала да тешила: «Вы не к нам, вы к биожизни взор обратите. Помните, как Владимир-то Викентьевич говорил? Не мне, мол, а солнцу, лесу, воде поклонитесь…»
Молодых, правда, не встречалось среди приходящих, а пожилых да старых – тех много. А когда Максим захотел к отцу на могилу сходить, Мартемьяна Фирсовна удивилась даже:
– На могилу? Так нет у него могилы.
– Как это? – не понял Максим.
– А он, Владимир Викентьевич, как почувствовал: смерть надвигается, ушел куда-то и больше не вернулся. Ушел во-о-он в тот лесок, – показала она в окошко, – потом, видела я, на взгорке он еще появился, с посохом был, я его издалека узнала, потом как раз солнце зашло за Медвяную гору, он и растворился в лучах, Владимир Викентьевич… Во всяком случае, я его больше не видала. И никто не видел.
– И могилы, выходит, нет? – будто в страхе каком-то приложила Нина ладони к губам.
– Зачем ему могила? Нам, язычникам, участникам биожизни и вечным ученикам Народного Института имени Котова, нам ни могилы, ни смерть не нужны. Поклонился березе или солнцу, рассвету или бегущей воде – того достаточно. Живи вечно и не умирай никогда.
– А сами говорите, помрете скоро, – и глупо вроде, а все же наивно-чисто укорила Нина.
– Это я в жизни помру. Точно. А в вечности я всегда буду жить. И ты. И он. Все мы.
– Никогда не умрем?
– Вот коза-то у тебя, – усмехнулась Мартемьяна Фирсовна. – Конечно, никогда. Разве мыслимо жить, чтоб знать: умрешь? Живи и никогда не умирай. Так всегда говорил Владимир Викентьевич. Вон у него еще одна рукопись лежит: «Смерть как форма вечной жизни биосистемы». Тоже что-то никто не интересуется. Не печатают. Никому ничего не надо стало…
Да, и рукописей, конечно, много разных было у Владимира Викентьевича, и каких-то папок с рецептами и засушенными травами; в чуланах и чуланчиках, от потолка до низа, забитые кореньями полки с приполочками, а больше всего резные, долблёные, выпиленные, выструганные веселые жизнерадостные человечки-деревяшки.
– Мастеровой был хозяин-то, ох, мастеровой, – все показывала Мартемьяна Фирсовна. – А видать, всему свой век. Это не биосистема, которая как вечность. Рукотворному да рукодельному подпитка нужна. Как думаешь, Максимушка?
«Ну, как ты думаешь, что думаешь?» – шептала ему по ночам и Нина. Она, когда он позвал ее поехать сюда, с радостью согласилась, потому что дома скандал и одни недоразумения, да и доказать сыну Роме хотелось, что Максим вовсе не такой человек, как он о нем думает, а больше всего просто отвлечься, отстраниться от московской жизни надо было, подумать, взвесить все, поразмышлять… вот она и помчалась с Максимом в далекую даль, надеясь, конечно, что и между ними, возможно, определится что-то серьезное и важное.
А Максим не знал, что и сказать. С одной стороны… Но с другой стороны… Да, нужно подумать серьезно, взвесить все, проанализировать.
– Как же с Академией-то быть? С работой? – спрашивал он.
– С какой Академией? Да Академия ваша – плюнуть и растереть. Ты себе здесь сделаешь Академию. Сейчас биоинститут, а ты назовешь Био-академия. Представляешь?
– А деньги где брать? Мне до пенсии еще работать и работать.
– Без пенсии проживем. Представляешь, будем здесь жить одни. Настёну я, конечно, заберу с собой, а Рома там останется, с женой, с ребеночком (у них скоро родится девочка, к примеру, ой, представляешь, я буду бабушкой, умора!), и очень даже хорошо получится: мы здесь, они там.
– Так ты Настёну сюда хочешь забрать?
– А куда же она денется? Ей всего тринадцать…
«Живи потом с этой врединой здесь», – невольно подумалось Максиму.
– А ты что, против? – спросила она у Максима напрямую.
– Ну как я могу быть против, что ты? – ответил он, а про себя подумал: «Своих детей ты, значит, пристроила, а как быть с моим сыном?» (У Максима был взрослый сын, лейтенант, служил рядом с Москвой; прописан он был у отца, почти каждые выходные приезжал домой, значит, надо будет и сына, и квартиру бросать на произвол судьбы?)
– Но ты же сам звал меня сюда? Говорил: мечта всей твоей жизни! Обещал: если решусь поехать сюда навсегда, поженимся и все такое… Ты что, забыл?
Он не забыл, он говорил, но, если честно, он всегда это говорил, зная наперед, что Нина ни за что не согласится. Он был уверен в этом на двести процентов, потому что как же она бросит Москву, детей, работу, квартиру?!
А она, оказывается, вон как распорядилась: Рома ее там, Настёна здесь, а мы тут кукуй. Ловко получилось.
Но с другой стороны – здесь отец, его родина, его дело. Хотелось, конечно (не только хотелось – мечталось), что Максим обязательно приедет сюда, будет здесь жить, работать, продолжать начатое отцом, но… не так быстро, не так сразу, как бы в будущем, что ли, чуть позже, потом…
«Потом будет суп с котом», – вспомнил Максим, как любил приговаривать писатель Баженов, который частенько приходил к ним в Академию (за рецензиями) и вот все выспрашивал, вызнавал житейские истории – сюжеты, наверное, собирал.
Так вот однажды писатель узнал у Максима, что у того есть отец, которого он никогда не видел, и отец этот в то время был еще жив.
– Поезжай, съезди к нему, пока не поздно, – говорил Баженов.
– Не могу.
– Не понимаю, – удивлялся писатель. – У мужика отец есть, а он увидеть его не хочет. Дурак ты, Максим Владимирович!
– Не могу.
– Заладил, как попугай: не могу, не могу… Смотри, поздно будет.
Как мог объяснить Максим, хотя бы даже и писателю Баженову, что нельзя ему ехать к отцу: родная мать не простит Максиму этого, она ни видеть, ни слышать, ни знать ничего не хотела про бывшего мужа. Как так: ее бросили с младенцем на руках, она ребенка вынянчила, вырастила, выходила, годы и годы, жизнь на него потратила, а теперь сыночек вырос и отблагодарил мать: поеду к отцу… Нельзя этого делать, нельзя!
– Неизвестно еще, кто кого бросил, – говорил Баженов. – Даже если и так, все равно поезжай, подумай: как отец обрадуется, увидев тебя. Как слезы у него потекут по щекам: сын приехал! Дурак ты, ей-богу, дурак.
– Не могу.
А потом отец умер, и мать передала Максиму письмо для него от отца – то ли из прошлого, то ли из будущего… Многое что узнал Максим о себе и об отце из этого письма. Но самое страшное было другое: когда мать умерла (странно, но Максим как-то легко пережил смерть матери – может, потому, что она не была язычницей и идолопоклонницей?), выяснилось, что не отец бросил ее с ребенком, а она изменила ему. Она загуляла с директором «Большого Урала» в Свердловске (был такой ресторан), и отец не выдержал, уехал в далекий уральский поселок Нижние Дворики… Вот этого больше всего и боялась мать: что сын узнает настоящую правду.
– Говорил я тебе, что ты дурак! – подытожил писатель Баженов. – Так и оказалось. Все надо делать вовремя, друг мой, во вре мя.
Хорошо болтать языком, особенно если ты писатель: тебя это никаким боком не касается, а судить да рядить ты почему-то вправе. Неплохо устроились писатели!
…И вот теперь: что мог Максим ответить Нине?
Да и кроме того, положа руку на сердце, пугала его немного эта заполошная и странная старуха Мартемьяна Фирсовна. В письмах – это одно, а в жизни с ней общаться – совсем другое. Ведь придется жить одним семейством, в одном доме, – тоже не сахар. Да и так, по каким-то неприметным деталькам и черточкам, Максим догадался: не совсем свят был отец Владимир Викентьевич Котов, а жил в каком-никаком браке с этой старухой, пусть она тогда не старуха была, но все же…
Как-то стыдно перед памятью матери жить бок о бок с отцовой пассией.
Да и вообще… пока… как бы это… страшновато… рановато…
Так что же ответить Нине?!
А в это время попугай Бинго, тоже на Урале, но совсем в другом поселке, в поселке Северный, суматошно и настойчиво кричал:
– Я знаю, где золото лежит! Я знаю, где золото лежит!
Антон Иванович от души смеялся: «Какой болтливый! Все тайны ваши выдаст».
Но дядя Костя с тетей Верой Капитоновы и в самом деле заверили Антона Ивановича:
– Он действительно знает, где золото лежит. Он нам его показал…
– Как это? – не понял Антон Иванович.
– А вот пойдем-ка, Антоша, во двор.
Они вывели его из дома и повели к сараю, где столько лет подряд, в детстве, играли в прятки друзья Виташи Капитонова. Ах, какое было время, как оно далеко и как близко… По времени далеко, а вот руку протяни, погладь вот эти шершавые выгоревшие доски, проведи рукой по их даже и нынешнему прокалённому теплу – покажется, все было совсем недавно, только что, час или два назад…
– Вот видишь, собачья будка?
– Ну как же… сколько лет у вас там жил этот… как его…
– Динго!
– Точно! «Дикая собака Динго», еще книга такая была!
– Вот-вот, правильно ты помнишь. Виташа где-то щенка подобрал, принес домой. А где ему жить? Тогда моды и гадости такой не было, чтобы собаки в доме с хозяевами жили, спали на их кроватях и ели из одной миски (какая мерзость!), вот Константин Иванович и сколотил для Динго будку. Помнишь, Костя?
– Ну а как же, Верочка, конечно, помню. Мне еще для крышицы кусок рубероида понадобился, я к Баженовым пошел, попросил у Виктора Авдеевича.
– Это отец Георгия?
– Ну да, мы Георгия в мальчиках Геруськой звали… А теперь, конечно, он большой писатель, его весь мир знает, Баженова-то.
– Правда? – рассмеялся Антон Иванович. – А я его когда в Москве вижу, он мне всегда мрачно говорит: «Ни одна собака нас нынче не знает.
Вот дай рубль и книгу в придачу, рубль возьмут – а книгу выкинут!»
– Ну, это он преувеличивает. Конечно, время не то, всё не то, но мы здесь, на Урале, вот у себя в поселке, во всяком случае в нашем доме, мы его постоянно перечитываем. Привет ему от нас горячий передавай!
– Ау, Георгий, – дурашливо закричал Антон Иванович, – передаю тебе привет с родины, ты слышишь?
«Слышишь, слышишь, слышишь…»– откликнулось эхо, и тетя Вера с дядей Костей заулыбались.
– Ну вот, – продолжил дядя Костя рассказ, – взял я у Баженовых немного рубероида, будку сколотил, крышу сделал, все честь по чести… Сколько лет потом служил нам верой и правдой Динго!
– Я помню, лохматый такой, с карими глазами, – вставил Антон Иванович.
– Даже и глаза помнишь, Антоша? – умилилась тетя Вера.
– Помню.
– Давно Динго умер, а будка осталась, – продолжил со вздохом дядя Костя. – Ну, мы ломать ее не стали, стоит себе и стоит. И что ты думаешь, Антоша…
– Ну-ну?
– Когда привез нам Виташа из заморских стран попугая этого, мы хотели его Динго назвать, а сын почему-то не разрешил. Говорит: что было, то прошло, да и не стоит попугая собачьим именем называть. Пусть будет Бинго!
– Я знаю, почему Бинго, – улыбнулся Антон Иванович.
– Почему?
– Да потому, что он там, в Испании, гостиницу себе купил, а она «Бинго» называется.
– Ну да, ну да, что-то такое он нам рассказывал. Но неужели он гостиницу купил?
– Купил, точно. Вот видите, трость? Я ее всегда теперь с собой ношу, мне ее Виталий подарил. Видите, здесь написано: Hotel BING04 Потому, видно, и попугая Бинго назвал, в честь своей гостиницы.
– Теперь понятно… Но для нас главное – он умный оказался. Как пророк какой-то.
– Пророк? – вновь рассмеялся Антон Иванович.
– Не поверишь, Антоша, – округлила глаза тетя Вера, – истинный пророк. Целыми днями сидел и твердил: «Я знаю, где золото лежит! Я знаю, где золото лежит!»
– Ну, где золото лежит? Где?! – не выдержал я однажды, – произнес Константин Иванович, и в шутку передразнил его: – Где?!
– И что ты думаешь, Антоша, – зашептала тетя Вера, – он вылетел из клетки и прямиком, прямиком из дома, по двору, вот сюда, к собачьей будке.
– Ну и? – как бы дурачась поинтересовался Антон Иванович.
– Влетел в будку, что-то там шебуршал, возился, сопел старательно, а потом, бац, вытаскивает из будки кусок золота!
– Да вы шутите?! – не поверил Антон Иванович.
– Вот с места нам не сойти! – закричали в два голоса Капитоновы-старшие.
– Да откуда там могло быть золото?
– А мы-то откуда знаем?
– И прямо настоящий кусок золота?
– Именно кусок! И не маленький, не кусочек, а с кулак будет. Самородок!
– Вы меня разыгрываете? – не поверил Антон Иванович.
– Да зачем нам грех-то на душу брать?
– Ну, и где же этот кусок золота?
– Как где? Мы его сдали.
– Куда сдали? Зачем?
– Сдали государству.
– Вот так прямо пошли и сдали государству?
– А что ты нам предлагаешь сделать, Антоша? Ты видишь нас, видишь?
– Ну конечно.
– А если бы мы не сдали, вряд ли бы ты нас увидел.
– Почему это?
– Да потому, что сейчас не то что за кусок золота, за копейку убьют. А так нам вознаграждение выписали. Четыре тысячи рублей плюс путевки в санаторий.
– Четыре тысячи? За самородок?
– Четыре тысячи. Но самое главное, напечатали в «Рабочей правде» (это газета такая местная, если помнишь) наш семейный портрет. С тех пор мы живем совсем спокойно.
– Почему с тех пор?
– Потому что, когда портрет напечатали, все действительно поверили, что золота у нас больше нет. А то могли прийти и прибить нас, как букашек.
Вот эту новость, про золото, Антон Иванович обдумывал позже и так, и этак, и выходило: правы были старики Капитоновы, жили теперь не-тревожно, без угрызений совести, но ведь это что получается… Ведь в городе, например, в Москве, или даже Екатеринбурге, никто ни за что никакое золото никуда бы не сдал, а здесь, в поселке… Или это потому, что они просто люди такие, старики эти, Капитоновы?
Он заглянул к ним в гости, как и обещал Виталию, когда оказался в родных краях в командировке. И виду, конечно, не подал, как они изменились, постарели, усохли и увяли, хотя внутренне, глазами своими и блеском в них особого капитоновского огонька, они оставались очень красивы (красиво-милы и обаятельны, если по-другому сказать). Но как убог и дряхл был нынче их домик, покосился, накренился, красные, то есть главные, ставни (те, что выходят на улицу) почти вросли в землю, завалинки осыпались, а калитка в палисадник висела на одной петле (Антон Иванович, конечно, калитку подправил, молодец). И даже не в том дело, что домик выглядел убого и жалко или, наоборот, что хозяева держались-таки молодцами, а в том, что было полное ощущение: они никому не нужны. Ты жив – и ты никому не нужен. А ведь где-то далекодалеко, за заморскими далями, живет родной человек, сын, который ясно что там мается, раз может сдуру-не сдуру, но купить вдруг гостиницу за четыреста тысяч евро, которая и зачем она нужна, эта гостиница? Непонятно. И никто ничего не поймет. Но пусть сын далеко, в испанских краях, но дети-то его в Москве, дочери, то есть внучки Константина Ивановича и Веры Петровны, а вот им-то точно совершенно безразлично, есть у них там, в глуши, на Урале, дед с бабкой или давно они сгнили в земле. И наверняка не самые плохие дочки на свете у Виталия Капитонова. Может, на роялях играют или блистают на теннисных кортах, или еще что-то хорошее умеют, просто нет им никакого дела ни до кого, вот и всё. А почему?
Моралистом становлюсь, брюзгой, – упрекал сам себя Антон Иванович Гудбай. Но потом как-то и это забылось, потому что вспоминалось совсем другое (когда он на кладбище поселковое сходил): что вот у него, у него самого, никого на родине не осталось, и что он здесь делает, к чему наезжает, чего ищет и кого ждет? – не ответишь себе. И родители, и родители родителей, и вся родня его по обеим линиям – все были в земле (так получилось), как-то за последние десять – пятнадцать лет будто мор какой-то навалился на маленький его поселок, у Виташи Капитонова хоть мать с отцом живы, у Георгия Баженова дочь Майя живет с двумя детьми, Андреем и Любочкой, а вот у него – никого нет. И вот многие – не ездят на родину, а он, Антон Иванович, ездит, – зачем, почему, для чего?
И вдруг Антон Иванович вспомнил Капитонов-ского попугая, его потешные важные движения, его как бы постоянно подмигивающий тебе глаз, его суматошный и настойчивый крик:
– Я знаю, где золото лежит! Я знаю, где золото лежит!
Вспомнил и, сам не зная почему, рассмеялся. Хорошо рассмеялся, весело, как в детстве; что-то тут такое было забавное и обнадеживающее, если на Руси не только петухи кричат, но еще и попугаи знают, где золото лежит…
Пятый год тянулась их любовь, вошла в какое-то привычное, заунывное русло; заунывное, пожалуй, резко сказано, просто настолько все обыденно и ясно, что даже скука иной раз одолевала.
Но кого скука одолевала? Скорее всего – Алену.
А Саша ничего, жил себе не тужил, в том смысле, что ближайшие задачи ему были ясны, оставалось только действовать: зарабатывать и зарабатывать деньги, чтобы купить новую машину, желательно иномарку, купить квартиру, купить мебель, а потом и гараж, а потом и дачу можно, пусть хоть какую-то, самую маленькую, а потом… Одним словом, действовать и действовать, а регистрировать там их отношения с Аленой или не регистрировать – это только трата времени, пустая формальность. Главное: они любят друг друга? живут вместе? им хорошо? Что еще надо…
Не заметил Саша, как тоска какая-то начала томить Алену. Собственно, кто хотел квартиру-то? Она. Кто хотел жить отдельно, в собственной квартире, иметь мебель и все остальное? Конечно, она.
Он хотел только одного: шикарную машину. Но… не быть ни женой, ни невестой столько лет – кто хочешь устанет. И все время вот это ожидание: поженимся на следующий год, потом еще через год, потом нужно еще деньжат подкопить, потом что-то еще… Год за годом, почти пять лет, так все и тянется…
А денег на рынке они немало зарабатывали. Во всяком случае, по меркам обычного москвича, вполне достаточно, чтоб жить-не тужить.
И как-то даже деньги вдруг прискучили Алене. Это ей, которая столько лет пласталась на рынке, которая добывала их в тяжком труде, в недосыпе и в постоянной грязи, вместе с Сашей, конечно, но… Что-то в деньгах есть такое, что отравляет душу, и не потому, что их много или, наоборот, мало, а потому, что они просто-напросто иллюзия жизни, а не сама жизнь!
(Как усмехнутся или возмутятся сейчас те, у кого денег постоянно не хватает!)
Иллюзия жизни…
А что не иллюзия-то? Мы сами все – иллюзия жизни. Так мог бы ответить Саша, если бы его спросили, конечно. Но его никто не спрашивал. Мы сами всё спрашиваем и спрашиваем, и сами же всё отвечаем и отвечаем.
А если нас другие спросят (да еще что-нибудь дельное) – пошлем их всех к чертовой матери. Или ответим так, что толком ничего и сами не поймем.
Иллюзия жизни…
Рядом с квартирой, где они снимали жилье, был некий захолустный клуб, и часто около него (из окна их комнаты хорошо видно) какая-то странноватая молодежь сновала, туда да сюда. Саша комментировал: наркоманы какие-нибудь. Или: шпана подзаборная. Или: бездельники московские.
Может быть, может быть…
Однажды Алена, ради интереса, заглянула туда: что-то ее поразило там. Сказала Саше:
– Пойдем вместе, послушаем.
Он махнул рукой:
– Чего я там не видел! Хочется – ходи, но ты мне толком объясни: что там такое?
– Да не могу я объяснить. Вот я тебя сама спрошу: что такое просветление?
– Чего? Откуда я знаю?
– Вот и я не знаю. Верней, слово такое знаю, а смысла не понимаю.
– Походи-походи, там тебе объяснят, – усмехнулся Саша. – И охота после работы, как дуре, переться туда. Ложись-ка лучше рядом, телевизор посмотрим.
– Ну да, как дед с бабкой, на печи, так мы у телевизора. Тошнит уже.
Ревновал ли он ее? Нет, конечно, потому что столько лет они вместе, породнились больше, чем муж и жена. Муж и жена – у тех штамп, а у Саши с Аленой любовь, ее штамповать не надо, ей не нужны подпорки и подмостки. С другой стороны, и приятного мало, что по вечерам он теперь частенько один оставался. Видел только в окно, как Алена входила в клуб, дверь захлопывалась за ней – и всё.
– Танцуете вы там, что ли? – спрашивал Саша. (Он терпеть не мог танцев и тусовок.)
– Нет, не танцуем.
– А что делаете? Лекции слушаете?
– Лекции?.. Ну, бывает… только не лекции, другое.
– Как это? Лекции… другое… Что конкретно-то?
– Конкретно просветляемся.
– Рентгеном, что ли, вас там просвечивают? – не удержался от усмешки Саша.
– Рентгеном? А что, неплохо сказано… У меня в последнее время именно такое ощущение, будто меня всю-всю, насквозь, просветили, а там, представляешь, пустота.
– Это у тебя-то пустота? – Он нежно притянул ее к себе, обнял: – Смотри, какая ты у меня мягкая, теплая, гладкая, какая ты вся ласковая, приятная, смотри, какая у тебя грудь, как у Мерилин Монро…
– Ну, Саша… ну, что ты…
– Иди, иди ко мне… Вот видишь, дай-ка я поцелую твои пухлые губки, твои плечики, твою вот эту родинку, твою грудь…
– Ну, Саша… не надо… какой ты… ну хорошо… хорошо… целуй… вот так… да, и я… я тоже люблю… люблю, люблю, Сашенька… милый, дорогой…
Они забывались в любви, ласке и истоме, и Саша успокаивался на какое-то время, потому что знал и чувствовал: он любим, он любит Алену, а она любит его. Разве такое можно подделать, разве можно в этом обмануться?
Самая удивительная (для Саши) перемена в Алене была та, что она перестала интересоваться украшениями, побрякушками, кольцами, перстнями с камушками, серьгами… всем тем, что так обожают женщины. Для мужчин очень утомительна и изнурительна эта их любовь, поэтому когда от тебя отстанут со всеми этими бесконечными просьбами: купи это, купи то, а лучше всего и то и другое, то поначалу вздохнешь с облегчением… А насторожишься ли потом? Может быть, но не сразу. Ведь у мужчин какая проблема: «Когда ты насытишься, наконец?!» Вот его извечный вопрос к женщине. И если вдруг покажется, что она действительно насытилась, разве не обрадуешься тут, не вздохнешь облегченно?
Вздыхай, вздыхай, как бы плакать не пришлось…
Чей это голос? Кто это говорит?
Это внутренний голос каждого человека на земле: что бы мы ни делали, все кажется, что придет час расплаты, за хорошее – плохое, за плохое – совсем дурное, ну а если ты порядочный и нормальный человек, тогда, пожалуй, это совсем подозрительно: обязательно придут к тебе за ответом!
И что за жизнь такая у человека?
…Кроме того, в палатке ли Алена стоит (на рынке) или дома сидит (за конспектами), вдруг глаза ее покрываются поволокой, и далеко-далеко уносится Алена в своих мечтах и мыслях… Вот и другая перемена в ней произошла, а именно: из прагматичной и довольно жесткой молодой женщины Алена постепенно превратилась в мечтательную и задумчивую девушку.
Еще одна перемена (которая совсем не нравилась Саше): перестала Алена обращать внимание, чисто ли у них в комнате, прибрано ли, есть ли продукты в холодильнике, сварены ли щи или готово ли жаркое. Отстраненная от всего стала Алена, чудная, неузнаваемая.
А однажды, вернувшись из клуба, заявила:
– Знаешь, Саша, я уезжаю… Дней через десять, наверное.
– Куда, если не секрет?
– Не секрет, – мечтательно улыбнулась она. – Совсем не секрет. Наоборот. Я уезжаю на Алтай.
– Что-то я не слышал, чтобы у тебя там были родственники или знакомые.
– Точно, родственников нет. Но мы все родные на земле. Впрочем, о чем это я? Просто мы едем на Алтай… Искать одну гору…
– Мы – это твои знакомые по клубу?
– Да. По клубу. Кстати, Саша, – она подошла к нему, заглянула в глаза, – ты тоже можешь поехать с нами. Я тебя приглашаю. Я тебя зову, зову, зову…
– Ты это серьезно?
– Вполне.
– Куда конкретно ты меня приглашаешь? Ты помнишь, мы через неделю получаем груз из Турции, надо товар продавать?
– Через неделю? Ну, Сашенька, товар будет всегда, а на Алтай ехать нужно именно сейчас.
– Почему сейчас? – не понял Саша.
– Сейчас время. Пора. Понимаешь?
– Не понимаю. Ну, и что мы там делать будем?
– Сначала будем искать гору Шамбалу. Но это не главное.
– Шамбалу? Это еще что такое?
– Ты не слышал про Шамбалу? Впрочем, ты прав. Шамбала – она везде, она и на Алтае, и в Гималаях, и даже у нас здесь, в Подмосковье, может оказаться. Шамбала – это гора, конечно, но это тайна, которая скорей всего находится внутри нас самих.
– Ты не бредишь, Аленка?
– Я знаю, это странно для тебя звучит. Но ты пойми, я люблю тебя, я хочу, чтобы мы поехали вместе, я приглашаю тебя!
– Ну, если отдохнуть немного… можно, конечно.
– Не отдохнуть, Саша. Наоборот – потрудиться.
– Здесь вкалывай, там трудись, где и когда отдыхать тогда?
– Там труд – это совсем другое. Это не наше вкалыванье. Тот труд – это поиски самого себя.
– Да ладно трепаться. Мы давно нашли друг друга. Что еще надо-то?
– Саша, пойми: я серьезно с тобой говорю. Мы любим друг друга, это правда, мы любим друг друга давно, столько лет, но мы должны по-настоящему найти друг друга!
– И там, на этой горе Шамбале, там и найдем, конечно, друг друга? – усмехнулся Саша.
– Не обязательно. Но может быть… Дело не в самой горе. Дело в пещере, которую мы будем искать. На горе Шамбале есть сокровенная пещера Бинго, в этой пещере горит огонь откровения. Там, именно там, мы можем найти свое просветление. Мы освободимся от страданий, потому что главный источник страданий – наши желания. Если нам повезет, если мы будем достойны того, мы освободимся от желаний, найдя в этой пещере огонь откровения, который опалит нас и исцелит нас от главного зла в мире: ненасытности желаний!
– Ты свихнулась, Аленка.
– Нет, Саша, я говорю серьезно.
– Да не собираюсь я освобождаться от желаний. Вся наша жизнь – сплошное желание.
– Вот именно, Саша. Но желание это ненасытно, а потому бездонно и недостижимо.
– Да, доходилась ты в этот клуб… Чувствовал я: добром это не кончится.
– Это не только добро, это суть, истина, откровение и сокровище просветления.
– Может, тебя в психушку отвезти?
– Саша, я серьезно: через неделю я уезжаю на Алтай. Я люблю тебя и поэтому зову с собой. Я люблю тебя!
– А если я скажу: нет?
– Никто никогда не говорит по-настоящему этого сакраментального слова «нет». Это только кажется нам. Вот поэтому и нужно нам просветление…
– Нет, точно, ты сбрендила.
– Не говори так, Саша. Я уезжаю – и ты должен решить: вместе мы или порознь?!
…В замешательстве и недоумении поехал Саша в один из вечеров домой, к матери и отцу. Антона Ивановича, как обычно, дома не было (в командировке на Урале), а мать, Марина Михайловна, так обрадовалась Саше, так обрадовалась, что он даже растерялся:
– Ма, ты чего? Случилось что-нибудь?
– Нет, ничего, слава Богу, ничего. – Она обнимала и целовала Сашу в лоб, прижималась к нему, вдыхала в себя его родной, такой тонкий и почти забытый сыновний запах: – Просто я соскучилась! Вы совсем забыли нас с отцом, и ты, и Юрочка, ни одни не приезжаете, ни невест своих не показываете… Как я соскучилась, как я исстрадалась, Сашенька!
– Ну-ну, мама, что ты…
Они сидели на кухне, пили чай с клубничным вареньем, и глаза матери счастливо светились, когда она смотрела, как младший ее сын, ложечкой, как в детстве, ест и ест варенье из розетки (так и съест все варенье, а о чае не вспомнит). Она вновь кладет ему варенье и с улыбкой напоминает:
– А чай, Сашенька, а чай забыл? Ведь остывает.
– Да чаю я у себя напьюсь, а вот варенья такого, твоего, домашнего, когда еще поем?
– Вот и приезжал бы к нам почаще, вместе с Аленой. Как вы хоть живете, расскажи!
И Саша, воспользовавшись моментом, начал рассказывать матери свою историю; глаза у Марины Михайловны вначале округлились, а потом она сказала как отрезала:
– Так я и знала. Говорила я тебе, говорила: женитесь!
– Да при чем здесь это, мама?