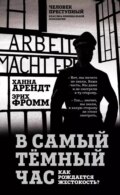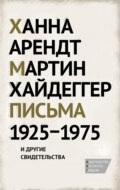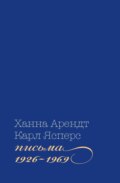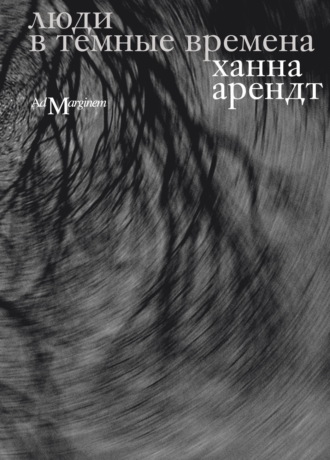
Ханна Арендт
Люди в темные времена
Несмотря на различие между мнением, что ты обладаешь истиной, и мнением, что ты прав, у этих точек зрения есть одна общая черта: в случае возникновения конфликта те, кто стоит на той или на другой, обычно не готовы пожертвовать своими взглядами ради человечности или дружбы. Они даже верят, что такая жертва означала бы нарушение более высокого долга, долга «объективности»; так что, даже принося иногда такую жертву, они не чувствуют, что поступают по совести, но стыдятся своей человечности, а часто и чувствуют за собой явную вину. В категориях времени, в которое мы живем, и в категориях множества претендующих на правоту мнений, которые господствуют над нашим мышлением, можно перевести конфликт Лессинга – без ущерба для его сути – в конфликт, более близкий нашему опыту, показав его приложимость к двенадцати годам и к господствующей идеологии Третьего рейха. Отвлечемся на мгновение от того, что нацистская расовая доктрина в принципе недоказуема, поскольку противоречит «природе» человека. (Кстати, стоит отметить, что сами эти «научные» теории не были ни изобретением нацистов, ни даже изобретением немцев.) Но предположим ненадолго, что расовые теории можно было бы неопровержимо доказать. (Отрицать, что практические политические следствия, которые нацисты извлекли из этих теорий, были совершенно логичны, и без того невозможно.) Предположим, что с помощью несомненных научных доказательств действительно было бы показано, что такая-то раса – низшая; оправдало бы это ее уничтожение? Но ответ на этот вопрос все еще слишком несложен, так как мы можем сослаться на заповедь «Не убий» – фактически ставшую фундаментальной заповедью, управляющей юридическим и этическим мышлением Запада, с тех пор как христианство победило античность. Но в категориях того способа мышления, которым не управляют ни юридические, ни этические, ни религиозные ограничения – а мышление Лессинга было именно таково – вольное и «живо-изменчивое», – вопрос следовало бы поставить так: Стоило ли бы ради такой доктрины, пусть неопровержимо доказанной, пожертвовать хотя бы одной дружбой между двумя людьми?
Так мы возвращаемся к моему исходному пункту, к поразительному отсутствию «объективности» в полемике Лессинга, к его постоянно бдительной пристрастности, не имеющей ничего общего с субъективностью, поскольку она всегда занята не собой, но отношениями людей к их миру, их позициями и мнениями. Ответить на предложенный мной вопрос Лессингу не составило бы никакого труда. Никакое проникновение в сущность ислама, или иудаизма, или христианства не помешало бы ему завязать дружбу и дружеский разговор с убежденным мусульманином, или набожным евреем, или верующим христианином. Любую доктрину, принципиально упраздняющую возможность дружбы между двумя людьми, его вольная и безошибочная совесть отвергла бы с порога, не нуждаясь в неопровержимых доводах, которые бы разоблачали ее как «объективно» ложную. Он бы сразу встал на сторону человека и уже не обращал бы внимания на ученые или неученые аргументы любого лагеря. Такова была человечность Лессинга.
Эта человечность возникла в политически порабощенном мире, основания которого к тому же были уже поколеблены. И Лессинг тоже жил в «темные времена» и был по-своему разрушен их темнотой. Мы видели, какая сильная потребность в такие времена есть у людей придвинуться друг к другу поближе, чтобы отыскать в теплоте близости замену того света и освещенности, которые может пролить только публичная сфера. Но это означает, что они избегают споров и стараются, насколько возможно, общаться лишь с теми людьми, с которыми не могут вступить в конфликт. Человеку с характером Лессинга в такую эпоху и в таком тесном мире не было места; сдвигаясь, чтобы согреться друг от друга, люди отодвигались от Лессинга. А для него, полемичного чуть ли не до сварливости, одиночество было не менее невыносимо, чем излишняя близость братства, стирающего все различия. Он никогда по-настоящему не стремился порвать с тем, с кем вступал в спор; ему хотелось только очеловечить даже бесчеловечное непрестанным и все время заново заводимым разговором о мире и вещах в мире. Он хотел быть другом многих людей, но ничьим братом.
Эту дружбу в мире с людьми ему не удалось обрести в споре и разговоре, и более того – при господствовавших тогда в немецкоязычном мире условиях это и не могло получиться. Особой симпатии к человеку, который «стоил больше, чем все его таланты» и чье величие «заключалось в его индивидуальности» (Фридрих Шлегель), как раз в Германии никогда не испытывали, потому что такая симпатия возникает из политики в наисобственном смысле этого слова. Так как Лессинг был полностью политической личностью, он настаивал на том, что истина может существовать лишь там, где она очеловечена разговором, лишь там, где каждый говорит не то, что просто пришло ему в голову в данный момент, а то, что ему «мнится истиной». Но такая речь фактически невозможна в одиночестве; она принадлежит сфере, где есть много голосов и где провозглашение того, что каждому мнится истиной, и связывает, и разъединяет людей, как раз и устанавливая те дистанции между людьми, которые в совокупности составляют мир. Всякая истина вне этой сферы, независимо от того, идет ли она людям на пользу или во вред, бесчеловечна в буквальном смысле слова; но не потому, что она могла бы настроить людей друг против друга и их друг от друга отдалить, но, совершенно напротив, потому, что она могла бы внезапно объединить всех людей в едином мнении, так что из многих мнений возникло бы одно, как будто не люди в их бесконечной множественности, но человек в единственном числе, один вид и его экземпляры, населяют землю. Случись это, мир, который может образоваться только в пространствах между людьми во всем их разнообразии, совершенно бы исчез. По этой причине самое глубокое, что было сказано об отношениях между истиной и человечностью, можно найти в сентенции Лессинга, которая словно извлекает из мудрости всех его сочинений последнее слово. Сентенция эта гласит:
Jeder sage, was ihm Wahrheit dünkt,
Und die Wahrheit selbst sei Gott empfohlen!
(Пусть каждый говорит, что ему мнится истиной,
А саму истину предоставим Богу!)
Роза Люксембург
(1871–1919)
I
Каноническая биография английского образца – один из самых замечательных историографических жанров. Длинная, исчерпывающе документированная, с подробными примечаниями и обильными цитатами, она обычно выходит в виде большого двухтомника и говорит о соответствующем историческом периоде больше и ярче, чем любые – кроме самых выдающихся – книги по истории. Ибо, в отличие от других биографий, здесь история понимается не как неизбежный хронологический фон для жизни знаменитости, но как будто бесцветный свет исторического времени прошел, преломившись, сквозь призму великой личности, и в получившемся спектре жизнь и мир слились воедино. Возможно, поэтому каноническая биография сделалась классическим жанром для великих государственных деятелей, но оставалась малопригодной там, где главный интерес вызывает история самого человека, или для жизнеописаний художников, писателей и вообще всех, кого их гений вынуждал отдалиться от мира и кто важен прежде всего своим творчеством, произведениями, которые они прибавили к миру, а не ролью, которую они в нем играли[11].
Дж. П. Неттл сделал гениальный ход, выбрав жизнь Розы Люксембург[12], наименее вероятного кандидата, предметом жанра, который, казалось бы, годится только для биографий великих государственных и иных деятелей. Она, безусловно, ничем подобным не была. Даже в своем собственном мире – мире европейского социалистического движения – она оставалась, в общем, маргинальной фигурой, со сравнительно краткими моментами яркого блеска; ее влияние делом и – написанным – словом вряд ли можно сравнить с влиянием ее современников – Плеханова, Троцкого и Ленина, Бебеля и Каутского, Жореса и Мильерана. Если предпосылка успеха автора в данном жанре – успех его персонажа в мире, то как м-р Неттл сумел добиться успеха с этой женщиной, которая в ранней молодости из родной Польши ринулась в германскую социал-демократическую партию; которая продолжала играть ключевую роль в незаслуженно малоизвестной истории польского социализма; и которая затем, в течение примерно двух десятилетий, никогда не имея официального признания, оставалась самой противоречивой и самой непонятой фигурой в немецком левом движении? Ибо именно в успехе – успехе даже в ее собственном мире революционеров – было отказано Розе Люксембург в жизни, в смерти и после смерти. Не может ли ее неудача – если иметь в виду официальное признание – быть как-то связана с роковой неудачей революции в нашем веке? Не предстанет ли история в ином виде, если посмотреть на нее сквозь призму жизни и творчества этого человека?
Так это или нет, но я не знаю ни одной книги, которая бы проливала больше света на ключевой период европейского социализма – от последних десятилетий девятнадцатого века до того рокового дня в январе 1919 года, когда Роза Люксембург и Карл Либкнехт, два вождя Союза Спартака, предшественника немецкой компартии, были убиты в Берлине – на глазах и, вероятно, с тайного одобрения стоявших тогда у власти социалистов. Убийцы были членами ультранационалистического и официально запрещенного Freikorps (Добровольческого корпуса) – военизированной организации, из которой гитлеровские штурмовики вскоре будут вербовать своих самых способных убийц. Лишь не давно капитан Пабст, переживший остальных участников убийства, подтвердил, что правительство в то время практически находилось в руках Корпуса, поскольку они пользовались «полной поддержкой Носке», специалиста социал-демократов по национальной обороне, в то время отвечавшего за военные дела. Боннское правительство (в этом, как и в иных отношениях, только и мечтающее, как бы воскресить самые неприглядные черты Веймарской республики) дало понять, что именно благодаря Корпусу Москве после Первой мировой войны не удалось включить всю Германию в красную империю и что убийство Либкнехта и Люксембург было не преступлением, а «казнью по законам военного времени»[13]. Так далеко не заходила даже Веймарская республика, которая никогда не признавала публично, что Корпус является орудием правительства, и «наказала» убийц, приговорив солдата Рунге к двум годам и двум месяцам заключения за «покушение на убийство» (он ударил Розу Люксембург по голове в коридоре гостиницы «Эдем»), а лейтенанта Фогеля (он был дежурным офицером, когда ей в автомобиле выстрелили в голову и выбросили тело в канал Ландвер) – к четырехмесячному заключению за «недонесение о теле и незаконное избавление от оного». На процессе в качестве вещественного доказательства была предъявлена фотография, где были изображены Рунге и его товарищи, празднующие убийство в той же гостинице на следующий день; вид фотографии очень развеселил ответчика. «Обвиняемый Рунге, ведите себя прилично. Здесь нет ничего смешного», – сказал председатель суда. Сорок пять лет спустя, на франкфуртском процессе над преступниками из Освенцима, произошла похожая сцена; прозвучали те же слова.
После убийства Розы Люксембург и Карла Либкнехта раскол европейского левого движения на социалистические и коммунистические партии стал необратим; «бездна, о которой коммунисты до тех пор рассуждали теоретически, с этим убийством стала реальностью – и это была могильная бездна». И с этого преступления, поскольку ему потворствовало правительство, в послевоенной Германии началась пляска смерти: убийцы из крайне правых начали с уничтожения видных вождей крайне левых – Гуго Гаазе и Густава Ландауэра, Лео Иогихеса и Евгения Левине – и быстро перешли к центру и правому центру – к Вальтеру Ратенау и Маттиасу Эрцбергеру, которые в момент убийства были членами правительства. Так смерть Розы Люксембург стала водоразделом между двумя эпохами в Германии; и точкой невозврата для немецких левых. Все, кто примкнул к коммунистам из-за горького разочарования в социалистической партии, испытывали еще большее разочарование от стремительного морального упадка и политического распада коммунистической партии – и тем не менее чувствовали, что возвращение в ряды социалистов означало бы согласие с убийством Розы. Личные реакции такого рода, хотя в них редко признаются вслух, принадлежат к числу тех элементов, которые, подобно фрагментам мозаики, находят свое место в большой головоломке истории. В случае Розы Люксембург они составляют часть той легенды, которая вскоре окружила ее имя. У легенд есть собственная правда, но м-р Неттл совершенно справедливо не обращает почти никакого внимания на миф о Розе. Его задачей, достаточно трудной, было восстановление ее исторической жизни.
Вскоре после ее смерти, когда все левые течения уже решили, что она всегда «ошибалась» («действительно безнадежный случай», как недавно выразился в Encounter, вслед за очень многими, Георг Лихтхайм), в ее репутации произошел любопытный сдвиг. Были изданы два томика ее писем. И писем этих – совершенно личных, отмеченных простой, трогательно человеческой и часто поэтической красотой – оказалось достаточно, чтобы разрушить пропагандистский образ кровожадной красной Розы – по крайней мере всюду, кроме самых твердолобых антисемитских и реакционных кругов. Однако сложившийся тогда образ тоже был легендой – сентиментальный образ любительницы птиц и цветов, образ женщины, прощаясь с которой при ее выходе из тюрьмы охранники чуть не плакали – словно не знали, как им жить дальше без общения с этой странной заключенной, упрямо относившейся к ним как к людям. Неттл не упоминает об этом эпизоде, но мне его рассказывали еще в детстве, а потом подтвердил Курт Розенфельд, ее друг и адвокат, говоривший, что сам при этом прощании присутствовал. Анекдот этот, по-видимому, достоверен, и его вызывающие некоторую неловкость черты как бы уравновешены другим анекдотом, который Неттл приводит. В 1907 году она и ее подруга Клара Цеткин (впоследствии «великая старуха» немецкого коммунизма) пошли прогуляться, забыли о времени и опоздали на встречу с Августом Бебелем, который уже начал за них беспокоиться. Тогда Роза предложила эпитафию для них обеих: «Здесь покоятся два последних мужчины немецкой социал-демократии». Семь лет спустя, в феврале 1914 года, ей удалось доказать истинность этой жестокой шутки в блестящей речи перед судьями уголовного суда, приговорившего ее за «подстрекательство» масс к гражданскому неповиновению в случае войны. (Кстати, не так уж плохо для «вечно ошибавшейся» женщины предстать перед судом по такому обвинению за пять месяцев до начала Первой мировой войны, которую мало кто из «серьезных» людей считал возможной.) М-р Неттл поступил очень разумно, перепечатав эту речь целиком; ее «мужественность» беспрецедентна в истории немецкого социализма.
Легенде понадобилось еще несколько лет и еще несколько катастроф, чтобы превратиться в символ ностальгии по добрым старым временам левого движения, когда надежды еще не увяли, революция казалась совсем близкой и, самое важное, вера в способности масс и в моральную чистоту социалистического или коммунистического руководства еще сохранялась в неприкосновенности. Что легенда эта – расплывчатая, неясная, неточная почти во всех деталях – смогла распространиться по всему миру и оживала всякий раз, как появлялись очередные «новые левые», – много говорит не только о личности Розы Люксембург, но и о качествах старшего поколения левых. Но рядом с этим приукрашенным образом сохранялись и прежние клише о «сварливой бабе», о «романтической особе», у которой не было ни «реализма», ни научности (она и правда всегда шагала не в ногу) и произведения которой, особенно ее великая книга об империализме («Накопление капитала», 1913), неизменно бывали встречены равнодушным недоумением. Каждое движение новых левых, когда наступала пора превращаться в старых левых (обычно, когда его членам исполнялось сорок), охотно хоронило свой прежний энтузиазм относительно Розы Люксембург заодно с мечтами молодости; а поскольку они обычно не давали себе труда прочесть – тем более понять – то, что она имела сказать, то им было очень легко от нее отделаться со всем филистерским высокомерием своего новоприобретенного статуса. «Люксембургизм», в полемических целях изобретенный уже после ее смерти партийными перьями, даже не удостоился осуждения как «измена» – к нему относились как к безобидной, детской болезни. Ничто из написанного или сказанного Розой Люксембург не пережило своего времени, кроме ее поразительно меткой критики большевистской политики на ранних этапах русской революции – и то лишь потому, что те, кого «предал их бог», могли воспользоваться ею как удобным, хотя и совершенно неадекватным оружием против Сталина. («Есть что-то непристойное в использовании имени и сочинений Розы как оружия холодной войны» – написал рецензент книги Неттла в The Times Literary Supplement.) У ее новых поклонников было с ней не больше общего, чем у ее хулителей. Ее обостренная чуткость к теоретическим оттенкам и ее безошибочные оценки людей, ее личные симпатии и антипатии ни при каких обстоятельствах не позволили бы ей поставить на одну доску Ленина и Сталина, не говоря уже о том, что она никогда не была «верующей», никогда не использовала политику как суррогат религии и, споря с церковью, всегда старалась, как отмечает м-р Неттл, не нападать на религию. Одним словом, если «революция и была для нее так же близка и реальна, как для Ленина», она так же не была для нее предметом веры, как и марксизм. Ленин был прежде всего человек действия и занялся бы политикой в любых обстоятельствах, но она, рожденная, по ее собственному полусерьезному выражению, «пасти´ гусей», легко могла бы посвятить всю жизнь или ботанике и зоологии, или истории и экономике, или математике, если бы доставшийся ей мир не оскорблял ее чувства справедливости и свободы.
Разумеется, это равносильно признанию, что она не была ортодоксальной марксисткой – более того, настолько ею не была, что можно усомниться, была ли она марксисткой вообще. М-р Неттл справедливо утверждает, что для нее Маркс был всего лишь «лучшим из истолкователей реальности»; и действительно, только человек, не питавший к нему личной привязанности, мог написать: «Я сейчас в ужасе от расхваленного первого тома „Капитала“ Маркса, от его витиеватых украшений в стиле рококо à la Гегель»[14]. В ее глазах важнее всего была реальность, со всеми ее чудесными и ужасными сторонами, – важнее даже, чем сама революция. Ее неортодоксальность была невинной, не полемической; она советовала друзьям читать Маркса ради «смелости его мыслей, отказа принимать что-либо на веру, а не ради ценности его выводов. Его ошибки… очевидны… вот почему [ей] ни разу не пришло в голову заняться сколько-нибудь подробной его критикой». Яснее всего это в «Накоплении капитала», которое лишь Францу Мерингу хватило непредвзятости назвать «поистине великолепным, поразительным достижением, не имеющим равных после смерти Маркса»[15]. Центральный тезис этого «странного шедевра» достаточно прост. Так как никаких признаков краха капитализма «под тяжестью экономических противоречий» не наблюдалось, Люксембург начала искать внешнюю причину, которая бы объясняла его выживание и рост. Нашла она ее в так называемой «теории третьего человека», то есть в том факте, что процесс роста есть следствие не только внутренних законов, управляющих капиталистическим производством, но и сохранения докапиталистических секторов в той стране, которую капитализм захватил и включил в сферу своего влияния. Как только этот процесс распространяется на всю национальную территорию, капиталисты вынуждены обращаться к другим частям земли, к докапиталистическим странам, чтобы вовлечь их в процесс капиталистического накопления, который, так сказать, питается всем, что находится вовне. Иными словами, Марксово первоначальное накопление капитала не было, подобно первородному греху, однократным событием, единичным актом экспроприации со стороны возникшей буржуазии, открывающим процесс накопления, который с тех пор с «железной необходимостью» следует своему имманентному закону вплоть до финального краха. Напротив, чтобы поддерживать ход системы, экспроприацию нужно повторять снова и снова. Следовательно, капитализм не является закрытой системой, которая порождает собственные противоречия и «беременна революцией»; он питается внешними факторами, и его автоматический крах произойдет (если произойдет) лишь тогда, когда будет захвачена и поглощена вся поверхность земного шара.
Ленин мгновенно сообразил, что, независимо от своих достоинств или недостатков, это описание принципиально не марксистское. Оно противоречило самым основам марксистской и гегелевской диалектики, утверждающей, что всякий тезис непременно порождает свой антитезис (буржуазное общество порождает пролетариат), так что весь ход процесса остается зависим от первоначального фактора, послужившего его причиной. Ленин указывал, что с точки зрения материалистической диалектики ее тезис, что расширенное капиталистическое воспроизводство невозможно в рамках замкнутой экономики и должно пожирать другие экономики, чтобы вообще функционировать, является фундаментальной ошибкой. Одна беда, что эта – с точки зрения абстрактного марксизма – ошибка исключительно верно описывала реальное положение вещей. Ее подробное «описание мучений негров в Южной Африке» тоже было, очевидно, «немарксистским», но кто сегодня станет отрицать, что оно вполне уместно в книге об империализме?
II
С историографической точки зрения, самое большой и оригинальный вклад м-ра Неттла – это открытие польско-еврейского «содружества сверстников» и возникшей оттуда пожизненной, крепкой и тщательно скрываемой привязанности Розы Люксембург к польской партии. Это действительно крайне многозначительный и совершенно забытый источник – не революции, но революционного духа в двадцатом веке. Эта среда, уже в двадцатые годы утратившая всякое общественное значение, сегодня исчезла окончательно. Ее ядро составляли ассимилированные евреи из семей среднего класса: их культура была немецкой (Роза Люксембург знала наизусть Гёте и Мёрике, а ее литературные вкусы были безупречны, далеко превосходя вкусы ее немецких друзей), политическое воспитание – русским, а моральные стандарты и в частной, и в общественной жизни – исключительно их собственными. Эти евреи – крохотное меньшинство на Востоке, еще меньший процент ассимилированного еврейства на Западе – стояли вне всяких социальных категорий, еврейских или нееврейских, не имели, соответственно, никаких шаблонных предрассудков и создали – в своей поистине блестящей изоляции – собственный кодекс чести, который затем привлек к ним довольно многих неевреев, в том числе Юлиана Мархлевского и Феликса Дзержинского – оба впоследствии стали большевиками. Именно из-за этой уникальной моральной основы первым главой ЧК Ленин назначил Дзержинского – человека, которого, как он надеялся, не развратит никакая власть; и разве не ему же поручили председательство в Комиссии по улучшению жизни детей?
Неттл справедливо подчеркивает превосходные отношения Розы Люксембург с семьей, родителями, братьями, сестрой и племянницей, из которых никто не проявлял ни малейшей склонности ни к социалистическим убеждениям, ни к революционной деятельности, но которые делали для нее все возможное, когда она скрывалась от полиции или попадала в тюрьму. Это заслуживает упоминания, так как показывает нам тот уникальный уклад еврейской семьи, без которого почти невозможно понять, откуда взялся этический кодекс содружества сверстников. Скрытым общим знаменателем для тех, кто друг в друге (и вряд ли в ком-то еще) всегда видел равного, служил принципиально простой опыт детского мира, в котором взаимное уважение и безусловное доверие, всеобъемлющая человечность и искреннее, почти наивное, презрение к социальным и этническим различиям сами собой разумелись. Объединяло членов компании то, для чего нет иного названия, кроме морального вкуса, – понятие, абсолютно не совпадающее с «моральными принципами»; подлинностью морального чувства они были обязаны тому, что выросли в еще не вывихнутом мире. Это и придавало им «редкую уверенность в себе», так раздражавшую мир, в который они затем попали, и производившую неприятное впечатление наглости и самомнения. Именно эта среда – и отнюдь не германская партия – была и осталась домом для Розы Люксембург. Дом этот был до известной степени передвижной и, будучи прежде всего еврейским, не совпадал ни с одним из ее «отечеств».
Конечно, весьма показательно, что СДЦПиЛ (Социал-демократическая партия Царства Польского и Литвы), партия именно этого – преимущественно еврейского – содружества, откололась от официальной Польской партии социалистов, ППС, так как последняя выступала за независимость Польши (ее самым знаменитым и удачливым питомцем стал Пилсудский, фашистский диктатор Польши после Первой мировой войны); и что после раскола члены этого содружества стали яростными поборниками интернационализма – нередко догматического. И даже еще показательнее, что национальный вопрос – единственная тема, по поводу которой Розу Люксембург можно упрекнуть в самообмане и нежелании смотреть фактам в лицо. Какая-то роль в этом ее еврейства неоспорима, хотя, конечно же, «прискорбная нелепость» – усматривать в ее антинационализме «специфически еврейскую черту». М-р Неттл ни о чем не умалчивает, однако старается уклониться от еврейского вопроса, и ввиду низкого уровня обычных дискуссий на эту тему его решение можно только приветствовать. К сожалению, его вполне понятная брезгливость помешала ему увидеть несколько важных фактов в этой сфере – упущение тем более обидное, что эти же факты, хотя и простой, элементарной природы, ускользнули и от внимания Розы Люксембург, обычно столь проницательного и чуткого.
Первый факт (на который, насколько мне известно, указывал только Ницше) заключается в том, что положение и функции евреев в Европе предрешили для них роль «настоящих европейцев» par excellence. Еврейский средний класс Парижа и Лондона, Берлина и Бены, Варшавы и Москвы не был, в сущности, ни космополитическим, ни интернациональным, хотя принадлежавшие к нему интеллектуалы и осознавали себя в таких категориях. Он был европейским – чего нельзя сказать ни об одной иной группе. И это не было вопросом убеждений; это был объективный факт. Иными словами, если самообман ассимилированных евреев заключался обычно в ошибочной вере в то, будто они точно такие же немцы, как сами немцы, такие же французы, как сами французы, то самообман еврейских интеллектуалов заключался в мысли, будто у них нет «отечества», хотя на самом деле их отечеством была Европа. Есть и второй факт: интеллигенты, по крайней мере, восточноевропейские, были полиглотами – сама Роза Люксембург свободно говорила по-польски, по-русски, по-немецки и по-французски и очень хорошо знала английский и итальянский. Они не сознавали, насколько важны языковые барьеры и почему лозунг «Отечество рабочего класса – социалистическое движение» так катастрофически ошибочен именно для рабочего класса. Более того, по меньшей мере странно, что сама Роза Люксембург, с ее обостренным чувством реальности и отвращением к любым клише, не сумела расслышать принципиальную ошибочность этого лозунга. «Отечество» (fatherland) – это, в конце концов, прежде всего «земля, страна» (land); а организация – отнюдь не страна, даже в метафорическом смысле. И действительно, есть жестокая справедливость в последующей трансформации этого лозунга – «Отечество рабочего класса – Советская Россия»: ведь Россия хотя бы была страной – что положило конец утопическому интернационализму этого поколения.
Можно было бы привести еще не один такой факт – и все же трудно утверждать, что Роза Люксембург полностью ошибалась в национальном вопросе. В конце концов, разве в катастрофическом падении Европы хоть что-то сыграло бо`льшую роль, чем безумный национализм, сопровождавший упадок национального государства в эпоху империализма? Вполне возможно, что те, кого Ницше назвал «настоящими европейцами», – ничтожное меньшинство даже среди евреев – были единственными, кто предчувствовал катастрофическое будущее, хотя они и не смогли верно оценить колоссальную силу националистических чувств в распадающемся политическом организме.
III
В тесной связи с открытием польского «содружества сверстников» и его неизменно важной роли в общественной и частной жизни Розы Люксембург стоит и публикация в книге м-ра Неттла недоступных прежде источников, которые помогают ему связать воедино факты ее биографии – «всю сложность любви и жизни». О ее частной жизни, как теперь выясняется, мы не знали почти ничего по той простой причине, что она тщательно уклонялась от публичности. Дело здесь не только в новизне самих источников. Большая удача, что новый материал попал в руки именно к м-ру Неттлу, и он совершенно справедливо лишь бегло упоминает о своих немногочисленных предшественниках, которым мешала не столько недоступность фактов, сколько их собственная неспособность действовать, думать и чувствовать вровень со своей героиней. Неттл распоряжается биографическим материалом с изумительной легкостью. Его подход не просто проницателен. Он первый сумел нарисовать похожий портрет этой поразительной женщины – нарисовать con amore (с любовью), с тактом и большой тонкостью. Она словно встретила в нем своего последнего поклонника, и именно поэтому хочется спорить с некоторыми его суждениями.
Он, безусловно, неправ, настаивая на ее честолюбии и карьеризме. Неужели он думает, что ее яростное презрение к охотникам за местами и статусом в немецкой партии, к их восторгу от попадания в рейхстаг – чистое ханжество? Неужели он верит, что настоящий «честолюбец» мог бы позволить себе такое великодушие, как она? (На одном международном конгрессе Жорес красноречиво «высмеял неразумные увлечения Розы Люксембург, но вдруг оказалось, что его некому переводить. Роза вскочила с места и перевела его яркую речь – с французского на столь же выразительный немецкий»). И как ему примирить честолюбие (если не предполагать притворство или самообман) с выразительной фразой в одном из ее писем к Иогихесу: «Я чертовски стремлюсь к счастью и готова препираться за мою ежедневную долю счастья с поистине ослиным упрямством». За честолюбие он принимает природную силу темперамента, способного, по ее же шутливому выражению, «поджечь степь», который толкал ее чуть ли не против воли в общественную жизнь и даже руководил большей частью ее чисто интеллектуальных начинаний. Хотя и подчеркивая постоянно высокие моральные критерии «содружества сверстников», он все же, видимо, не понимает, что такие вещи, как честолюбие, карьера, статус и даже успех как таковой, находились под строжайшим табу.