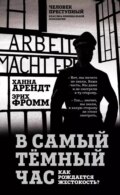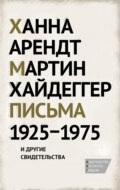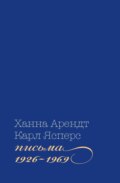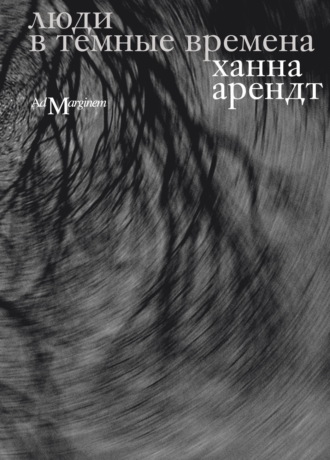
Ханна Арендт
Люди в темные времена
Еще одну сторону ее личности Неттл отмечает правильно, но вытекающих отсюда следствий, кажется, не осознает – она «всегда помнила о том, что она женщина». Одно это уже ставило границы ее честолюбию – а Неттл не приписывает ей большего, чем считалось бы естественным у мужчины такой же одаренности и возможностей. Ее неприязнь к движению за женскую эмансипацию, к которому неодолимо влекло всех женщин ее поколения и ее политических взглядов, показательна; сталкиваясь с суфражистской идеей равенства, ей, наверное, хотелось ответить: «Vive la petite différence!» (Да здравствует маленькое различие!) Она была чужаком – не только потому, что была и оставалась польской еврейкой в стране, которую не любила, и в партии, которую вскоре начала презирать, но еще и потому, что она была женщина. М-ру Неттлу, конечно, следует простить его мужские предубеждения; они бы мало значили, если бы не помешали ему до конца понять роль, которую играл в ее жизни Лео Иогихес – ее во всех практических отношениях муж и ее первый, а может быть, и единственный любовник. Их смертельно серьезная ссора, вызванная короткой связью Иогихеса с другой женщиной и бесконечно осложненная бешеной реакцией Розы, типична для их эпохи и среды – как и ее последствия: его ревность и ее многолетний отказ его простить. Это поколение еще твердо верило, что любовь поражает лишь однажды, и его беспечность относительно брачных свидетельств нельзя принимать за веру в свободную любовь. Из рассказа м-ра Неттла ясно, что у нее были друзья и поклонники и что ей это нравилось, но это вряд ли означает, что в ее жизни был другой мужчина. Доверие к партийным сплетням о брачных планах с «Гансиком» Дифенбахом, к которому она обращалась на «вы» и с которым ей и в голову не приходило общаться на равных, кажется мне откровенной глупостью. Неттл называет отношения Лео Иогихеса и Розы Люксембург «одной из великих и трагических любовных историй социализма», и спорить с этим суждением не приходится, если понимать, что причиной заключительной трагедии в их отношениях была не «слепая и саморазрушительная ревность», а войны и годы в тюрьме, обреченная немецкая революция и ее кровавый финал.
Лео Иогихес, имя которого Неттл тоже спас от забвения, – весьма примечательная и при этом типичная фигура среди профессиональных революционеров. Для Розы Люксембург он был существом безусловно masculini generis (мужского рода), что для нее значило довольно много: Вестарпа (лидера Немецкой консервативной партии) она предпочитала всем светилам немецкого социализма, «потому что он – мужчина». Она уважала не очень многих людей, и Иогихес возглавляет список, куда с полной уверенностью можно занести лишь имена Ленина и Франца Меринга. Он определенно был человеком действия и страсти, он умел и действовать, и страдать. Соблазнительно сравнить его с Лениным, на которого он чем-то похож – за вычетом страсти Иогихеса к анонимности и закулисной игре и любви к конспирации и опасностям, которая, наверное, добавляла ему эротического обаяния. Он действительно был Лениным manqué (несостоявшимся) – даже в своей «абсолютной» неспособности к писательству (как описала его Роза в проницательной и, в сущности, очень нежной характеристике в одном из писем) и в ораторской посредственности. И у Иогихеса, и у Ленина был огромный талант к действию и руководству – и ни к чему иному, поэтому оба они чувствовали себя беспомощными и лишними, когда нельзя было действовать и они оказывались предоставлены сами себе. В случае Ленина это не так заметно, так как он никогда не оставался в полном одиночестве, но Иогихес рано рассорился с российской партией из-за конфликта с Плехановым, патриархом русской эмиграции в Швейцарии в девяностые годы, считавшим самоуверенного еврейского юношу, только что приехавшего из Польши, «маленьким Нечаевым». В результате он, по словам Розы Люксембург, «прозябал без всякой почвы» долгие годы, пока революция 1905 года не предоставила ему первый шанс: «Совершенно внезапно он не только занял руководящее положение в польском движении, но даже в русском». (СДЦПиЛ выдвинулась во время революции и усилила свое влияние в последующие годы. Хотя сам Иогихес «не написал ни строчки», он тем не менее оставался «настоящей душой» партийной прессы.) Последний краткий взлет он пережил, когда, «совершенно неизвестный в СДПГ», во время Первой мировой войны организовал тайную оппозицию в немецкой армии. «Без него не было бы Союза Спартака», который, в отличие от других левых организаций в Германии, на короткое время превратился в своего рода «идеальное содружество». (Это, разумеется, не означает, что Иогихес устроил немецкую революцию; ее, как и все прочие революции, никто не устраивал. Союз Спартака тоже «скорее следовал за ходом событий, нежели его определял», и официальная версия, согласно которой «спартаковский мятеж» в январе 1918 года устроили или инспирировали его вожди: Роза Люксембург, Либкнехт, Иогихес, – это миф.)
Мы никогда не узнаем, сколько политических идей Розы Люксембург происходят от Иогихеса; мысли мужа и жены не всегда легко разъединить. Но если его ждала неудача там, где Ленина ждал успех, то в силу не только меньшей его масштабности, но и – как минимум в той же мере – в силу внешних причин: он был еврей и поляк. Но в любом случае не Роза Люксембург поставила бы это ему в вину. Члены содружества не оценивали друг друга в таких категориях. Сам Иогихес, наверное, согласился бы с Евгением Левине, как и он, русским евреем, но более молодым, сказавшим: «Мы мертвецы в отпуске». Это настроение и отделяло его от других; ибо и Ленин, и Троцкий, и сама Роза Люксембург едва ли думали в таких категориях. После ее смерти он отказался уехать из опасного для него Берлина: «Кто-то должен остаться, чтобы написать для всех нас эпитафии». Его арестовали через два месяца после убийства Либкнехта и Люксембург и застрелили на заднем дворе полицейского участка. Имя убийцы было известно, но «не было сделано даже попытки наказать его»; таким же образом он убил еще одного человека, а затем «удачно продолжил свою карьеру в прусской полиции». Таковы были mores (нравы) Веймарской республики.
Читая и вспоминая эти старые истории, с болью осознаёшь разницу между немецкими социал-демократами и членами содружества. Во время русской революции 1905 года Розу Люксембург арестовали в Варшаве, и ее друзья собрали нужную для залога сумму (деньги, вероятно, дала немецкая партия). Выплата сопровождалась «неофициальной угрозой возмездия: если с Розой что-нибудь случится, за нее отомстят актом против видных чиновников». Идея такого «акта» никогда не приходила в голову ее немецким друзьям ни до, ни после волны политических убийств, когда безнаказанность убийц уже стала очевидна.
IV
Более огорчительны в ретроспективе – и, безусловно, более болезненны для нее, чем ее мнимые «ошибки», те несколько ключевых эпизодов, когда Роза Люксембург не выбивалась из ряда, а, наоборот, поддерживала официальное руководство немецкой социал-демократии. Это и были ее подлинные ошибки, и каждую из них она в итоге признала и о каждой горько сожалела.
Самая безобидная из них касалась национального вопроса. В Германию она приехала в 1898 году из Цюриха, где получила докторскую степень «за первоклассную диссертацию о промышленном развитии Польши» (по словам профессора Юлиуса Вольфа, нежно вспоминающего в автобиографии о своей самой способной ученице); эта работа стяжала редкое «признание в виде немедленной коммерческой публикацию», и к ней до сих пор обращаются специалисты по польской истории. Главный тезис заключался в том, что экономический рост Польши целиком зависит от русского рынка и что любая попытка «образовать государство по национальному или языковому признаку означает отказ от всякого развития и прогресса на ближайшие пятьдесят лет» (ее экономическую правоту более чем подтвердило хроническое недомогание Польши между двумя мировыми войнами). Затем она стала специалистом по Польше в немецкой партии и партийной пропагандисткой среди польского населения в Восточной Германии, вступив в нелегкий союз с людьми, которые мечтали «онемечить» поляков вплоть до полного их исчезновения и «с радостью уступят тебе всех поляков в мире, включая и польских социалистов», как выразился один из секретарей СДПГ. Несомненно, «блеск официального одобрения для Розы был ложным блеском».
Гораздо серьезнее оказалось ее обманчивое согласие с партийным руководством в полемике о ревизионизме, в которой она сыграла ведущую роль. Эта знаменитая дискуссия, открытая Эдуардом Бернштейном[16], вошла в историю как спор о выборе между реформами и революцией. Но этот боевой лозунг неточен по двум причинам: он внушает мысль, будто на рубеже веков СДПГ все еще выступала за революцию, что неверно; и он скрывает объективную верность многих положений Бернштейна. Его критика экономической теории Маркса действительно, как он и заявлял, полностью «соответствовала реальности». Он указывал, что «огромный рост общественного богатства сопровождается не сокращением числа крупных капиталистов, а ростом числа капиталистов всех категорий», что «нарастающего сужения круга состоятельных людей и роста нищеты бедняков» не происходит, что современный пролетариат действительно беден, но не пауперизирован» и что лозунг Маркса «У пролетария нет отечества» неверен. Всеобщее избирательное право дало пролетариату политические права, профсоюзы – место в обществе, а новое империалистическое развитие – очевидный интерес в национальной внешней политике. Реакцию немецкой партии на эти неприятные истины прежде всего, разумеется, определяло глубокое нежелание подвергать критическому пересмотру свои теоретические основания, но это нежелание резко обостряла скрытая заинтересованность партии в статус-кво, которому угрожал анализ Бернштейна. На карту был поставлен статус СДПГ как «государства в государстве»: фактически партия превратилась в огромную и хорошо организованную бюрократию, стоящую вне общества и всецело заинтересованную в сохранении такого положения вещей. Ревизионизм à la Бернштейн привел бы партию обратно в немецкое общество, а подобная «интеграция» казалась столь же опасной для интересов партии, как и революция.
М-р Неттл предлагает интересное объяснение, почему СПДГ внутри немецкого общества занимала «положение парии» и не сумела войти в правительство[17]. Ее членам казалось, что партия может сама по себе составить высшую альтернативу «коррумпированному капитализму». На самом же деле, держа «неприступную круговую оборону против общества», она порождала то мнимое ощущение «сплоченности» (по выражению Неттла), которое глубоко презирали французские социалисты[18]. В любом случае было очевидно, что чем больше становилась численность партии, тем бесповоротнее ее радикализм «уничтожался организованностью». В этом «государстве в государстве» можно было вести очень уютную жизнь, избегая трений с социумом, наслаждаясь своим моральным превосходством без всяких практических последствий. Не приходилось даже расплачиваться за это сколько-нибудь серьезным отчуждением, так как это общество-пария фактически было лишь зеркалом, «уменьшенным отражением» немецкого общества в целом. Этот тупиковый путь немецкого социализма можно было верно анализировать с противоположных точек зрения – либо с точки зрения ревизионизма Бернштейна, признававшего эмансипацию рабочего класса в капиталистическом обществе за совершившийся факт и предлагавшего прекратить разговоры о революции, о которой все равно никто не помышлял; либо с точки зрения тех, кто был не только «отчужден» от буржуазного общества, но действительно хотел переделать мир.
На второй позиции стояли революционеры с Востока: Плеханов, Парвус и Роза Люксембург, которые и начали атаку на Бернштейна и которых поддержал Карл Каутский, виднейший теоретик немецкой социал-демократии, хотя ему, наверное, было удобнее и проще с Бернштейном, чем в компании новых союзников из-за границы. Победа их оказалась пирровой; она «лишь усилила отчуждение, еще дальше отодвинув реальность». Дело в том, что подлинный предмет спора не был ни теоретическим, ни экономическим. На карте стояло утверждение Бернштейна, стыдливо запрятанное в сноску, «что буржуазия – не исключая и немецкую – в массе своей остается довольно здоровой, не только экономически, но и морально» (курсив мой). Именно поэтому Плеханов обозвал его «филистером», а Парвус и Роза Люксембург сочли эту схватку решающей для будущего партии. Ибо суть дела заключалась в том, что и Бернштейн, и Каутский испытывали одинаковое отвращение к революции; «железный закон необходимости» служил Каутскому наилучшим из возможных предлогом, чтобы ничего не делать. Гости с Востока единственные не только «верили» в революцию как в теоретическую необходимость, но и хотели что-нибудь ради нее сделать – именно потому, что существующее общество они считали невыносимым по моральным соображениям, по соображениям справедливости. Бернштейна и Розу Люксембург, с другой стороны, объединяло то, что оба они были честны (чем, возможно, объясняется «тайная слабость» Бернштейна к ней), анализировали то, что видели, оставались верны реальности и критически относились к Марксу; Бернштейн это понимал и, отвечая на нападки Розы Люксембург, язвительно отмечает, что она тоже усомнилась «во всех марксистских предсказаниях будущей социальной эволюции, поскольку последние опираются на теорию кризисов».
В основе первых триумфов Розы Люксембург в немецкой партии лежало двойное недоразумение. На рубеже веков СДПГ была предметом зависти и восхищения социалистов во всем мире. Ее «великий старик», Август Бебель, с основания Бисмарком германского рейха до начала Первой мировой войны «определявший ее политику и дух», непрестанно заявлял: «Я остаюсь и всегда останусь смертельным врагом существующего общества». Разве это не было похоже на дух польского содружества? Разве из этой гордой позиции нельзя было заключить, что немецкая партия – та же СДЦПиЛ, только в большем масштабе? Розе Люксембург понадобилось почти десять лет – до ее возвращения в Германию после первой русской революции, – чтобы обнаружить, что секрет этой гордой непреклонности лежит в сознательной отрешенности от большого мира и в сосредоточенности исключительно на росте партийной организации. Осознав это, она после 1910 года разработала программу постоянного «трения» с обществом, без чего – как она тогда поняла – самый источник революционного духа обречен иссякнуть. Она не собиралась проводить свою жизнь в секте, сколь угодно крупной; ее приверженность революции имела прежде всего моральный характер, а это означало, что она оставалась страстно вовлечена в публичную жизнь и в дела общества, в судьбы мира. Ее вовлеченность в европейскую политику, выходящую за рамки непосредственных интересов рабочего класса и, соответственно, за рамки внимания любого марксиста, ярче всего проявляется в ее постоянных требованиях «республиканской программы» для немецкой и русской партий.
Это составляло один из главных пунктов ее знаменитой Juniusbroschüre (Брошюры Юниуса), написанной в тюрьме во время войны и затем ставшей платформой для всего Союза Спартака. Ленин, не знавший, кто ее автор, немедленно заявил, что провозгласить «программу республики… [значило бы] на практике „провозгласить“ революцию – с неверной революционной программой!». Что ж, год спустя русская революция разразилась вообще без всякой программы, и ее первым шагом стало уничтожение монархии и установление республики, и то же самое потом произошло в Германии и Австрии. Что, разумеется, не помешало русским, польским или немецким товарищам яростно ей возражать по этому вопросу. Более того, не национальный, а именно республиканский вопрос отделил ее от всех остальных самым решительным образом. Здесь она была совершенно одинока – как была одинока, хотя и менее явно, в своем отстаивании абсолютной необходимости свободы при любых условиях – не только свободы мысли, но и политической свободы.
Второе недоразумение прямо связано с полемикой о ревизионизме. Роза Люксембург приняла нежелание Каутского согласиться с анализом Бернштейна за искреннюю преданность революции. После первой русской революции 1905 года, ради участия в которой она спешно вернулась в Варшаву по фальшивым документам, она уже не могла себя обманывать. Для нее эти месяцы оказались не только решающим опытом, но и «самыми счастливыми в моей жизни». Вернувшись, она попробовала обсудить события с друзьями в немецкой партии. Она быстро поняла, что стоило слову «революция» столкнуться с реальной революционной ситуацией, как оно превратилось в набор бессмысленных звуков. Немецкие социалисты были убеждены, что подобные вещи происходят только в далеких варварских странах. Это был первый шок, от которого она так и не оправилась. Второй случился в 1914 году и едва не довел ее до самоубийства.
Разумеется, первое соприкосновение с революцией научило ее не только трезвости и изящным искусствам презрительности и недоверчивости, но и более полезным вещам. Отсюда происходит ее постижение природы политического действия, которое м-р Неттл справедливо называет ее самым важным вкладом в политическую теорию. Главный урок, который она вынесла из опыта революционных советов рабочих депутатов, заключается в том, что «хорошая организация не предшествует действию, а является его продуктом», что «организации революционного действия можно и должно учиться в процессе самой революции, как научиться плавать можно только в воде», что революции никем не «устраиваются», но разражаются «сами собой» и что «толчок к действию» всегда идет снизу. Революция «велика и сильна до тех пор, пока социал-демократы (в то время по-прежнему единственная революционная партия) ее не раздавят».
Однако у прелюдии 1905 года были два аспекта, которых она совершенно не заметила. Имелся, прежде всего, тот удивительный факт, что революция разразилась мало того что не в индустриальной стране, но на территории, где вообще не было сильного социалистического движения с массовой поддержкой. И имелся, во-вторых, равно неоспоримый факт, что революция была следствием поражения России в Русско-японской войне. Ленин эти два факта навсегда запомнил и вывел из них два следствия. Первое: большая организация не нужна; маленькой, крепко организованной группы с руководителем, твердо знающим, чего он хочет, достаточно, чтобы подобрать власть, как только правительство старого режима будет сметено. От больших революционных организаций только лишние хлопоты. И второе: поскольку революции не «устраиваются», а происходят благодаря никому не подвластным обстоятельствам и событиям, то войны – вещь полезная[19]. Второй пункт стал источником ее споров с Лениным во время Первой мировой войны; первый – источником ее критики тактики Ленина в русской революции в 1918 году. Ибо она категорически, с начала до конца, отказывалась видеть в войне что-либо, кроме самой ужасной катастрофы, какими бы ни были конечные последствия; цена в человеческих жизнях, особенно в жизнях пролетариев, была в любом случае слишком высока. Более того, ее до глубины души возмущала мысль, что революция может наживаться на войне и бойне, – что Ленина нимало не беспокоило. А что касается организации, то она не верила в победу, в которой не участвуют и лишены голоса широкие массы; более того, она так мало верила в удержание власти любой ценой, что «гораздо сильнее боялась испорченной революции, чем неуспешной», – и это действительно было «серьезным различием» между нею и большевиками.
И разве события не доказали ее правоту? Разве история Советского Союза не является одним длительным доказательством страшных опасностей «испорченных революций»? Разве «моральный крах», который она предвидела – не предвидя, разумеется, откровенной преступности ленинского преемника, – не причинил делу революции, как она его понимала, больше вреда, чем могло бы причинить «какое угодно политическое поражение… в честной борьбе против превосходящих сил и вопреки исторической ситуации»? Разве неверно, что Ленин «полностью заблуждался» в выборе средств, что единственным путем к спасению была «школа самой общественной жизни, самые неограниченные, самые широкие демократия и общественное мнение» и что террор всех «деморализовал» и все разрушил?
Она прожила слишком мало, чтобы увидеть, как права она была, и наблюдать ужасное и ужасно быстрое моральное вырождение коммунистических партий – прямое следствие русской революции – по всему миру. Не дожил до этого, кстати, и Ленин, который, несмотря на все свои ошибки, все же имел больше общего с первоначальным содружеством, чем с кем бы то ни было из своих преемников. Это стало очевидно, когда Пауль Леви, преемник Лео Иогихеса во главе Союза Спартака, через три года после гибели Розы напечатал ее (только что процитированные) заметки о русской революции, которые она написала в 1918 году «только для тебя» – то есть не собираясь публиковать[20]. «Это вызвало серьезное замешательство» и в русской, и в немецкой партии, и было бы понятно, если бы Ленин откликнулся резко и несдержанно. Однако он написал: «Мы ответим… двумя строками из одной хорошей русской басни: орлам случается и ниже кур спускаться, но курам никогда, как орлы, не подняться…Несмотря на… ошибки, она была и остается орлом». И далее он потребовал публикации «ее биографии и полного собрания ее сочинений», не вымарывая «ошибок», и бранил немецких товарищей за «невозможное» пренебрежение этим долгом. Было это в 1922 году. Три года спустя преемники Ленина решили «большевизировать» немецкую компартию и потому распорядились «о целенаправленной атаке на все наследие Розы Люксембург». За поручение радостно взялась молодая коммунистка по имени Рут Фишер, только что приехавшая из Вены. Она сказала немецким товарищам, что Роза Люксембург и ее влияние «ничем не лучше сифилитической бациллы».
Сточная яма открылась, и из нее появилось то, что Роза Люксембург назвала бы «другим зоологическим видом». Ни «агенты буржуазии», ни «социал-предатели» уже не требовались, чтобы уничтожить горстку уцелевших членов содружества и покрыть забвением последние следы их духа. Полное издание ее работ, нечего и говорить, так и не вышло. После Второй мировой войны двухтомник избранных работ «с подробнейшими примечаниями, подчеркивавшими ее заблуждения», вышел в Восточном Берлине, а вслед за ним был издан «развернутый анализ люксембургистской системы заблуждений» Фреда Ольснера, быстро «позабытый», так как стал «слишком сталинистским». Этот разбор был, безусловно, не тем, чего требовал Ленин, и не мог, как он надеялся, послужить «воспитанию многих поколений коммунистов».
После смерти Сталина положение начало меняться, хотя и не в Восточной Германии, где, характерным образом, пересмотр сталинистской истории принял форму «культа Бебеля». (Протестовал против этого нового вздора только несчастный старик Герман Дункер, последний оставшийся в живых видный партийный деятель, который еще мог «вспомнить самый прекрасный период моей жизни, когда, молодым человеком, я был знаком и работал вместе с Розой Люксембург, Карлом Либкнехтом и Францем Мерингом»). Однако поляки, хотя их собственное двухтомное издание избранных сочинений 1959 года «частично пересекается с немецким», «вынули ее репутацию почти не изменившейся из сундука, где она хранилась» со дня смерти Ленина, и после 1956 года на рынке появился «поток польских публикаций» на эту тему. Хотелось бы верить, что еще есть надежда на запоздалое признание того, чем она была и что она сделала, равно как и хотелось бы надеяться, что она наконец займет свое место в преподавании политологии в странах Запада. Ибо м-р Неттл прав: «Законное место ее идей – всюду, где всерьез преподают историю политических идей».