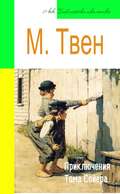И. О. Родин
Мифы Древнего Китая
© ООО «Родин и К», 2003
* * *

Введение
I
Пожалуй, нет ни одной древней цивилизации, которая бы вызывала столь пристальный интерес, как цивилизация Древнего Китая. Причем интерес этот особенный, отличающийся от того, который проявляют исследователи и все, кто интересуется вопросами происхождения культуры, к, скажем, Древнеегипетской цивилизации или к цивилизациям Месоамерики. Древнекитайская цивилизация уникальна тем, что дошла до нас в непрерывной традиции, что она не является результатом только археологических и антропологических разысканий на руинах погибшей культуры, но познается как органический, живущий и поныне феномен, входящий составной частью в культуру нынешнего Китая.
Это указывает на своего рода уникальную живучесть мировосприятия китайцев, дает пример культурного развития без радикальной ломки устоев прошлого во имя утверждения настоящего, пример относительно мирного сосуществования и ассимиляции не только различных религий – даосизм, буддизм, конфуцианство – но и мировоззренческих систем различных этапов развития общества (тотемизм, шаманизм). Для мировосприятия китайцев вообще всегда была чужда религиозная нетерпимость (исключая, пожалуй, лишь XX век, ознаменовавшийся «культурной революцией»). В отличие от хритианства и ислама, считающих своим долгом навязывать свои религиозные догмы остальному миру (идея мессианства), китайцы (как и большинство народов Востока) никогда не боролись с чужими богами. Они скорее были готовы включить их в свой и без того крайне многочисленный пантеон, лишь бы не нарушать общественного равновесия. Вероятно, это происходило из-за того, что религиозным системам, бытовавшим в Китае, во все времена был чужд жесткий монотеизм (т. е. признание единого верховного божества), свойственный христианству и исламу. Верховное космическое божество у китайцев никогда не было персонифицировано. Скорее, это было некое высшее начало, источник всего, которое не может быть познано (то, что у даосов, например, называлось «уцзи»). Так что китайцы поклонялись, можно сказать, даже не самому божеству, а его различным проявлениям в окружающем мире. Это могло быть что угодно – от грозного явления природы и болезни до странно ведущей себя бытовой утвари или рождения близнецов. Если некоторому количеству людей это высшее начало являлось в каком-то неведомом ранее виде, это было достаточным основанием для «канонизации» данного явления, возведения кумирни и основания соответствующего культа. Отсюда – своего рода беспрецендентный религиозный демократизм, столь чуждый западному миру. Божества были для китайцев своего рода каналами, связывающими миры, при помощи которых вышее начало могло проявляться в нашем мире и по которым, соответственно, можно было возносить молитвы, приносить жертвы, уведомлять о тех или иных своих пожеланиях – одним словом, общаться с высшим началом. В соответствии с этим, божества могли иметь множество имен, так как проявления высшего начала могли быть самыми различными. «Какая разница кому поклоняться – имена могут быть самыми различными, ведь важно не имя, а то, что за ним стоит», – вполне мог бы сказать каждый из китайцев. В соответствии с этой логикой, идея единобожества (и уж тем более мессианства) показалась бы китайцам чистешей воды нелепостью, или – в лучшем случае – какой-то разновидностью идолопоклонства. Именно поэтому основные коллизии в религиозных системах Китая разворачивались не вокруг вопроса кому поклоняться и как, но в вопросах проведения божественной воли в земной жизни. Как придать миру вокруг и, соответственно, обществу, вид божественной красоты и совершенства? Как уподобить мир Великому Творению, в котором царят гармония и равновесие? С теми или иными поправками все религиозные системы Китая отвечали на этот вопрос одинаково: при помощи самосовершенствования. Для даосов это был путь постижения Дао, для буддистов – постепенное слияние с изначальной сущностью мира (достижение состояния будды) и погружение в нирвану, для конфуцианцев – путь «идеального мужа», свято соблюдающего установления (правила) ли. Примечательно, что во всех этих случаях человек не был рабом бога, но всегда занимал позицию волящего субъекта – от выбора самого пути самосовершенствования до скорости передвижения по нему. Замечательно также и то, что человек изначально наделялся возможностью стать одним из «мест» проявления высшего божества, т. е. он вполне мог достичь «божественности» благодаря самосовершенствованию, и в том случае, если он делал это успешно, его вполне могли причислить к «лику святых». У даосов такой человек становился бессмертным, у буддистов – буддой, у конфуцианцев – «идеальным мужем» (правителем, чиновником и проч.) и вполне заслуженно занимал свое место в пантеоне. Идея изначальной греховности (первородного греха) человека, свойственная западным религиозным системам, никогда не была на Востоке среди определяющих. Соответственно, не было идеи изначальной вины и, как следствие, – идеи искупления. Даосские аскеты не умерщвляли плоть во имя искупления мнимых грехов, а наоборот – укрепляли ее путем пробуждения духа. Так, даосы верили, что существует возможность обрести бессмертие на уровне физического тела, полностью подчинив его укрепленному духу, они считали, что тело в этом случае приобретает совершенную пластичность, т. е. возможность трансформироваться во что угодно на материальном уровне. Другими словами, это была лишь техника самосовершенствования, а не добровольное принятие на себя наказания во искупление изначальной греховности человеческого существования. Аналогично самоистязания у индуистов никогда не были самоцелью (т. е. способом искупления грехов), но лишь методикой достижения экстаза и вхождения в состояние измененного сознания для приобретения и демонстрации сверхвозможностей. Правда, идею мироотрицания, хотя и в существенно ином виде, мы находим в буддизме, который считал существование, т. е. проявленность в материальном мире, изначальным злом. Однако если мы внимательно посмотрим на систему основополагающих ценностей буддистов, мы увидим, что существенно они отличаются лишь в одном пункте: буддисты вводят в свою систему понятий идею высшего божества, т. е. дают ему определение (давать определение – не значит персонифицировать), что всегда оставалось за скобками в даосизме (непостижимое Дао), а тем паче в конфуцианстве и более ранних религиозных системах. Основой материального мира, самого его существования, издревле считался дуализм, т. е. наличие во вселенной противоположных начал (инь и ян). Согласно космогоническим представлениям, до них существовало единое, нерасчлененное состояние бытия (у даосов именуемое «тайцзи»), из которого путем изначальной вибрации возникли противоположности (инь и ян), в свою очередь породившие весь материальный мир. Если в остальных религиозных системах верховное, изначальное божество оставалось «за скобками» и речь шла лишь о «земных» небесах, о гармонизации взаимодействия инь и ян и, соответственно, приведении в равновесие человеческого бытия, то буддизм в качестве своих небес признает уже не земные небеса, а находящиеся неизмеримо выше, и божеством, которому следует уподобляться, избирается уже не «небожитель», а «начало мира», первопричина и источник всего. Далее следует довольно простое умозаключение. Если уподобиться богу – значит стать Единым (т. е. вернуться в первоначальное состояние), то следует прекратить в себе борьбу противоположностей и остановить непрерывную цепь воплощений в материальном мире (инкарнаций). Но поскольку мир – есть воплощение единства и борьбы этих начал, то следует максимально ограничить свое взаимодействие с этим миром, так как он поселяет эту борьбу и внутри человека (проявлениями этой борьбы буддисты считали эмоции, чувства, желания, называя их «волнениями дхарм»). Отсюда – идея отрешенности от мира, молчания сознания и проч., а в конечном итоге – слияние с Единым, т. е. преодоление дуализма (проявленности), обретение изначальной цельности. Таким образом, вектор устремлений буддистов оказывается направлен лишь на иные «небеса», в то время как суть мировоззрения у них остается прежней – в их системе человек тоже является волящим субъектом, цель которого состоит в воплощении в себе божества, в максимально возможном уподоблении ему. Как видим, к теме «искупления» и «мироотрицания» в христианско-иудейском понимании все вышеизложенное не имеет ни малейшего отношения. Если совсем кратко формулировать разницу между западным и восточным религиозным мироощущением, то это можно было бы сделать так: восток – жить во имя того, чтобы воплотить в себе бога (стать богом), запад – жить во имя того, чтобы бог тебя простил. Не составляет труда подметить, что разница в этих двух положениях заключается в смещении субъектно-объектных отношений. В первом варианте человек является в гораздо большей степени субъектом, чем во втором. Во втором случае волящим субъектом мыслится лишь бог (который волен прощать или нет), в то время как человек – безусловный объект его волений. Свобода человека здесь ограничена произволом верховного божества, и воля человека направляется лишь на выбор способа и поддержание большей или меньшей интенсивности вымаливания прощения. Выражаясь в понятиях китайской философии, подобная расстановка сил свидетельствует о том, что в востоке в большей степени выразилось начало «ян», а в западе (стороне света, где заходит солнце) – соответственно, «инь» (что, к слову сказать, неоднократно упоминается в древних китайских источниках).
Интересно проиллюстрировать изложенное на примере того, как в двух системах воспринимается акт богоборчества.
В мировоззренческой системе Востока сам акт богоборчества ничем не примечателен и не осуждается как таковой по одной простой причине: никому не заказан путь сделаться богом. На первый план выходит не само намерение «сравняться с богом», а адекватность воплощения этого намерения. Если «претендент» оказывается способен явить свою божественную сущность (т. е. быть адекватным своим притязаниям), то он по праву является богом, заслуженно зачисляется в пантеон, ему строятся кумирни, он становится объектом культа. Однако если он не подкрепляет свои притязания реальным деянием, то он, соответственно, – самозванец, подлежащий разоблачению. Характерно, что мотив самозванства – один из центральных в китайской мифологии (напр., Чию, прикидывавшийся божеством и выдававший себя за Ян-ди; лисы, предстающие перед людьми то в обличии бессмертных даосов, то божеств и проч.). В более широком плане мотив самозванства воплощается в сюжетах, связанных с оборотничеством. Безусловно, своими корнями мифы об оборотнях уходят в архаические верования тотемистического характера. Однако трансформация смысла данных мифов, происходившая под воздействием буддизма, даосизма и конфуцианства, шла именно в этом направлении. Тотемистический миф приобретал совершенно иное значение: человек должен видеть под внешними проявлениями суть вещей, а, соответственно, отличать божественное (истинное) от подделки под божественное (т. е. ложного, в основе чего лежит самозванство). Не случайно в такого рода сюжетах разоблачителями оборотней являются «мужи, глубоко проникшие в суть вещей», т. е. люди, достаточно далеко продвинувшиеся по пути духовного самосовершенствования.
В западном варианте богоборчества (правильнее было бы сказать в монотеистической связке иудаизм-христианство-ислам) наблюдается совершенно иная картина. Монотеизм предполагает изначальную узурпацию божественного статуса и, соответственно, монополизацию религиозных отправлений. Относительная свобода остается лишь в области ритуала, которому в подобной ситуации неизбежно начинает придаваться избыточное значение, а также в толковании тех или иных текстов, уточнении канонических формулировок, иными словами, поле творчества смещается в область схоластики (что вполне наглядно проявляется, в частности, в Средние века). В подобных условиях любая «богоборческая» идея не может оцениваться с точки зрения ее истинности или ложности, т. к. изначально подпадает под определение «ереси» как нечто, посягающее на божественную монополию. Таким образом, преступным оказывается само намерение «сделаться богом» (см., напр., библейский сюжет о Вавилонской башне). Из этого вполне логично объясняется одно из важнейших отличий Востока и Запада. На Востоке (и, в частности, в Китае) различные религии сосуществовали (и трансформировались) в основном абсолютно мирно, в то время как история монотеистических религий (генетически обусловленная связка иудаизм-христианство-ислам) представляет собой непрерывную череду религиозных войн (с т. н. «неверными»). Любые реформы в условиях жесткой духовной монополии также неизбежно начинают трактоваться как богоборчество, приравниваются к ереси и в итоге оборачиваются «реформацией». Можно добавить, что в аналогичной ситуации на Востоке просто образовывалась еще одна школа того или иного религиозного направления.
В соответствии с известным изречением, история, впрочем, как и культурология, не терпит сослагательного наклонения. К ним бессмысленно подходить с нравственно-этическими оценками (так как в каждой системе шкала, по которой проводится оценка, будет своя). Хотелось бы также напомнить, что констатация факта – еще не есть оценка этого факта (т. е. помещение его в ту или иную философско-этическую систему). Мало того, даже констатация двух фактов не является основанием считать это оценкой чего бы то ни было, в лучшем случае – это проявление того самого дуализма, за которым и начинается самое интересное.
II
Все вышеизложенное, на первый взгляд не относящееся к мифологии Древнего Китая, имеет тем не менее к ней самое непосредственное отношение. Во-первых, с самого начала следует уяснить себе основную особенность мировосприятия китайцев, ее центральное ядро, на котором так или иначе «растут» все их этические или религиозные представления, а во-вторых, понять еще одну важную вещь. Религии в Китае никогда не существовали изолированно, никогда открыто не враждовали между собой, несмотря на то, что полемика (в частности, между даосизмом и конфуцианством) велась, и это нашло определенное отражение в источниках. Постоянно взаимодействуя и взаимообогащая друг друга, все эти составные элементы перемешивались и в результате образовали уникальную религиозно-философскую систему, называемую чань-буддизмом (в Японии получивший название дзэн). Данная школа буддизма сформировалась в Китае на рубже 5–6 вв., и ее название происходит от сокращенного варианта китайской транскрипции санскритского слова «дхьяна» (в китайском варианте «чань-на»), т. е. мистическое созерцание, сосредоточение, медитация. Как утверждает энциклопедический словарь, «методы пассивной медитации, заимствованные из традиционной буддийской йоги сочетаются в чань-буддизме с методами активной, «динамической» медитации, заимствованными из техник даосизма». Остается добавить, что заметное влияние на чань-буддизм оказал тантризм и другие «составляющие» культурного наследия Китая, в том числе и архаические мифы, которые подверглись соответствующей трансформации, превращаясь, по существу, в буддийские, конфуцианские или даосские притчи.
Именно эта трансформация во многом является тем фактором, который затрудняет определение поля собственно китайской мифологии. Во-первых, источники, которыми были зафиксированы материалы по мифологии Китая, крайне неоднородны не только по своему составу, но и по характеру. Фиксируя состояние мифологического наследия в какой-то определенный отрезок времени, они вместе с тем фиксировали ту или иную степень трансформации этих мифов ведущими религиозными школами (даосами, конфуцианцами, буддистами). Учитывая то, что процесс ассимиляции мифологического наследия начался достаточно давно (еще в I тысячелетии до н. э.), этот процесс можно было бы сравнить с взятием проб из приготовляющегося сплава на разных стадиях его готовности. В этом случае пробы неизбежно будут сильно различаться по своему составу. Единственным способом восстановить один из ингредиентов является очистка его от примесей, содержание которых, к слову сказать, может быть в «пробе» гораздо более 50 %. Именно поэтому – во-вторых, любая мифология в китайском варианте может быть лишь результатом реконструкции, скрупулезной ее очистки от позднейших напластований. Процесс этот довольно трудный, так как многие из частей мифологической системы были утрачены в силу своей невостребованности для пропаганды новых религиозных взглядов, а некоторые из них, наоборот, приобрели гораздо большее значение, чем имели изначально. Характернейшим примером могут являться мифы о первых государях (Хуан-ди, Юй и проч.), сведения о которых дошли до настоящего времени в значительной степени благодаря конфуцианству, которое использовало эти мифологические персонажи для пропаганды собственных идей (в данном случае – в формировании представлений об идеальном правителе).
Именно в силу специфических особенностей китайской мифологии нельзя не сказать об источниках, донесших до нас сведения о древних мифах.
III
Источники, из которых можно почерпнуть те или иные сведения по мифологии, можно разделить на три ктегории.
1. Письменные источники, дошедшие до нас. Эта категория представляет нам материалы, как правило, в наиболее полном виде. Трудности: письменный источник являет собой синхронический срез верований и мифология в этом варианте включает в себя массу напластований. Кроме того, фактором, искажающим материал, могут быть личные пристрастия автора, его приверженность тому или иному религиозному направлению.
2. Результаты археологических разысканий. Трудности: здесь мифологические материалы могут быть лишь результатом в той или иной степени достоверной реконструкции. При этом материалы археологических раскопок относятся лишь к предметам материальной культуры, соответственно, религиозные представления необходимо реконструировать.
3. Фольклорные, языковые материалы, данные этнографии – т. е. сказки, предания, легенды, топонимические данные, лингвистический анализ архаичных пластов языка, сведения об особенностях быта и социальной организации тех или иных народов.
У каждого из трех источников есть свои достоинства, но вместе с тем и очевидные недостатки. В соответствии с этим, более или менее достоверную картину мифологических воззрений можно восстановить лишь при комплексном подходе, используя все три типа источников. Кроме того, восстанавливая утраченные части архаических воззрений, следует привлекать материалы по мифологии других народов, восстанавливая их «по аналогии». Подобный комплексный подход стал возможен лишь с относительно недавнего времени, когда многие ученые – антропологи, этнографы, фольклористы, археологи, лингвисты и т. д. – начали работать «в связке», открывая новые перспективы на стыке наук. Это же касается китайской мифологии.
Желающих ознакомиться с историей изучения китайской мифологии мы можем отослать к книге Э. М. Яншиной «Формирование и развитие древнекитайской мифологии», М. 1984, в которой подробнейшим образом освещается этот вопрос. Врамках же данного предисловия упомянем лишь несколько фактов.
Впервые попытка систематизировать и изложить материал по китайской мифологии была сделана русским китаеведом С. М. Георгиевским еще в 1892. И хотя в своей работе автор не вышел за рамки русской мифологической школы того времени (Георгиевский придерживался точки зрения А. Н. Афанасьева) этот труд ценен тем, что он написан на уровне современной автору науки. Вслед за этим появляются работы других авторов – напр., работы Н. М. Мацокинаг («Мифические императоры Китая и тотемизм»), в которых впервые поднимаются вопросы о существовании в Китае материнского рода на примере женского предка Нюйва и пережитков тотемизма в традиции о древних мудрых предках китайцев. Интересна книга Я. Я. М. де Гроота «Демонология Древнего Китая» (1907), в которой была предпринята попытка дать наиболее полную картину китайской мифологии.
В самом Китае мифология стала объектом изучения сравнительно недавно, лишь в 20-х годах XX столетия. Однако на изучении мифологии в этот период сказался своего рода психологический стресс, который испытали многие китайские ученые, когда в результате археологических раскопок устоявшиеся веками теории и взгляды на древность китайской цивилизации потерпели крушение. Так, археологические раскопки обнаружили, что историческая традиция, которая начинала историю китайского государства с IV тысячелетия до н. э., основывалась на мифологической и легендарной традиции, что в IV–III тысячелетиях до н. э. на территории нынешнего Китая была вовсе не Великая китайская империя, как это представлялось веками китайским историкам, а неолитическая культура и племенной мир, очень далекий от идеально устроенного государства времен мудрых императоров древности. Таким образом, сведения, которые содержатся в древних источниках, из которых китайская традиция их в основном черпала («Книга преданий», «Хуайнаньцзы», «Лецзы», «Каталог гор и морей» и др.) являлись результатом «историзации» более древних, архаических воззрений, т. е. переработки их в форму, удобную для использования владыками Поднебесной. Немногим ранее западные ученые пришли к такому же заключению. Одновременно с этим в 20-е – 30-е гг. произошло приобщение китайской интеллигенции к современной западной науке и ее знакомство с историей мировой культуры. Именно выходом из замкнутости традиций своей культуры объясняется то, что многие китайские работы 20-х—30-х годов по мифологии испытали на себе влияние некоторых наиболее распространенных западных мифологических теорий (в первую очередь – тотемической Э. Дюргейма и «номиналистической» Г. Спенсера).
Однако для всех работ этого времени характерно в первую очередь нечеткое понимание самого предмета исследования. В нем объединялись и мифологические темы, и фольклорные, и литературные. Часто в мифологию включались житийная литература, религиозные легенды, фантастические повести и т. д. Кроме того, многие историки 20—30-х годов (поскольку открытие мифологии Китая подорвало традиционные представления о древнейших периодах истории Китая) принялись усиленно «очищать» от мифологии историю. Они видели в мифах ошибки древних историков, принявших названия животных, птиц, растений и т. д. за имена людей, или намеренную фальсификацию истории в идеологических и политических целях. Исследователи продолжали видеть в мифах своего рода исторические документы, правда, теперь уже отождествляя предков-родоначальников и культурных героев не с императорами и их советниками-вельможами, как это делалось в старой исторической традиции, а с вождями племен. Некоторые, напротив, пытались свести все мифологические воззрения к явлениям тотемизма и некоторым видам магии.
Тем не менее, несмотря на все недостатки изучения мифологии в 20— 30-х годах, именно в этот период были осуществлены основные исследования. В них китайские ученые учли результаты европейских исследований древней истории, работы по мифологии, результаты археологических раскопок китайских и западных археологов. Именно тогда совместными усилиями китайских и западных ученых был установлен основной круг героев, тем и сюжетов мифологии.
В конце 30-х годов в связи с китайско-японской войной изучение мифологии прерывается и возобновляется лишь после образования КНР, но в гораздо более скромных масштабах. Наиболее крупные исследования – Юань Кэ «Мифы древнего Китая» и Сюй Сюйшэна «Легендарный период древнекитайской истории». В книге Юань Кэ как бы подводятся итоги исследований китайских ученых 20—30-х годов. В популярном изложении сюжетов автором учтены почти все реконструкции, сделанные в те годы, использованы все источники, введенные в круг исследования мифологии.
В последнее время в Китае оживился интерес к мифологии. Тем не менее серьезный комплексный подход – это вопрос, хотя и недалекого, но все-таки будущего.
IV
Прежде чем перейти к анализу мифологии, следует вначале опрелелить, что такое, собственно, мифология? Чем отличается миф от легенды или поверья, предания, притчи наконец? Различные исследователи дают на это разные ответы. Для того, чтобы попытаться дать вразумительный ответ на этот вопрос, вспомним, из чего состоит любая (а тем более архаичная) философско-этическая система. В любой такой действующей (актуализированной) системе всегда присутствует три компонента, три части. Первая – сакральное знание, составляющее ядро любой системы и, как правило, повествующее о происхождении мира и людей, о путях появления социальных установлений и об источнике культурных благ. Сакральное знание является достоянием лишь посвященных, людей, прошедших жесточайший отбор, прежде чем получить доступ к этому знанию. Это вожди, старейшны рода, а также священнослужители (жрецы, шаманы и проч.). Второй компонент – ритуал. Это тот инструмент, при помощи которого происходит проекция сакрального знания, недоступного пониманию основной массы сообщества, на социальное поведение людей. Ритуал является своего рода механизмом, при помощи которого у членов социума закрепляются те или иные поведенческие стереотипы. На этом уровне сакральное знание доступно членам коллектива лишь в той мере, в какой им это необходимо для полноценного участия в ритуале, в то время как жрец (шаман) в силу того, что обряд инициируется им, должен обладать всей полнотой информации. Именно поэтому обряд часто (в целях усиления аффективного воздействия на массы) обрастает дополнительными «выразительными средствами» – сюжетикой, атрибутикой и проч., вместе с тем отчасти утрачивая свою внутреннюю обусловленность. Третий компонент – это результат адаптации ритуала под общий уровень массы. На этом этапе происходит объяснение ритуала, низведение его до бытовых представлений непосвященных, его вульгаризация. Выкристаллизовывается своего рода «лубочный» вариант философско-этической системы. На этом этапе, как правило, происходит механическое смешение понятий действующей системы с предыдущими представлениями, существующими в виде пережитков. Условно этот процесс можно было бы назвать «фольклоризацией». Типичным примером подобной «фольклоризации» может являться процесс вырождения мифа в волшебную сказку (подробный анализ в работах В. Я. Проппа), на который, правда, оказывал влияние и фактор утраты мифом своей актуализированности (в России, в частности, с приходом христианства). Тем не менее было бы неверным предполагать, что вырождение мифа в волшебную сказку было спровоцировано только утратой актуализированности мифа, и сказка механически заняла место мифа. Сказка (естественно, в своей наиболее архаичной форме) существовала, вероятно, и во времена мифов, являясь: а) вульгаризацией самого мифа, б) выполняя важную социальную функцию: исподволь морально и психологически подготавливая людей к возрастным и социальным инициациям.
Все три компонента присутствуют в любой системе постоянно, претерпевая изменения по мере развития общества и религиозно-этических представлений. В связи с этим необходимо помнить, что любая религиозно-этическая система (помимо того, что она развивается во времени) перманентно состоит из трех вышеозначенных пластов.
Если исходить из того, что миф – это универсальное знание о мире (нерасчлененное и неспециализированное), то мифом в полном смысле этого слова можно назвать лишь то, что относится к первому слою, т. е. к сакральному знанию народа. Так, мифы о тотемах-первопредках, утрачивая свою сакральность, превращаются в историю (о механизме этого процесса см. ниже). При этом легенда – это «недостоверная история», предание – «более или менее достоверная история» (как правило, от собственно истории отличающееся тем, что описываемые события не датированы или есть серьезные затруднения в их датировке). Если говорить, например, о греко-римской мифологии, то она (в том виде, в котором она оказалась записана авторами во времена поздней античности), практически полностью является продуктом «вульгаризации» и последующей литературной обработки. В свою очередь, ритуальная составляющая, утрачивая связь с сакральным ядром, постепенно превратилась в драматургию (наиболее ярко как раз именно в греко-римской традиции, можно упомянуть и «драмы» народов Месоамерики – напр., «Рабиналь-ачи»). Примечательно, что (если говорить о греко-римской традиции) следы подобного преобразования еще долгое время потом сохраняются (вплоть до эпохи классицизма) в разделении литературы на «высокие» и «низкие» жанры (в «высокие» входили те жанры, которые генетически восходили непосредственно к ритуалу – трагедии (исток – древние мистерии), оды (исток – гимны) и проч; к «низким» жанрам относились те, которые восходили к третьему пласту, т. е. «фольклоризованному» (комедии, поэзия любовного, бытового содержания и проч.). Что же касается сакрального ядра греко-римской мировоззренческой системы, то до нас дошли лишь его обрывки в виде поздних античных записей, объединенных одним персонажем – Гермесом Трисмегистом (это т. н. «Изумрудная скрижаль», «Трутина Гермеса», отрывки). Если продолжать говорить о греко-римской миовоззренческой системе, то следует отметить, что еще в доантичные времена миф утрачивает свое единство и расщепляется на философию и историю (Ницше, например, обвинял в изобретении «спекулятивного» подхода Сократа и философов его школы, что, как представляется, вряд ли справедливо; вероятнее всего, Сократ лишь зафиксировал, оформив в виде философского метода уже и так существующие взаимоотношения). При этом и философия и история становятся продуктом логически-спекулятивного ума, утрачивая связь с небом. По выражению того же Ницше, Бог умер, знание стало представлять собой не чувствование мира в его божественной непрерывности, а некую последовательность логических спекуляций (которую еще во времена античности довели до абсурда софисты и скептики – представители философских школ, практиковавшие умственные спекуляции в качестве источника эстетического удовольствия).
Интересно в качестве примера под этим углом взглянуть на цивилизацию Древнего Египта, которая на первый взгляд опровергает то, что говорилось выше. Ведь в Египте наряду с мощной мифологической системой существовала и история. Это так. Но говоря об истории Египта, не стоит забывать о том, что это была история не в нашем, рационалистическом понимании этого слова, а совершенно иная. История мыслилась не как ряд общественно-значимых событий, произошедших в какой-либо промежуток времени, но как исполнение ритуала. Человеческий мир являлся неотъемлемой частью божественного мироздания и должен был, соответственно, находиться с ним в гармонии. История мыслилась как непрерывный процесс проявления Бога в земном мире, а функция жречества и фараона (как сына бога-солнца Ра) состояла в обеспечении стабильности этого процесса. Одна из основных задач в связи с этим была – синхронизация бытия человека и общества с естественными циклами природы (восход-заход солнца, смена времен года, разлив Нила и проч.). Одним из фундаментальных заблуждений современных исследований, как представляется, является то, что в них Древнеегипетская цивилизация (равно как и другие) анализируются с точки зрения современного спекулятивного знания, что отчасти имеет объективную основу: современная методолгия науки является ни чем иным, как порождением этого самого спекулятивного знания, в пределах которого бог – это всего лишь одна из подобных спекуляций. Помещая Египетскую цивилизацию в совершенно иную, чуждую ей систему координат, такой анализ лишает ее тем самым внутреннего смысла, превращая «граждан вселенной», каковыми по своей сути и являлись египтяне, в отсталые существа, которые чего-то «недопонимали», находились на «более ранней», «примитивной» стадии развития, чем современный человек, приверженец логически-спекулятивного взгляда на мир, – которые непонятно для чего воздвигали грандиозные гробницы, мумифицировали мертвых и т. д. Взгляд «изнутри своей системы» приводит таких исследователей к очевидным нестыковкам. Так, выводя все научные и иные знания египтян из потребностей хозяйственной деятельности (что вполне согласуется с рационалистическим подходом к делу), они встают перед неразрешимыми проблемами: например, из какой хозяйственной деятельности можно вывести строительство пирамид (огромное количество знаний и навыков, нужных для их возведения, было невозможно применить ни в какой другой хозяйственной деятельности), как объяснить совершенно избыточные, с точки зрения нужд хозяйства, астрономические знания египтян и т. д. Все встает на свои места, если мы поймем, что хозяйственная деятельность была не главной побудительной причиной (хотя и очень важной) в поисках египтянами знания. Иными словами, они вглядывались в небо не для того, чтобы узнать время сева (или жатвы), но для того, чтобы познать божественное творение для более успешного воплощения его на земле. Отсюда и астрология, многочисленные системы гаданий, практиковавшиеся в Египте, как поиск земных воплощений божественного мироустройства. Возводя пирамиду, египтяне вовсе не строили усыпальницу для своего скончавшегося правителя, не готовили для него «лестницу на небеса», но создавали вселенную. Причем, в их понимании, не «модель» вселенной, а именно саму вселенную, т. к. само строительство пирамид было действием сакральным, магическим. Принося в своих храмах жертвы, они не совершали убийства «во славу господа» (это изобретение гораздо более поздних эпох), а осуществляли взаимодействие между мирами. Видимо, в этом заключается и основной сакральный смысл образа Осириса – умирающего и вечно возрожадющегося бога. Он состоит в персонифицированном представлении единства всех миров и божественного проявления в каждом из них. Египтяне, в отличие от современного человека, который живет только в одном мире и точно знает, что такое «реальное» и «ирреальное», жили сразу во многих мирах. Причем не в метафорическом смысле, а в самом прямом: мир «подземный», «наземный» и «небесный» воспринимались как части реальности, и их посещение неоднократно непосредственно переживалось в течение жизни (во сне, во время транса, мистерий, наркотического воздействия и проч.). Смерть воспринималась всего лишь как перемещение из одной части реальности в другую, как очередная инициация (которых любой член сообщества в течение жизни проходил несколько). В этом отношении становится понятно утверждение «Книги мертвых», что умерший после смерти становится Осирисом, т. е. свободно путешествует по иным мирам («он тот, кто сбросил земную оболочку»). Забегая вперед, скажем, что именно такое мироощущение (множественность миров и возможность путешествия по ним) является сакральным ядром шаманизма, и именно этим он отличается от предыдущей мировоззренческой системы – тотемизма (в которой, особенно на поздних этапах, тоже мог существовать «шаман», но исполнявший совершенно иные функции). Само название «шаманизм», на наш взгляд, крайне неудачно, т. к. обозначает не системообразующее понятие, но называет свойство, которое в равной степени может быть присуще разным системам. При этом, подобно химическому элементу, находящемуся в соединении с другими, элемент этот может принимать совершенно различные свойства. То же самое можно сказать о таких терминах, как «фетишизм» и «анимизм». Ни тот, ни другой не отражают сущность мировоззренческой системы, но лишь называют определенное ее свойство. Подобная «терминология» объясняется в первую очередь тем, что архаичные мировоззренческие системы с чрезвычайным трудом поддаются реконструкции. Не умея реконструировать их и восстановить в полном объеме генезис человеческой культуры, исследователи, выделив из сплава или химического соединения какой-либо элемент, приписывали ему свойства исходного материала, в то время как реально исходным материалом является другой сплав или химическое соединение (в природе, как известно, элементы в чистом виде не существуют). Установившаяся в подобного рода ранних исследованиях научная номенклатура начала кочевать из работы в работу, сделавшись традиционной. Однако, вопрос о «фетишизме» и «анимизме» – предмет отдельного исследования, чего нам не позволяют рамки настоящего предисловия. Тем не менее, возвращаясь к термину «шаманизм», можно отметить, что более удачным термином может являться «сталкинг» (термин К. Кастанеды) или любой другой, отражающий суть этой мировоззренческой системы. Тем не менее в дальнейшем, во избежании путаницы, мы будем использовать термин «шаманизм», но с вышеперечисленными оговорками.