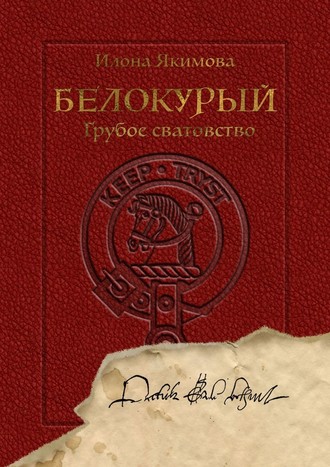
Илона Якимова
Белокурый. Грубое сватовство
Так было, пока он не ощутил на себе взор женщины, сидящей за нижним столом.
Враг выглядел странно.
Или, возможно, Дженет ожидала чего-то другого от встречи с ним, но прошло много лет, и последний раз они виделись так, что она вдвойне предпочла бы забыть – ведь именно этот человек когда-то протянул ей руку, поднимая из грязи возле костра леди Глэмис. Память о нем была приправлена запахом горелого человеческого мяса и пронзительным криком умирающей в огне женщины. Враг был одет в черное, и тем острей выступала на угольном фоне костюма – чем-то неуловимо протестантского – его сияющая красота Люцифера, светлые волосы. Крупный мужчина, производящий угрожающее впечатление даже возле зятя Клидсдейла, хотя и проигрывающий Джону Гамильтону в комплекции и весе. Зато в его теле, кроме силы, была легкость и быстрота – хищного зверя, матерого волка. Волка. Она подумала об отце. Этот вот… он был ведь совсем мальчишка, когда Пегий Пес пал от его руки на камнях Эдинбурга. Как ему удалось? Кто устоял бы против Джорди Дугласа? Если только не впрямь верны те слухи, что тянутся за ним следом – слухи о славе Сулиса, принятой Босуэллом в наследство вместе с Хермитейджем… не иначе, как сам дьявол вел тогда руку его, шестнадцатилетнего. А после, что было с ним после? Какая чудовищная фортуна, недостижимая прочим! Сколько обвинений в измене, заключений в тюрьму, наветов и лжи – отовсюду он выходил незапятнанным, что под силу либо ангелу, либо, в самом деле, бесу. Она не могла решить, кто он. Наставления Джона Лайона пульсировали в виске, и ей было тошно думать о том, что следует сделать. Понимая, что еще минута – и она выдаст себя необдуманным движением, Дженет Джорди Дуглас отвела взгляд.
Патрик Хепберн очнулся от морока в тот момент, когда секретарь хозяина дома возник перед ним с видом одновременно молящим и жалким, держа в руках несколько листов плотной бумаги. Не нужно было объяснять, что это, и потому он спросил хозяина дома по-иному:
– Чего ради?
– Чтобы знать, что вы полностью наш. Нужно же мне предоставить брату хоть одно доказательство того, что этот приятный во всех отношениях ужин закончился не впустую.
– Деньги вперед, дорогой сэр Джордж – чтобы и для меня этот ужин закончился не только перееданием.
– И вы подпишете?
– И я подпишу. А чего вы ожидали от меня, Питтендрейк? Колебаний, стыда, раскаяния? Это от меня-то? – уточнил он с усмешкой. – От человека моей репутации? А регенту можете сказать прямо – я с теми, кто вернет мне Долину, будет ли это Джеймс Гамильтон, или Генрих Тюдор, или сам дьявол. И пусть регент поторопится с рассмотрением дела, не то я напрямую обращусь к английскому королю – Хартфорд настойчиво зазывал меня в Лондон еще зимой…
Секретарь Джорджа Дугласа, стесняясь, протянул кошель, Босуэлл жестом велел Молоту принять его. И внизу листа появилась Н, перечеркнутая Е – столь же изящная, сколько решительная по характеру монограмма.
Сим клянусь в верной службе Его величеству Генриху Тюдору, подлинному королю Шотландии, и удостоверяю свою помощь во исполнение его намерений…
Джордж Дуглас Питтендрейк смотрел на подпись внизу листа – после подписи Ангуса, его собственной, Гленкэрна, Кассилиса, Максвелла-младшего – с огромным неудовольствием. Босуэлл подписал, и подписал легко, он объявил о своей лояльности – по этому вопросу его не прижать. Значит, оставался последний способ, с тем, чтобы эти статьи обнародовать уже посмертно – и секретарь, получив приказ шепотом, протек сквозь плиты пола, но вскоре вернулся, выглядя еще более жалким, чем прежде:
– Ее нет, – сказал он, не пытаясь даже понизить голос. – Никто не знает, где она, сэр, покорно прошу прощения…
Горящим взглядом Джордж Дуглас окинул холл – место слева за нижним столом пустовало. Музыканты, чуть вразнобой от волнения, начинали павану.
– Ты много пьешь, – шепнул ему Клидсдейл, наклонясь, чтобы передать шурину кусок жаркого на острие ножа. – Поберегись.
Много, это верно, только в этом и выражалось бушующее в крови волнение, жестокий азарт игрока. Он чисто сыграл свою роль, но в голове будет шуметь до утра. Радушный хозяин отвел комнаты для ночлега не в гостевом, в парадном крыле, которое уже успел привести в подобие порядка со времени возвращения из изгнания, комнаты, чуть не дверь в дверь со спальней самого Питтендрейка, но это не давало безопасности, а лишь ощущение, что тебя прирежут под одобрительным взором хозяина. Потому он предоставил там почетно разместиться зятю, а сам, в сопровождении изрядного количества слуг Гамильтона, двинулся чуть дальше, вглубь по коридору, уходящему во внутренности старого замка. Только что отзвонили к полуночной мессе где-то в полях, в приходской церкви, и заунывный звон, нимало не мелодичный, волнами достигал Далкита, просачиваясь в щели оконных ставен, тяжелый, как ветер с болот, скучный, как слякотная весна. Когда впереди в коридоре показалась какая-то тень, Босуэлл опустил ладонь на рукоять даги прежде, чем успел понять, кто это, а после замедлил шаг.
Женщина плыла к нему, подобно призраку – если бы он верил в призраков, или видал хотя бы один из них – почти беззвучно, полы плаща ее развевались, и тогда в разрез ткани мелькали очертания ног, охваченных складкой ночного платья, и прядь волос выскользнула из-под капюшона, волос, не убранных под чепец, он не разглядел цвета – что-то среднее между темным каштаном и тусклой краснотой старой меди. Лицо нежное, бледное и строгое, никак не сочетающееся с небрежной вольностью наряда – из чьей постели выпорхнула эта пташка, чтоб разгуливать поздней ночью по замку Далкит? Гляди-ка, это ведь дама, за ужином сидевшая слева, за нижним столом, та самая, чьи плечи и грудь были ему предложены в созерцание наряду с жареной олениной, запеченными павлинами и марципановым пирогом – сэр Джордж привычно пытался купить его на сладкое, известно ведь, что Босуэлл любой снеди предпочитает плоть. И Патрик Хепберн шагнул ей навстречу, преградив путь, и незнакомка, занятая своими мыслями, вздрогнула, едва не разбившись, подобно волне, о его хладнокровное, хотя и нетрезвое любопытство.
И неприятное чувство мелькнуло на границе памяти, едва подняла она взор – он откуда-то помнил эти глаза, пронзительными, устремленными прямо на него, взор этот, полный тумана смерти.
Несколько мгновений они смотрели друг на друга в молчании. Женщина, как запах, источала неизвестность, новизну, тайну, соблазн. Неторопливо протянул он руку и отвел, словно завесу, прядь темных волос, открывая ее лицо.
Единственной ее удачей было бы – чтобы он ее не заметил, но Питтендрейк принял меры. В этом платье, пахнущем чужой жизнью, чужим запахом, вынутом из гардероба леди Питтендрейк, когда та еще была вдвое уже себя теперешней в талии, Джен выглядела почти непристойно – и боялась шевельнуться лишний раз, чтобы грудь вовсе не вывалилась из корсажа напоказ всему холлу, полному гостей. В протяжение ужина Дженет несколько раз ловила на себе внимательный взгляд Патрика Хепберна, и потому по завершении трапезы постаралась уйти незаметно, едва лишь в зал вступили музыканты для танцев… она пробыла в спальне почти до полуночи, укачивая младенца, разделяя постель с косенькой кузиной Эффи, но не могла уснуть, и выскользнула прочь, набросив плащ поверх ночного одеяния, пошла по направлению к часовне… видит Бог, сегодня ей есть, о чем поговорить с Господом.
Дженет не знала, как поступить.
Не знала, что и думать.
Наконец, не знала, куда бежать – когда Глэмис и Питтендрейк поймут, что она уклонилась от возложенной на нее задачи. Сначала они не поверят, что покорная раба сумела ослушаться, но потом… потом она скажет, что он сам не захотел ее, что ей просто не удалось проникнуть к телу.
Занятая своими мыслями, она почти разминулась с высоким мужчиной, не взглянув ему в лицо, и потому Джен вздрогнула, когда внезапно на локоть ей легла тяжелая рука. Босуэлл молча смотрел на нее сверху вниз, с интересом, закрывая собой дорогу, удерживая жестко, но не предпринимая попыток привлечь к себе. Значит, он все-таки заметил ее, помилуй Бог… легкий хмель отражался в синих глазах, но Хепберн не был пьян, это делало его только более опасным. Она хорошо знала такой взгляд у мужчин. Замок кишмя кишит кинсменами Гамильтона Клидсдейла, старший сын Джорджа Дугласа оставлен в Хейлсе заложником, Арран поручился словом за честь Питтендрейка, и если к полудню граф не прибудет в Ролландстон, дядя Уильям сам явится за ним к воротам Далкита. Дугласы никак не могли расправиться с ним открыто, но если с ним что-нибудь случится – по чистой случайности, разумеется, исходящей от известных привычек Босуэлла – они отдадут на заклание ее, Дженет Джорди… и в двух милях отсюда, на пустынном в ночи кладбище, ожидал своей жертвы мертвый Пегий Пес.
– Леди… желаете провести со мной ночь?
От дыхания его ощутимо несло виски, и это было правдой – то, что о нем говорят – его легендарная красота вблизи производила острое впечатление, почти пугающее.
Босуэлл ждал ответа.
Она решилась.
– Спасибо, нет, ваша милость, – Дженет рассматривала строгий, темный бархат дублета, в который разве что не угодила лицом, когда граф преградил ей путь в тесном коридоре.
– Отчего же «спасибо, нет»? Как вас зовут, леди?
Рука его неожиданно мягко и ласково отвела прядь волос с ее лица.
– Дженет…
– А дальше, леди Джен?
– Дуглас, милорд, – она наконец подняла на него глаза. – Но я слыхала, вам не по вкусу фамилия Дуглас.
– Мне безразлична фамилия, к которой принадлежит дама, леди Джен, – отвечал граф серьезно, – если она красива, как вы. И если я сам этой даме не безразличен. Я не воюю с женщинами.
– Зато женщины, возможно, воюют с вами…
Он рассмеялся – так весело и заразительно, что она не смогла не улыбнуться в ответ.
Он не поверил. У него была на редкость обаятельная улыбка для человека, которого она намеревалась убить.
– Я запомню вас, Джен… – пообещал Белокурый, еще улыбаясь, и ласково провел пальцем по щеке женщины. – Смелые девчонки мне по душе… когда передумаете, дайте знать.
Уступил дорогу, бросил напоследок долгий насмешливый взгляд… ушел.
Ушел!
Глядя ему вслед, она ощущала, как падает с плеч огромная тяжесть мира, тяжесть грядущей смерти, которую рано или поздно они разделят, когда-нибудь – не сегодня. Не раньше, чем ее сын сможет постоять за себя – она отомстит за отца.
Шотландия, Эдинбург, апрель 1543
Триста фунтов Питтендрейка – цену подписи под статьями – Патрик бросил в руки Джибберту Ноблсу, мимолетно посетив Хейлс перед возвращением в Линлитгоу, с наказом купить овса людям и лошадям или украсть у южан. Да, так даже лучше – украсть за Чевиотами. Он с сардонической ухмылкой рассказал Хаулетту всю историю с подписанием статей, на что Хаулетт отвечал совершенно искренне, что за триста фунтов можно продать не только девчонку-королеву, но и сами мощи Святого Андрея, если найдется покупатель. Он добился своей цели – в том, что касалось их с Джорджем замысла. Регент Арран – сам! – в крайнем беспокойстве описывал Хантли союз между Босуэллом и Дугласами, на что Джордж разумно сослался на давние слухи о Белокуром – что он «убежден» Тюдором на сотрудничество – и предположил, что союз этот кончится тем, что, сговорившись, Ангус и Босуэлл передадут пленного канцлера Дэвида Битона англичанам. Ведь Генрих страстно жаждет заполучить кардинала, уверенный, что только он один виновен в неприятии английского брака лордами Шотландии… и что тогда скажут у Престола Святого Петра, если, не дай Господь, англичане нанесут Битону вред не только моральный, но и телесный?
– Нет, – отвечал Джеймс Гамильтон, имея в виду «убежденных», – не успеют. Хантли, друг мой, нам нужен надежный человек, кто мог бы позаботиться о кардинале лучше Питтендрейка… в конце концов, кардинал – мой двоюродный брат, я отвечаю за его безопасность!
Джордж Гордон улыбался регенту с самым приятным выражением лица, искренне восхищенный способностью Джеймса Гамильтона менять решения по сто раз на дню – с редкой естественностью.
– Милорд, – отвечал он, – отчего бы не поручить это дело лорду Ситону? У него и пилтауэр удобный поблизости имеется…
Не прошло и двух дней, как кардинал Битон был перемещен под надзор лорда Ситона – несмотря на весь скрежет зубовный Питтендрейка, видящего, что добыча сама собой уплывает из рук. К исходу недели Джордж Ситон изволил не заметить, что караула возле пленника нет как нет. Спустя десять дней Дэвид Битон, примас Шотландии, как-то сам собою обнаружился в собственном – и неприступном по-прежнему – замке Сент-Эндрюс. Королева-мать впервые за четыре месяца могла если не полностью утешиться, то хотя бы перевести дух, регент снова получил противовес в правительстве, но вот только возвращать Босуэллу Долину освобожденный кардинал не поторопился – несмотря на все разъяснения Джорджа Гордона о роли последнего в счастливом разрешении дела. Аргайл, узнав о том, ржал долго и глумливо, Хантли досадовал совершенно искренне, но в третий раз денег в долг не пообещал, тем не менее. Но была у Белокурого иная цель, в достижении которой он, по-видимому, преуспевал лучше – именно такой, как есть, почти нищий, обойденный вниманием и регента, и кардинала, но зато полностью предавшийся в руки своей госпоже.

Замок Линлитгоу, Линлитгоу, Шотландия
Шотландия, Линлитгоу, апрель 1543
За эти дни Мария де Гиз узнала Босуэлла так близко, что дивилась, как ей случалось раньше не замечать очевидного, как мало она прежде понимала его натуру. То время, когда они – Хантли, Аргайл, Сомервилл, Ситон, Грэй, и Босуэлл тоже – были только сворой молодых гончих псов под рукой ее мужа-короля, миновало, теперь она сама оказалась хозяйкою этих лордов, баронов гордых и дерзких. Теперь ей приходилось не только видеть их и говорить с ними, но решать их свары, смирять их норов, лукавить с ними там, где трудно или невозможно было переломить силой. Правду сказать, не так уж много сил было у нее, женщины, против мужчин, воинов… И, самое главное, ей нужно было входить в дела королевства, и говорить с ними об этом, и использовать их в своих целях, и лишь немногим могла она доверять, как доверяла Хантли, как хотела бы доверять Босуэллу, который теперь, в делах и разговорах, предстал ей совсем другим, чем она помнила прежде – умен, недурно образован, посмотрел мир, и знает людей лучше, чем в прежние беззаботные времена. Последнее, правда, почему-то привело его и к большему равнодушию в вопросах веры, чем она желала бы для доверенного лица. Но, как Хантли и говорил, Патрик Хепберн вовсе оставил прежнюю привычку к распутству. Мария начинала думать, что, возможно, он и ранее не был столь грешен, как про него рассказывали. А еще в нем появилось новое, чего она прежде не знала или не замечала – он умел разговаривать с нею. Умел слушать, понимать, вовремя вставить словцо, явно отражающее степень его увлеченности – не придворной, заученной увлеченности, а того теплого интереса, что сближает людей, родственных по уму, одинаково мыслящих, союзников. Приходилось признаться себе, что его визитов в Линлитгоу – в неурочное время, в дорожном платье, с небрежностью воина в повадке, а не бывалого придворного – она начинала ждать, как утешения своим печалям, не говоря уже, к сожалению, об усладе взору. Глаза, как звезды в сумраке апрельской ночи, ямочка на подбородке, кудри мягче руна ягненка и сердце льва – было в нем нечто, на что раненая душа ее, вся женская суть отзывались мгновенно, горько и беспощадно. Резкость и сила в мощном теле, стать, которую не испортишь никаким модным платьем. Когда же он улыбался, королева вспоминала о том, что еще жива, что – несмотря на пятеро родов и два вдовства – молода, что ей всего двадцать семь лет. Он воплощал собой все, о чем бы ей следовало забыть: страсть, плоть, вольность, жаркую кровь…
Вот и теперь он стоял перед ней – безо всякого смирения во взгляде, напротив, утаивая усмешку в синих глазах, всегда усмешку, будто и жизнь, и смерть были равно ему в забаву – неважно, своя смерть или же кровного врага.
– Вы, граф, посетили Далкит. Что там?
Судя по тону, которым задан вопрос, она волнуется – и волнуется сильно.
– С вашего позволения, я желал бы говорить об этом не перед вами и всем двором, моя прекрасная госпожа, но перед вами – и вашими доверенными лицами… и без женщин.
Удивилась, но отдала распоряжение. Мари Пьерс Ситон птичкой порхнула прочь, Элизабет Стюарт проследовала вон, вздернув подбородок, леди Флеминг метнула в говорившего взгляд василиска, но по жесту королевы также вышла из комнаты. Это хороший знак – то, что Мария прислушивается к его словам, повинуясь их здравому смыслу. Два Гордона – Сазерленд и Хантли – стояли по бокам кресла королевы в приемной зале, словно архангелы небесного воинства при престоле Богородицы. И один – то ли павший, то ли оклеветанный – поднялся с колен перед нею. Мария де Гиз приняла присягу Босуэлла, однако не могла не сомневаться в нем хотя бы десятой частью души. Как влюбленная женщина жаждет клятв возлюбленного – ежечасно, так каждодневно королеве хотелось слышать клятвы верности политической или видеть дела, говорящие о том же. Тогда она думала, что разговор между ними может идти только о власти.
И он говорил, как она желала – и сам, и делами также.
– Вы удалили леди Флеминг потому, что..?
– Да, мадам, ее муж стоит за англичан слишком явно. Молодчина Малкольм, что привез к вам Садлера, когда это требовалось, но, в целом, вреда от него больше, чем пользы. Что Далкит? Там все то же, прекрасная госпожа моя. Утешить вас полным разладом меж регентом и Дугласами не могу, однако они усиленно покупают себе новых сторонников – в их числе и вашего покорного слугу также…
Босуэлл по-прежнему улыбался, и как понять эту улыбку – она не знала.
А граф продолжил:
– Джордж Дуглас собирает подписи под статьями, написанными Генрихом Тюдором для лордов Шотландии – говорится там о том, что не следует признавать ни одну власть, кроме власти английского короля. Это, несомненно, подорвет могущество регента, если Питтендрейк найдет достаточно недовольных Арраном – и тем самым пойдет на пользу вам. Собрав силы, они выступят – и падут, потому что будут покинуты своими сторонниками в решительный момент…
– Какая прелестная картина будущего, граф, – с иронией отозвалась Мария. – Но почему вы так в этом уверены? Откуда такая убежденность?
Он пожал плечами, несколько озадаченный вопросом:
– Ну, я просто знаю… потому что именно так сделаю я сам.
Это прозвучало громом среди ясного неба, и даже Хантли, посвященный в подоплеку дела, крякнул от неожиданности.
– Вы? – как бы ослышавшись, спросила Мария. – Вы, Босуэлл? Вы… подписали статьи?!
А он все смотрел ей в лицо, не смущаясь, стоя напротив кресла королевы, заложив руки за спину, спокойный, уверенный в своей правоте:
– Разумеется. Более того, я взял за это деньги от Питтендрейка – и уже спустил их на фураж, джеддарты и порох для моих ребят, тех самых, что пойдут за вас в огонь и в воду, моя госпожа. Тяжеловато ведь кормить их – теперь, в мирном Мидлотиане – пока мне не вернули фамильные земли и законное право обирать сассенахов…
– И вы, Босуэлл, пришли ко мне – клятвопреступником? Ибо мне первой обещали вы свою верность… и уже становитесь клятвопреступником дважды?!
Еще немного, и она посочувствует Дугласам! В этом вся трудность, когда имеешь дело с порядочной леди, желающей, тем не менее, править.
Хантли хотел вмешаться в разговор, но де Гиз жестом велела ему молчать:
– Отвечайте!
– Клятвопреступником? О, мадам, но это меньшая жертва, на которую я готов ради вас. Жизнь или честь – возьмите, что вам угодно, всё будет мало за один приветливый взгляд, моя королева.
Те слова, что от любого другого смердели бы пошлостью преувеличения, становились искренни и правдивы, когда их небрежно произносил Патрик Хепберн – со своим открытым взглядом, красивым лицом, чуть ироничным голосом, манерами благородного человека… со всей дерзостью обманщика, который знает цену настоящей правде. Она верила ему. И при этом он лгал ей. Но теперь она верила этой лжи – тому, что он лжет ради нее.
– Какая разница, как будет замарана моя честь, Ваше величество, если это пойдет на пользу вам? – молвил уже прямо, не улыбаясь. – Что там опытные люди говорят про цель и средства? Желаете покинуть сей скорбный вдовий приют и переехать в Стерлинг? Я доставлю вам такую возможность, ручаюсь!
– Он или безмерно дерзок, или нагло лжет, – пробормотал Сазерленд, ошеломленный этой выходкой, вслед покинувшему приемную Белокурому.
– И то, и другое, – отвечал Хантли, не скупясь на похвалу родственнику, – но, согласись, Джон, он ведь сумел добиться успеха в той интриге с Арраном и Питтендрейком? Отчего ж нам не верить ему теперь? А чем рискует – Господь ему судья.
Королева весьма внимательно слушала обмен репликами, происходящий у нее за спиной, рука ее сжимала янтарный горох четок, а рассеянный взор был направлен на распятие над камином, где на бронзовом теле Агнца играли блики свечного света.
– Снаружи белый, внутри черный. И руки твои в крови, и язык твой лжив.
Об эту фразу Хепберн споткнулся, выходя из кабинета королевы – голос в самом деле шел как будто от самой земли, как казалось с высоты его немалого роста. О, это та, о ком он и забыл, хотя не следует забывать о любимой игрушке королевы, вывезенной еще из отцовского дома, из Шетадина, из Франции.
Босуэлл, улыбаясь, смотрел на карлицу:
– Подарить тебе ленту, Пьеретта, чтоб ты меня полюбила?
– Ленты твои от демона, ласки твои от дьявола. Не надо мне твоей любви! – метнув на него сердитый взгляд, крохотная дурочка королевы, переваливаясь на кривых ножках, заковыляла к тяжелой двери кабинета, проскользнула внутрь… Это ближние дамы, так кстати высланные им из покоев госпожи – ведь сложно обольщать сразу большое число жертв – возвращались обратно. Рыжая Элизабет не устояла бросить на Белокурого беглый взгляд, но Дженет Флеминг проследовала мимо, словно кузен был подлинно пустое место… женщины! Он любил их и так, не только поклоняющихся его красоте и мужской силе, но вдвойне вот этих – желчных, сквернословящих, сопротивляющихся, вдвойне – дающих соль и перец его придворному существованию. Женщины! На этом поле ему предстоит играть и выиграть, несомненно. Да и кто, кроме него, наилучше пригоден на эту роль? Покамест в ближнем кругу королевы за него одна только леди Ситон, хотя… куда уж там – леди. Родовитость второй жены лорда Ситона была делом весьма сомнительным. Королева одарила любимую фрейлину землями в Шотландии, но о ее французских владениях предпочитали не спрашивать. Грозная вдова Ситон, монахиня монастыря Святой Клары в Эдинбурге, не дала благословения на этот брак, однако то был единственный случай, когда лорд Джордж пренебрег мнением деспотичной матушки и предпочел союз по любви, вдобавок устроенный руками самой королевы. Благодаря мужу войдя в круг высшей знати, леди Ситон особенно ценила тех, кто мог отнестись к ней без предубеждения – и Патрика Хепберна, двоюродного брата мужа, в первую очередь. За его манеру держаться просто с простыми и надменно со знатными, а также за парижский диалект французского языка она могла простить ему почти что угодно… Хепберн называл ее «маленькая кузина», всегда находил для нее учтивое словцо, а главное, с такой, как ей казалось, рыцарской любовью глядел на госпожу, Марию де Гиз, так был склонен к делу королевы…
– Патрик! Ваша милость!
Он остановился на полном ходу, тепло улыбнулся в ответ на этот сияющий взгляд:
– А, моя маленькая сестрица! – быстро поцеловал протянутые руки. – Мари, вы бессовестно хорошели все то время, что меня не было здесь, право слово!
Она засмеялась:
– У вас слишком любезный язык, чтобы быть правдивым, но, Боже, какое счастье, что вы вернулись! Как не хватает моей дорогой госпоже сейчас того, кто был бы предан ей всем сердцем!
– Вот как? – прищурился Босуэлл, все еще не выпуская рук леди Ситон – теплое пожатие надежного, сильного мужчины. – А наши горцы, Аргайл и Хантли? А Эрскины, всем гуртом? А этот черный ворон, приор Пейсли?
– Ну, вы же понимаете, – доверительно понизив голос, произнесла Мари Пьерс. – Это совсем не то!
– Правда? – он улыбался еще шире. – А что насчет графа Леннокса, кузина?
– Патрик! – произнесла Мари, будучи глубоко шокирована. – Вы – и он! И как тут можно сравнить?!
Она фыркала по-французски на его недогадливость до самой двери кабинета королевы, шурша по изразцам пола подолом все еще траурного – по королю – платья, возмущенно встряхивая хорошенькой головкой так, что чепец на ней подпрыгивал, подмигивал кокетливыми жемчужными слезками.
А с главным соперником Босуэлл встретился немногим позже двух дней, там же, в Линлитгоу.

Холл замка Линлитгоу, Линлитгоу, Шотландия
Огромный холл волшебного дворца, растворенный зев циклопического камина, куда человек входит в рост, музыканты, с галереи обливающие толпу сладчайшими звуками – и вереница новых, заморских рыцарей, припавших к ее стопам. О Боже, думала Мари, когда бы он привез мне денег вместо комплиментов! Денег или солдат, желаемых ею столь отчаянно, что саму душу заложила бы за военную помощь. Но Мэтью Стюарт, граф Леннокс, вместо солдат и денег предлагал ей себя – со всеми созревшими за время морского путешествия на родину чувствами, нужными де Гиз, как прошлогодний снег. И Мари чуть склонила голову к говорившему, как любопытная птичка, выглядывающая из гнезда.
– Ах, граф, – мягко сказала она, на левой щеке скромной леди в черном легла ямочка от легкой улыбки, тень юной красоты проступила в чертах ее под вуалью величия и печали. – Вы смягчаете скорбь души одним тем, с какой горячностью принимаете к сердцу беды Шотландии… и мои.
– Дама, достойная восхищения, – молвил Аргайл вполголоса кузену. – Вспоминает о том, что женщина, в самый неподходящий для противника момент…
– Ты ведь не любишь женщин, Рой, – поддел его удивленный словами одобрения Хантли.
– Терпеть не могу нигде, кроме постели, – согласился Кемпбелл. – Но точный удар оценю всегда.
– Скажи мне лучше, когда, по-твоему, сей рыжий пришелец вцепится в горло регенту? Примешь ли мою ставку – через сутки, едва лишь достигнет Эдинбурга и Парламента?
– Три фунта, – зевнув, отвечал горский оборотень. – И ставлю на сегодня же, вон-вон, смотри, он уже косится на Алекса Ливингстона, шпионящего здесь по поручению лорда-правителя, и поцапается с ним, так сказать, взамен его хозяина… поставь-ка лучше на итог свары, когда они увидятся с Босуэллом.
– Десять фунтов на Босуэлла! Хепберн свалит Стюарта одним щелчком.
– Тут ты не прав – история может затянуться, потому что, поверь мне, королева станет подпирать спину Ленноксу своими белыми ручками, коли-ежели тот с первого удара протянет ножки. Не по любви, нет, куда там ей этот сопляк, а из чувства равновесия и ради женского пакостничества.
– Хорошо, пятнадцать фунтов. А ты?
– А я вовсе не стану участвовать деньгами, Джорджи…
Хантли, купленный во всегдашних этих разговорчиках с Аргайлом, как мальчишка, пошел пятнами, надуваясь от возмущения:
– Ах ты, старый плешивый лис!
– Да, – повторил Кемпбелл, нимало не обращая внимания на его досаду, – я не стану участвовать. Я стану получать от представления удовольствие, Джордж – удовольствие, которого не купишь ни за какие деньги.
Манжеты сорочки Леннокса, украшенные брюссельским кружевом, выглядывали из рукава дублета чуть не до кончика большого пальца – мода сколь расточительная, столь и непрактичная. Граф был облачен в бархат лавандового цвета – последняя причуда двора Франциска Валуа и самый модный цвет сезона – который, впрочем, весьма шел и к рыжим волосам его, и к темным глазам. Девически маленький рот ярок, сложен в приятную улыбку, но смотрится куриной гузкой, как сказала Анабелле Гордон, кузине Хантли, добрая леди Ситон, вот бедный молодой человек, правда же? И подбородок его слишком остер и длинен, лишен всяческой гармоничности. Впрочем, для настоящего мужчины, оговорилась она как бы невзначай, бросив взор на сестер Леннокса, это не самый существенный недостаток, прискорбней то, что и руки у него словно у белошвейки. Конечно, он был у Франциска капитаном роты гвардейцев, но всем же известно, что капитанство было почетным подарком от короля, а на поле боя наемниками командовал человек, куда более опытный и отважный – несгибаемый Пьер Строцци, брат морского дьявола Лео… и на этом моменте на добрую Мари Пьерс Ситон зашипела леди Флеминг, призывая к порядку, что, впрочем, не заглушило доносящиеся до слуха королевы смешки жизнерадостной леди Гордон.
Аудиенция графа Леннокса у королевы-матери прошла весьма успешно, и Мэтью Стюарт покидал Большой холл в превосходном расположении духа, когда вблизи внушительных, резного дуба дверей разминулся с тем, кого последний раз ему доводилось видеть именно во Франции – и мгновенно узнал его. Два плаща едва не сплелись, не коснулись один другого. Две своры кинсменов на коротком поводке остановились, кипя, чтоб облаять противника не столь по велению сердца или по инстинкту, а по невысказанному еще намерению хозяев. И Леннокс глядел на человека напротив, чувствуя отвращение, близкое к врожденному, нутряному, и тонкая игла беспокойства колола его изнутри – несмотря на то, что соперник и взглядом его пока что не удостоил.
– Явились ловить рыбку в мутной воде, Босуэлл?
Хепберн круто повернул красивую голову к говорившему – с еле уловимой хищной усмешкой, мелькнувшей в лице:
– В тине, Леннокс, не в мутной воде. А вы-то почему показали рыльце на родину только по смерти короля? Имеете виды?
– Да уж виды, получше ваших…
– Холостой мальчик, – отвечал Хепберн спокойно. – Мне жаль вашей наивности. Порасспросили бы прежде у местных, как тут, в Приграничье, ловят рыбку в тине. Не то – как бы не попасться и вам на крючок, любезнейший!
Кинсмены, нажав плечами, раздвинули для него огромные створы дверей, резьба на коих изображала райские кущи при сотворении мира, и Босуэлл шагнул в них, навстречу королеве-матери, не оглядываясь.
– О чем это он? – с неприятным чувством, как от полученной угрозы, спросил Леннокс случившегося рядом Томаса Эрскина. – Про тину.
И не ошибся.
– Рейдерский жаргон, ваша милость, – отвечал тот хмуро. – Это когда людей в приграничных пилтауэрах коптят заживо.
Шотландия, Эдинбург, апрель 1543
Десять писем на юг, двенадцать на север… капает воск, растопленный на свече, течет по бумаге, пухло выплывает, застывая, из-под печатки. На печатке – английский лев. На печатке – инициалы, знакомые Генриху Тюдору именно по депешам отсюда, из мерзкой, холодной, слякотной Шотландии, населенной лживыми чертями и скользкими стервами. Ведь он же прямым текстом спросил сукина сына регента, как так получилось, что кардинал Битон, взятый от Питтендрейка, был передан Джорджу Ситону – Ситону! – женатому на любимой фрейлине французской вдовы?!







