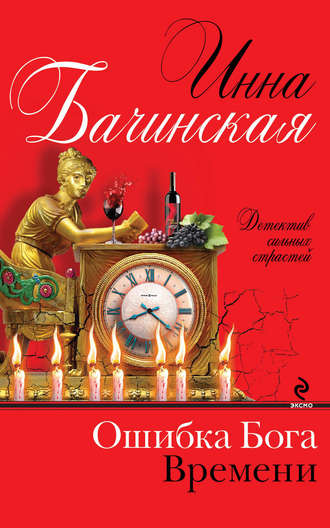
Инна Бачинская
Ошибка Бога Времени
– Нет, спасибо, – сухо поблагодарила Юлия. – Я на машине. Не беспокойтесь, – сказала она и, кивнув им, неторопливо пошла к выходу, стараясь держать спину прямо, зная, что они смотрят ей вслед. Ее пропускали, с любопытством здоровались, пытались заговорить, но она шла как автомат, молча, с трудом сдерживаясь, чтобы не закричать: «Оставьте меня в покое! Все!» Ей хотелось растолкать всех и броситься к выходу, в темную ночь, в пустую улицу. Ей было страшно. Яркий свет и мельтешение лиц пугали ее. Она отвыкла от толпы и такого света, ей казалось сейчас, что она раздета и они все рассматривают ее с жадным и недобрым любопытством. Это было не так, конечно, и она понимала это, но остановиться и заставить себя ответить не могла, испытывая даже не страх, а ужас…
Она добралась до машины, рухнула на сиденье и закрыла глаза. Приступ постепенно проходил. Дрожащей рукой она вставила ключ в замок зажигания. Мотор ожил…
Глава 3
Тени…
Прощальные стихи
На веере хотел я написать —
В руке сломался он.
Мацуо Басё (1644—1694)
– Я самая счастливая девочка на свете, потому что вы все у меня есть!
Юлия, улыбаясь, держала в вытянутой руке бокал с красным вином, искрящимся в свете ослепительной парадной люстры. Сверкал хрусталь праздничного стола, матово светилась скатерть, до звона накрахмаленная Лизой Игнатьевной, прохладно сияло столовое серебро.
– И у меня сегодня день рождения! Хотя, – продолжала она задумчиво, – я давно уже не девочка… – Уголки губ ее опустились, взгляд стал рассеянным. – Время бежит так быстро! – пожаловалась она. – Дни мелькают, просто безумие какое-то… не успеваешь… подумать… подумать… – Она вдруг рассмеялась: – Я, кажется, слегка… – Она сделала неопределенный жест рукой. – Слегка… самую малость… Я вся в тебя, мамочка, – ты, когда выпьешь, начинаешь хохотать, а папа непременно скажет: «Ну, начинается!»
О чем я? Ах, да, о времени! – она вдруг хлопнула ладонью по столу и сказала громко: – Эй, время, стой! Хоть на минуту! Хоть на секунду! Нет, на секунду мало, этого никто не заметит. Лучше на час. Или нет! Лучше вернись назад… Я подумала недавно, что вокруг нас становится все меньше и меньше тех, кто помнит нас маленькими… в распашонке, с первым зубом, в школьном платье, в белом фартучке…
Мамочка, помнишь, как горько я плакала, когда кошка Муся отняла у меня котлету? Я не помню ни Муси, ни котлеты, помню только, как ты рассказывала. А однажды я потеряла школьный портфель! И плакала от страха перед учительницей Людмилой Григорьевной, которую боялась, а вовсе не потому, что мне было жалко тетрадки и букварь.
«Тонкослезка!» – говорила соседка-портниха тетя Катя. У нее еще была такая странная фамилия… сейчас… сейчас… Вспомнила! Шарварок! Екатерина Даниловна Шарварок! А ее мужа звали Василий Иванович, был он военный доктор и носил длинные седые усы, как у Тараса Бульбы.
Я действительно часто плакала… по всякому поводу… и без повода. Кто-то сказал, одна французская писательница, страшно модная когда-то, что дети даже плачут радостно… разумеется, благополучные дети, а не голодные. Я была благополучной девочкой! Ты, мамочка, берегла меня от малейшего дуновения… жизни, не говоря уже о тебе, папуля. Юлечка, деточка, свет в окошке, красавица, умница, самая-самая… Лучшее – детям! Юлечка! И никак иначе!
Одна ты, бабушка, называла меня Юлькой. «Юлька, паршивая девчонка! – кричала ты. – Опять с мокрыми ногами! Опять с непокрытой головой ходишь! Опять урок музыки пропустила! Ох, возьмусь я за тебя, ты у меня дождешься!»
А я тебя, бабочка, нисколько не боялась… Мир вокруг меня был полон ласки, тепла, обожания. Я никого не боялась! Я была как тепличное растение под колпаком с особым микроклиматом. Бабушка, помнишь, ты говорила, что у всякого человека есть ангел-хранитель? У меня их было много. Вы все были моими ангелами-хранителями. А потом у меня появился еще один – я встретила Женьку, и вы передали меня новому ангелу… из-под одного колпака – под другой.
Жень, ты помнишь, как мы воровали малину в чьем-то саду? Ночью, в грозу? Ты снял рубашку, и тело твое, гладкое и сильное, как у дельфина, блестело от дождя в сполохах молний, а крупные ягоды малины казались черными! Мы рвали их и жадно запихивали в рот, давясь и умирая от хохота… под оглушительные раскаты грома прямо у нас над головами. Я видела красные царапины от малиновых колючих стеблей на твоих плечах… Ты был красив, как языческий бог… А потом мы вдруг перестали рвать малину…
Ты смотрел на меня, и даже в темноте я чувствовала твой взгляд, и сердце мое сжималось от сладкого ужаса. От предчувствия того, что должно было произойти… Твои губы были холодны от дождя и пахли малиной… Мы целовались поспешно, жадно, неумело – я, во всяком случае… Так же, как за минуту до этого глотали малину, прижимая ягоды к небу языком, расплющивая их там и давя, и вытирали с лица малиновый сок пополам с дождем… Целовались, как никогда потом… Помнишь, Женька, что было дальше? Помнишь? Ты прижал меня к себе, мокрому, скользкому, исцарапанному малиновыми стеблями, так сильно, что я задохнулась… и заплакала…
«Тонкослезка», – говорила тетя Катя Шарварок. Я плакала, громко всхлипывая и подвывая, сама не знаю, почему, от счастья, наверное… не умея выразить иначе то, что рвалось из меня… А ты целовал мое мокрое лицо, на котором смешались слезы, дождь и сок малины, и приговаривал: «Глупая, не плачь! Я люблю тебя! Я очень тебя люблю! Я никогда тебя не обижу!»
Ты сдержал свое обещание, Жень! Никогда! Прожито, как один день. Жизнь, как день! Ни добавить, ни убрать, только сожалеть можно…
Она задумалась, подперев руками подбородок.
– А помнишь, как ты танцевал в лесу, Жень? Помнишь? Был ноябрь… и холодно уже… Деревья почти облетели. И небо было синим, бездонным и холодным. И солнце светило, тоже холодное. Белое и холодное. Мы пришли в лес на нашу летнюю поляну, у нас было вино, и мы выпили его прямо из бутылки, и стали есть большое желтое антоновское яблоко, одно на двоих, откусывая по очереди. Яблоко было холодное и кислое… И ты стал танцевать, чтобы согреться, смешно подпрыгивая, сунув озябшие руки в карманы короткой курточки… фальшиво напевая строчки известного барда из песни про вальс-бостон… как там…
«Постой, не уходи, побудь со мной, ты мой каприз… – кричал ты на весь лес, кружась. – Удивительный сон, в котором осень нам танцует вальс-бостон… хрипло пел саксофон...»
Ты так смешно кружился, выбрасывая ноги, а я заливалась глупым счастливым смехом… Смех от радости часто кажется глупым, потому что для него не нужно никакой видимой причины. А ты все танцевал и танцевал, кружась и подпрыгивая… Светило низкое солнце, слегка теплое, роса блестела на траве – растаявший ночной иней…
Юлия смеется.
– За вас, мои дорогие!
Она залпом выпивает вино и тянется к сине-белому блюду, полному клубники. Рука ее застывает на полпути, словно она передумала, падает, громко клацнув кольцами о стол.
– Я всех вас ненавижу! – вдруг громко и отчетливо произносит она. – Ненавижу! Ненавижу! – кричит она, захлебываясь собственным криком…
Хватает бокал и швыряет им в стену… Пронзительно звякнув, бокал разлетается вдребезги… осколки сыплются на пол. Юлия хватает другой бокал, размахивается… бокал летит вслед за первым… Со звоном, сыплются на паркет кусочки тонкого стекла…
– Не хочу! – кричит она. – Не хочу! Ненавижу! Где вы все? Все ушли! Все вместе!
Сначала ушла ты, бабочка! Потеряв память, перестав узнавать нас всех. Ты поднималась рано утром и принималась ходить по квартире, бормоча, что Юлька, вредная девчонка, опоздает в школу, а когда я приходила с маленьким Денькой, ты называла нас «та женщина с ребенком». Я брала тебя за руку, и ты, растерянная и непонимающая, смотрела на меня больными тоскующими глазами и осторожно отнимала руку. Это было страшно. Под конец жизни ты оказалась в незнакомом месте, с незнакомыми людьми. Ты – такая сильная, жизнерадостная и неунывающая. Иногда мне кажется, что я тоже оказалась в незнакомом месте, и незнакомые люди вокруг, и я вожу взглядом по чужим лицам, никого не узнавая.
Потом умер ты, папа, – читал газету на диване и умер. Врач «Скорой помощи» сказал тогда: «Красивая смерть, он и не почувствовал. Дай Бог всякому».
Потом ты, мамочка… уходила долго и мучительно.
Потом Женька… «Будь самой горькой из моих потерь, но только не последней каплей горя»… Ты, Жень, самая горькая из моих потерь и последняя капля горя! Ушел, как жил – стремительно, в одночасье, до времени, ничего не сказав на прощание…
Бокалы разбиваются один за другим. И только когда разлетелся последний, пятый, за которым ей пришлось тянуться через стол, и наступила тишина, она услышала, что в дверь звонят…
***
– Таких, как твой Женька, больше нет. Все! Штучная работа.
Ирка хлопнула ладонью по подушке. Они уютно устроились на мягкой и широкой тахте в гостиной Юлиного дома. На маленьком столике у тахты – бутылка с вином, рюмки, виноград в вазе и коробка вишни в шоколаде. Они болтают о знакомых и всяких мелких и незначительных событиях, которыми полна их жизнь, о том, о чем обычно болтают женщины, когда сходятся вместе, тем более – старинные подруги, которым есть что вспомнить. Юлия, печальная, бледная, исхудавшая после смерти мужа, и Ирка, язва Ирка, неунывающая стерва с раздвоенным язычком, чьи словечки и характеристики прилипают намертво – не отдерешь, которая пытается развеселить ее.
– Ты что, теперь всех мужиков будешь с ним сравнивать? Гиблое это дело – сравнивать, поверь, по себе знаю! Хотя и сравнивать-то особенно не с кем и некого. Моя первая большая любовь, Павлик Морозов! – Ирка расхохоталась. – Помнишь? Красавец под два метра ростом, кругом положительный и правильный. Отличник, победитель олимпиад, надежа и опора отечественной науки. Веришь, я первая его… трахнула, можно сказать. Я, я сама! Он до свадьбы не хотел, видите ли. Идиот! Мне бы тогда еще подумать, что странно это, в жизни так не бывает, разве что в мексиканском сериале… «Он ее бережет», – называется. Из серии «Честные и порядочные». А я, дура, радуюсь. Бережет – значит, любит. Не то что другие… которых просить не надо! Умный, честный, принципиальный, будущий ученый с мировым именем, кандидатская, докторская, кафедра в столице, нобелевка, приемы, загранпоездки… И я, верная подруга великого человека, в скромном вечернем туалете, скромные бриллиантики в ушках, глазки опущены – жена, лингвист-полиглот-референт, помогаю мужу в его деятельности, перевожу статьи из научных журналов, библиографии составляю, тексты правлю… А он, красавец – глаз не оторвать, в смокинге, принимая медаль… или что им там дают, говорит: «Всеми своими успехами я обязан жене, моей верной помощнице и замечательному человеку… Ириша, родная…» Голос его дрожит… Трогательная пауза, все дружно начинают хлюпать носами, лезут в разные места за носовыми платками… – Ирка делает драматическую паузу, потом вдруг орет: – Как же, нобелевка! Кафедра в столице! Щас! Фиг вам! Он же всех достал своей принципиальностью и занудством, своими жалобами в вышестоящие инстанции. Писатель гребаный! То ему компьютер со слабой памятью дали, а кому-то «Пентиум» последней модели обломился, то кабинет отдельный пообещали, да снова не дали, то в отчете отметили не так, как надо, то премии не выделили, то штаты раздуты и бездельников полно. Какая наука, если борьба за справедливость не за жизнь, а за смерть! Его же первого и выперли из института по сокращению. Так он на них в суд. Папочку завел, ходит, бумажки подкалывает, с адвокатами перезванивается. Цитирует классика. Как сейчас помню: «Лишь тот достоин счастья и свободы, кто каждый день идет за них на бой!»[1] Тот сказал да забыл, а этот вооружился. Бац – проиграл! Бац – снова облом! Что было, вспомнить страшно!
Она умолкает и задумывается. Потом продолжает:
– А дома! Я ему уют создаю, рубашки крахмалю, обеды из пяти блюд готовлю, жду, ласковая, покорная, любящая, вся образцово-показательная…
Юлия не выдерживает и улыбается. Покорная! Кто бы другой, но не Ирка!
– Не веришь? – спрашивает Ирка, ухмыляясь. – И зря! Клянусь, из пяти блюд! Ну, из четырех, если без компота. А он за столом вилку с ложкой протирает салфеткой, стаканы на свет рассматривает… Я в ресторане глаза поднять не смела, мне казалось, все на нас пялятся, а он все трет и трет, заразы боится. Дыхнет и полирует, дыхнет и полирует!
Убила бы! У мамы тетка была, так та тоже вилки с ножами за столом протирала, мне так и хотелось ей на голову тарелку с супом надеть. И руки Морозов все время мыл, и пережевывал по тридцать два раза каждый кусок, чтобы помельче, в кашицу. Вычитал где-то, что нужно именно тридцать два раза и никак не меньше, чавкал и считал. Представляешь, за столом гробовое молчание, морда сосредоточенная – жует и считает. И ни-ни голос кому подать – собьется, не дай бог! А врачей так просто обожал! Да нормальный мужик от них, как черт от ладана, а этот сам ходил. Хорошо, хоть детей не успели… Семь лет коту под хвост!
А Марат… – продолжает она, – сама знаешь. Звезд, конечно, с неба не хватает, но… хоть не сопротивляется, прислушивается к умным советам. Хотя все равно без толку. Ты знаешь, твой Женька из него человека сделал. Он теперь хоть соображает, что к чему. Просто удивительно, как не похожи быывают дети на родителей, – Ирка задумывается на минуту. – Отец – полковник авиации, ооновский миротворец, жесткий мужик, разговаривать не умеет – привык команды отдавать, раз-два, строем марш! По загранкам всю жизнь мотается. Семья часто толком и не знала, где он миротворствует. Позвонят какие-то люди, передадут привет: все в порядке, все нормально, мол. А деньги по аттестату, переводом по почте. А когда дома – упаси бог опоздать к обеду! А Маратик в мамочку, такой же рас… разгильдяй, безобидный, как… как… – Ирка подыскивает сравнение пообиднее: – Амеба! Самая настоящая амеба! Я-то думала, папаша его в дипломаты пристроит, языки знает, а что не карьерный… так у них теперь кто попало в посольствах! Батя рассказывал, все детей своих за границу попристраивали. Как подумаешь, кто внешнюю политику делает, – ужас просто! Маратик ничуть не хуже… правда, и не лучше. Фиг! Батю поперли из миротворцев, то ли место кому покруче уступить пришлось, то ли прокололся на чем-то… А Марик, дипломат недоделанный, и я с ним, у разбитого корыта. Если бы не Женька… даже не знаю!
Она задумчиво крутит на пальце массивное серебряное кольцо с бирюзой. Потом говорит уже совсем другим голосом:
– Слушай, а это правда, что Ситников хочет купить ваш «Торг»?
– Ситников? – Юлия удивлена. – Не знаю, мне он ничего не говорил. Откуда ты знаешь?
– Он же с тобой встречался, – небрежно роняет Ирка, не глядя на Юлию, умирая от любопытства.
– Встречался, но предложений никаких не делал. Просто зашел проведать. Спросил, не надо ли чего.
– А… – тянет Ирка. – Ситников крутой мэн, если задумал что – лапки кверху и сразу сдаваться. А вообще-то такому сдаться одно удовольствие, – говорит она мечтательно. – Это не мой Маратик. А может… – она искоса смотрит на Юлию, – а может…
– Что?
– А может, он… виды на тебя имеет? А что? Молодая богатая вдова, – в голосе Ирки ревнивые нотки. – Он мужик свободный. Ты ему особенно не доверяй! И бизнес Женькин продавать не спеши. Марик пока справляется.
– Я все равно в этом ничего не понимаю, – говорит Юлия. – Но, если подумать, зачем он мне нужен? Морока одна.
– Никакой мороки! Это ведь Женькино дело, сколько его мордой об стол били, пока пошло, а? Вспомни! Нельзя продавать, не спеши. И Денька вернется, не вечно же ему по свету болтаться, блажь выветрится когда-нибудь. Наследник все-таки! И не думай!
Юлия и Ирка жили в одном дворе, ходили в одну школу, вместе поступили в институт на иняз. Почти одновременно вышли замуж – Юлия за Женю Литвина, студента политеха, Ирка – за Володю Вербицкого, студента того же политеха. Потом Юлия родила Дениса, Деньку, а Ирка развелась с Володей и через год вышла замуж за Марика. Они очень разные, что тогда были, что теперь. Авантюристка Ирка и положительная девочка Юлия. Ирка – тоненькая, угловатая, длинная челка закрывает глаза. Кривоватые ноги в традициях подросткового угловатого имиджа, вихлявая походка. Челка до бровей в двадцать, челка до бровей в тридцать, в тридцать с гаком, взгляд исподлобья все тот же, не изменился. Хотя нет, изменился. Оценивающе-откровенный в двадцать, по-детски наивный в тридцать. И в тридцать с гаком еще более наивный, еще более детский, еще более беззащитный.
Интересное было поколение, появившееся в одно прекрасное застойное время, странный гибрид из наследниц тургеневских девушек и девушек эпохи активного строительства коммунизма в отдельно взятом регионе. «Умри, но не давай поцелуя без любви» плюс «Комсомол – надежный помощник партии!». Интересное и счастливое в неведении жизненных искусов. Дружно маршировавшее к высоким целям. И на этой вполне здоровой почве произросло вдруг ядовитое растение с яркими и порочными цветками – ветер занес злые семена откуда-то издалека, не иначе! Мужчины, завидев Ирку, столбенели и укладывались в штабеля, согласно мечте героини одного старого наивного фильма, а она за чашечкой кофе или бокалом сухого вина, «сухарика», как они его называли, порочная и опытная, рассуждала о мужчинах в группке наивных подружек, мечтающих о прекрасном принце.
Тьфу! Какой прекрасный принц? Любой, просто принц, любой масти, пусть даже черный, как сапог, из какой-нибудь Центральной Африки или Азии – тогда да!
– Положение, деньги, связи! – чеканила Ирка.
– А любовь? – спрашивали наивные дурочки, примеряясь: а не устроить ли диспут под названием «А если это любовь?».
Ирка загадочно пожимала плечами, накручивая на указательный палец блестящую каштановую прядку… О, она могла бы порассказать такого, эта Ирка…
Ох, эта Ирка! Сейчас таких, как Ирка, – пруд пруди, в наше время наивных девочек больше нет, перевелись как класс. Экономика диктует жесткие правила выживания, и девочки взрослеют быстро. А тогда… «Ты не права, Ириша, а любовь? Как же без любви? Подумай сама, Ир, как же без любви?» Само слово «любовь» заставляло сердце томительно сжиматься в сладком предчувствии, ожидании и надежде… ах! Ирка обидно хохотала: положение, деньги, связи!
Несмотря на отличное знание теории, на практике Ирке не везло. Блестящая партия – Володя Вербицкий: положение, деньги, связи плюс нобелевка в недалеком будущем, – увы, увы! Даже вспоминать не хочется. Марат, Марик, солидный, уверенный в себе, с манерами наследного принца, – блестящая партия номер два, светило отечественной дипломатии, обещание великосветских раутов и тусовок – и снова, увы. Несколько интимных друзей, на которых она всерьез рассчитывала – как оказалось, совершенно напрасно. Ну, ничего, еще не вечер, обломы в прошлом – не повод для уныния, а наоборот, бесценный житейский опыт. Кто предупрежден, тот вооружен. Жить нужно настоящим, не теряя даром ни минуты.
Как-то незаметно, несмотря на неудачи на личном фронте, Ирка взяла на себя роль путеводной звезды для сексуально отсталой Юлии.
– Женька? Что ты в нем нашла? – саркастически вопрошала Ирка. – Хороший парень, но бескрылый. Такой просидит всю жизнь на копеечной зарплате инженера и не почешется. Беден, но честен, как Иванушка-дурачок из одноименной сказки. На этом капитале не пробьешься!
И опять промахнулась Ирка. У Женьки оказался сильный и предприимчивый характер, аналитические способности… Как раз то, что нужно в наше смутное время экономического разгула. Кто бы мог подумать!
Мы часто слышим рассказы о необыкновенных людях, с которыми постоянно случается невесть что, причем раз за разом. То в человека бьет шаровая молния – чем-то он ее притягивает. Раз пять или шесть, а то и больше, и чуть ли не подряд. Другой ее за всю жизнь ни разу не увидит, так и помрет в неведении, а в какого-нибудь Ивана Семеновича, скромного зоотехника из фермерского хозяйства «Заря капитализма», молния лупит и лупит, прямо спасу нет!
А этот побывал уже в шести автомобильных авариях, к своей машине подойти боится, только с шофером. Чувствую, говорит, добром не кончится! Ладно, машина, а если самолет?
А еще один проваливается под землю, в какие-то засыпанные колодцы и шахты, которых и на карте-то ни одной нет, и старожилы их не упомнят, а его несет в нужное место – грибы он там собирает, видите ли, тысячи людей прошли, и ничего! А он раз – и готово. Провалился!
Женька, как оказалось, был из породы таких же везунчиков. Ему не валились на голову метеориты, но он умел находить клады. Чувствовал деньги, другими словами. О, деньги – это особая статья! Еще древние придумали сказку о царе Мидасе, которому достаточно было прикоснуться к любой вещи, чтобы вещь эта немедленно превратилась в золото. Женька обладал тем же даром, что и древний царь, – он делал деньги из воздуха. И в условиях экономической свободы, не стесненный никакими законами, дар его расцвел пышным цветом. Он торговал металлоломом, перегоняя составы в Европу, к немцам, или на Дальний Восток, где сбывал японцам; поставлял сухое молоко, закупленное в Германии, в Африку; торговал целебными травами, алмазами, запрещенной слоновой костью, энергоносителями. И вдруг стал очень и очень богат.
– Да, – признала однажды Ирка, – Женька твой… кто бы мог подумать! А Маратик опять без работы, очередное сокращение. В депрессии, валяется на диване. Кроссворды решает. И все время к холодильнику – туда-сюда, туда-сюда! Зла на него не хватает, лузер! Может, попросишь Женьку, а? Если ему нужен эскорт-сервис для импортных партнеров – Маратик самое то! Смокинг, бабочка, вилку с ножом грамотно держит, взгляд честный-пречестный, чистые руки, горячее сердце, такие на улице не валяются. И язык подвешен, сама знаешь – хлебом не корми, дай по… поговорить!
– Рано ушел Женька, – сказала вдруг Ирка. – Ему бы жить да жить…
Юлия закрыла лицо ладонями и заплакала.
– Не реви, – вздохнула Ирка, – не вернешь. О себе подумай лучше!
Сколько раз Юлия слышала эти слова от друзей, знакомых и полузнакомых. «Женьку не вернешь, о себе подумай!» «Крепитесь (или «мужайтесь!»), Юлия Павловна, Евгения Антоновича не вернешь, а вам жить!» Женьку не вернешь, а ей жить! Разве ей нужна жизнь без Женьки?
– Конечно, – продолжала Ирка, – с его-то сердцем… Такого ритма и здоровый не выдержал бы.
Юлии почудился упрек в словах Ирки. Она постоянно чувствовала свою вину – не уберегла! Не уберегла Женьку! Он мотался по всему свету, был одновременно во многих местах, звонил каждый день и кричал с другого конца земного шара:
– Юльця, привет! Как ты? Я тебя люблю!
– Женечка! – кричала она в ответ. – Я соскучилась! Когда ты вернешься?
Женька называл ее Юльця, или пани Юльця, ему это страшно нравилось. Нежно и смешно. Так называл ее партнер Женьки из Кракова, Януш Корчиньский – они заехали к нему на пару дней по пути в Вену. Он восхищенно целовал ей руки и называл пани Юльця. «Это такое здробненное имье от Юлия», – объяснил он. Юлия взглянула вопросительно. «Уменьшительное, – поспешил Женька, улыбаясь во весь рот. – Ласкательное!»
Юльця, Иренця, Гельця… как колокольчик!
Он был всегда, он был везде, он был вечен. Мир без Женьки не мыслился. Он просто не мог существовать без Женьки. И вдруг Женьки не стало. Некая сила, слепая и равнодушная, выдернула его из жизни.
– Не может быть! – повторяла растерянная и испуганная Юлия по дороге в больницу, откуда ей позвонили в шесть утра. Так не бывает! Как же так? Он же был на работе! Позвонил около одиннадцати, сказал, что еще посидит, и чтобы она не ждала, ложилась. А в шесть утра ее разбудил телефонный звонок…
«Юльця, не жди меня!» – сказал Женька, и фраза эта крутилась в ее памяти, как заезженная пластинка, и уже придавался ей мистический сакральный потусторонний смысл, и мысль о том, что он… попрощался, он знал, он чувствовал…
«Он чувствовал, что уходит!» Мысль эта сводила ее с ума, крутясь в сознании денно и нощно. Его слова были знаком! И если бы она поняла, побежала к нему, она бы помешала…
Кто угодно, только не Женька, в котором было жизненной силы на десятерых. Как же так? Ей бы заставить его сходить к врачу, закатить скандал, «в ногах валяться», как говорит Лиза Игнатьевна.
– Не бойся, старушка! Еще постриптизим! – обрывал он ее попытки затащить его к известному кардиологу. А однажды сказал: – Юля, давай не будем портить наши отношения! – причем таким тоном, что Юлия опешила. А он взял ее руки и поцеловал одну, потом другую. И сказал дурашливо, как обычно: – Я тебя все равно люблю! Несмотря ни на что! Скажи, что больше не будешь! Не волнуйся, старушка, у меня есть волшебные таблетки от доктора Сороки!
Доктор Сорока был их семейным врачом…
Потом она вспоминала этот разговор и думала: «А что, если он знал?»
А что, если он знал? Чувствовал?
«Нет! – кричал разум. – Это нелепая случайность! Он ничего не знал и ничего не чувствовал!»
Ей было легче думать, что смерть мужа была случайностью, которую невозможно было ни предугадать, ни предотвратить.
– Не уберегла!
Осуждение чудилось ей в глазах людей.
– Женьку не вернуть, – сказала Ирка, – а тебе жить! Посмотри, на кого ты похожа? Если бы он увидел тебя такой, испугался бы!






