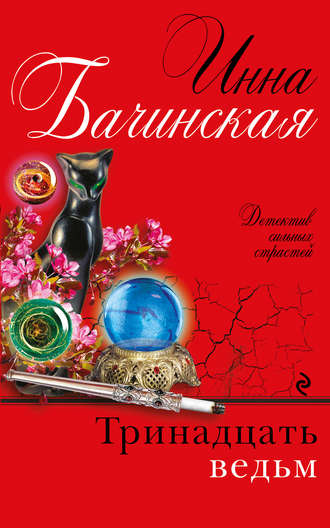
Инна Бачинская
Тринадцать ведьм
Глава 3
Премьера. Середина осени. Ноябрь
«…Ведьмы, хотят они того или нет, тяготеют к крайностям, где сталкиваются друг с другом две стороны, два состояния. Их тянет к дверям, окружностям, границам, воротам, зеркалам, маскам…
…И к сценам».
Терри Пратчетт. «Маскарад»
– И самое главное, не люблю я этой пьесы! – Монах поскреб в бороде. – Слишком много крови.
Олег Христофорович Монахов, Монах для своих, путешественник, экстрасенс, психолог и просто бывалый человек, и его друг, Алексей Генрихович Добродеев, «желтоватый» репортер скандальной хроники и ведущий городской специалист-эзотерик по всяким паранормальным явлениям, сидели в первом ряду Красного зала Молодежного театра. Билеты достал Добродеев, у которого все везде схвачено, а кроме того, он дружит с режиссером Виталием Вербицким. Давали «Макбет», что было «мощным культурным протуберанцем на местном театральном горизонте», как заметил Леша Добродеев в одной из своих статей, предварявших премьеру. Каким боком протуберанец к горизонту – оставим на совести автора. В дальнейшем журналист собирался тиснуть материалец о спектакле в «Вечерней лошади», причем наметки, написанные в свойственной журналисту напористой и восторженной манере, были готовы еще вчера, оставалось вставить «оживляжи» с места событий, вроде: «зал взорвался бурей аплодисментов», «ужас сковал присутствующих», «публика замерла, не в силах противиться…», а также всякие новаторские стилистические находки вроде «протуберанца». Много замечательных слов посвящалось выдающемуся режиссеру Виталию Вербицкому, который сумел донести до аудитории суть и дух самой кровавой шекспировской трагедии.
«Признаться, – нагнетал Добродеев, притворяясь простачком, – поначалу я воспринял скептически намерение Виталия, уж очень высоко он замахнулся, но, просидев, затаив дыхание, все три часа спектакля, я понял, как сильно ошибался! Вербицкий потряс меня в очередной раз! Ему удалось ухватить и передать… – Тут был пропуск, так как Добродеев пока не придумал, что именно удалось ухватить и передать Вербицкому. – Чем доказал, что…»
– Не люблю этой пьесы, слышишь? – перебил поток мыслей журналиста Монах.
– Ты не любишь «Макбет»? – поразился Добродеев.
– Ш-ш-ш! – зашипел Монах. – Не повторяй названия, не к добру. Можешь сказать «проклятая пьеса» или «та пьеса», но никаких названий. А что, должен любить?
– Не смеши меня! – хихикнул Леша Добродеев. – Ты веришь в эту галиматью? Любой культурный человек должен.
– Верь не верь, а факты вещь упрямая, как любят повторять все уважающие себя следователи из криминальных романов. Насчет «должен» в корне не согласен. Пьеса незаурядная, не спорю, но любить или не любить – дело вкуса. Вообще мне трудно представить себе особь, которой это может понравиться. А ходят в основном из-за личности актеров. Я, например, никогда не видел на сцене нашу местную знаменитость… этого… как его? Потому и поддался.
– Как его! – фыркнул Добродеев. – Петр Звягильский! Корифей и классный мужик. Факты… Какие еще факты? Ты веришь в проклятье? Ха! Трижды ха. Не ожидал. Ну, читал! Все актеры, игравшие леди Макбет, рано или поздно умерли. Это вроде проклятия фараонов – все археологи тоже умерли. Рано или поздно. А ты, Монах, доверчив, как…
– Для репортера, который пишет о летающих тарелках, ты, Леша, удивительно бескрыл, – перебил Монах. – На премьере пьесы в «Глобусе»… если память мне не изменяет, в одна тысяча шестьсот каком-то году, внезапно скончался актер, игравший леди Эм… не к ночи будь помянута эта славная женщина. Тогда женские роли играли мужчины, как тебе известно… должно быть. Спектакль хотели отменить, но автор не позволил и сыграл сам. Артисты, как ты знаешь, народ суеверный, вся труппа была страшно перепугана, тряслась от ужаса и играла как на похоронах. Тем более сплошные проклятья, предательства и реки крови. Как признался один из них, он все время ожидал: то ли подмостки рухнут, то ли пожар, то ли еще какая напасть. Публика затаила дыхание и готова была удариться в панику. А начало помнишь?
– Не припоминаю, – наморщил лоб Добродеев. – Какие-то ведьмы…
– Какие-то ведьмы! – фыркнул Монах. – Для гуманитария и любителя наследия великого барда более чем скромно. В чем там дело, хоть знаешь?
– Ну… в общих чертах. После битвы с кем-то там король Дункан остановился в замке Макбета, а тот его убил, потому что леди Макбет хотела стать королевой. И многих других тоже.
– С кем-то там… С норвежцами! Ладно, живи пока. Ведьмы, Леша! Ведьмы – это серьезно. В те времена их было немерено, гадили, как могли, и народ старался держаться от них подальше. Представляешь себе настрой публики – внезапная смерть актера, ведьмовские проклятья, море трупов. Тем более считается… только это между нами!
– Сейчас не меньше, – пробормотал Добродеев. – Ведьм…
Монах понизил голос, и журналист наклонился к нему, чтобы не пропустить ни слова. В проклятья он, разумеется, не верил, но тема была перспективной, и он уже прикидывал, как изменить угол подачи и всунуть эту чертовщину в статью, шестеренки в голове резво закрутились… Ну, там, набуровить мистики, колдовства, всяких страшилок, личные впечатления от премьеры, от которых мороз по коже, не забыть предчувствия, тоску в сердце, кошмарный сон накануне премьеры, разлитый кофе, рассыпанную соль и вой соседской сучки… дрянная все-таки собака! Встряхнуть читателя и подарить ему праздник. Поменять акценты и углы! Как сказал один известный писатель романов-ужасов: «Что может быть прекраснее доброго смачного ужастика на ночь!» Как-то так. Публика любит, когда ее пугают. Молодец Монах!
Первые строчки вылупились с ходу: «Вечер премьеры «Той пьесы» не предвещал ничего худого. Светила полная луна. К ночи похолодало и прояснилось. Все было как обычно… если бы не крайне неприятный эпизод в самом начале, у входа в Молодежный…» Или наоборот: «Все словно предвещало несчастье – и кроваво-красная полная луна, проплывающая в черном небе, и вой беспризорной собаки, и ледяной ветер, пронизывающий до самых костей. Кроме того, крайне неприятный эпизод…»
Тут надо придумать нечто, решил Добродеев. Хорошо бы, неизвестная страшная старуха, потрясающая клюкой, прокляла Молодежный в целом и режиссера Виталия Вербицкого в частности за… Тут надо снова подумать. Может, режиссер соблазнил ее внучку. За разврат, допустим. Призвала кару небес, так сказать. Или за увлечение порно в перепевах классики, что вызывало как горячий интерес публики, так и горячее неприятие всяких ретроградов-литературоведов. И голос визгливый, и руку подняла и грозит кривым черным пальцем. Вполне возможно, учительница литературы на пенсии. И луна вдруг спряталась за тучу. И упала тьма кромешная… тут можно провести аналогию с преисподней – темень как в преисподней! Тут бы не помешал раскат грома… чтоб рявкнуло от души!
«Публика, преисполненная дурных предчувствий, замерла, не в силах пошевелиться, неприятный ледяной холодок пробежал по спинам присутствующих…»
Шестеренки в голове Леши Добродеева крутились все резвее, мысли наталкивались друг на друга и кружились как в водовороте. Леша замер и уставился на пустую еще сцену.
– Шекспир увлекался оккультизмом и вставил в текст реальные сатанинские приговоры, что доказано, – продолжал Монах, не подозревая, что журналист впал в транс. – Каждый спектакль сопровождался какой-нибудь пакостью – то внезапной смертью актера, то бурей, то падением в оркестровую яму директора театра во время приветственной речи. Ее сто лет не ставили, а музыку, написанную для пьесы, с тех пор не исполняют, боятся, а некоторые сцены вообще переписаны…
– Виталий Вербицкий тоже кое-что переписал, он это любит, – очнулся Добродеев. – Он всегда переписывает классику, в смысле, осовременивает.
– Ага, Вербицкий и Шекспир. Звучит. Зачем переписывать классику? На то она и классика.
– Ты думаешь, это правда? – невпопад спросил Добродеев. – Насчет проклятья?
– Черт его знает! «Есть многое на свете, друг Горацио, что и не снилось нашим мудрецам», как сказал тот же Шекспир устами принца Гамлета. Как волхв – верю, как физик – сомневаюсь. А сомнения, к твоему сведению, есть рабочее состояние всякой креативной личности. Толчок к познанию, образно выражаясь.
Они замолчали, так как на сцену стремительно вышел режиссер Виталий Вербицкий. Раздались аплодисменты, захлопали стулья – публика начала вставать. Он стоял на сцене – высокий, сильный, похожий на викинга со своей белой косичкой и бородой, в кожаных штанах и расшитой бисером кожаной тунике. Стоял спокойно, склонив голову, словно смирившись с бременем славы. Потом протянул в зал руки, призывая к тишине, и сказал звучным басом:
– Спасибо, что вы здесь, друзья. Это честь для меня. Сегодня у нас не обычный спектакль, а премьера. После долгих споров мы решились и сделали эту пьесу. И сегодня выставляем наше детище на ваш суд.
– Интересно, скажет «Макбет» или нет? – подумал Добродеев.
Режиссер говорил «пьеса» или «та пьеса», ни разу не выговорив ее названия.
– Ну, жук! – восхитился Добродеев. – Интриган тот еще! Манипулятор. С самого начала создает настрой.
Конечно, знают о том, что пьеса «проклятая», единицы, остальные не обратят внимания… но тем не менее тем не менее. Хорошо бы еще он свалился в оркестровую яму, чтобы поддержать реноме, но не с нашим счастьем. Тем более оркестровой ямы в Молодежном нет. Можно, правда, просто упасть со сцены… Черт, надо было подсказать – Виталя любит всякие сомнительные спецэффекты и фокусы, штукарь еще тот и способен на все. Добродеев закрыл глаза и представил, как режиссер падает со сцены…
Виталий Вербицкий! Кто в городе не знает Виталия Вербицкого? Низвергателя канонов, мастера эпатажа, героя скандалов! Любимца города, между прочим. Примерно раз в год театр закрывают на неделю, снимают уже готовый спектакль, как правило, за порнографию, режиссер подает в суд и разражается циклом статей в желтоватой «Вечерней лошади» насчет лицемеров и филистеров. В городе оживление; представляет Виталю в суде самый известный и самый бессовестный городской адвокат мэтр Рыдаев; поклонницы рвут на себе волосы и на руках выносят Виталю из зала суда. Причем загадка и интрига – кто платит за удовольствие: у мэтра баснословные гонорары, а у Вербицкого денег кот наплакал. Добродеев подозревал, что никто – Пашка Рыдаев работает за так, для рекламы. Возможно, из любви к искусству. Последнее, правда, сомнительно.
Вербицкий меж тем закончил спич, поклонился в пояс и, печатая шаг, удалился со сцены.
Занавес дернулся и пополз в стороны, открывая три отвратительные фигуры в тряпье – трех ведьм, трех «пузырей земли», – трепещущие на сквозняке ленточки кумача, имитирующие пламя, казан с «варевом». Одна из ведьм, самая страшная, седая и горбатая, мешает черпаком в котле и бормочет заклинания.
Глухая ночь вокруг, тревожно шумят деревья, покачивается казан на треноге, горит костер, скрежещет о дно черпак; раскаты грома и блики молнии…
В зале гробовая тишина, публика затаила дыхание.
– Когда нам вновь сойтись втроем в дождь, под молнию и гром?[1] – начинает, завывая, ведьма в колпаке, тряся головой, отбрасывая назад седые космы.
– Сейчас! Зло станет правдой, правда – злом! – вторит товарка с черпаком. – Взовьемся в воздухе гнилом!
Третья вздымает руки, и тут же ослепительно сверкает молния и раздается оглушительный раскат грома.
Леша Добродеев смотрел на сцену, мысленно сочиняя статью, а Монах от нечего делать рассматривал публику. Пьеса вгоняла его в депрессию, кроме того, ведьмы были ненатуральны, декоративны и слишком орали. Да и грим… любительский. У той, что с черпаком, перекосился парик. Хотя, не мог он не признать, с перекошенным париком выразительнее. Лица вокруг Монаха были серьезны и сосредоточены, руки дам судорожно сжимали сумочки. Монах косил взглядом вправо и влево, так как вообще любил рассматривать лица и определять, что именно они выражают в данный момент и как: то ли раскрыв рот, то ли нахмурив брови, то ли кусая себя за палец. Он заметил капельки испарины на лбу Леши Добродеева и подумал, вишь, как того проняло… искусством. Ему было невдомек, что журналист весь в сочинительстве, а потому слабо воспринимает окружающую действительность.
На сцене меж тем появляются новые персонажи. Входят Макбет и Банко. Монах заглянул в программку. В роли Макбета заслуженный артист, тот самый, местная знаменитость, Петр Звягильский. Артист немолод, с изрядным животом любителя пива; на голове его рогатый шлем с плюмажем, на плечах полосатая тигровая шкура; хвост ее волочится по земле. Шкура заметно бита молью. Видимо, шкура – одна из новаторских идей режиссера. Зал взрывается аплодисментами. Некоторые встают. Актер кланяется.
– Не помню дня суровей и прекрасней! – говорит Макбет звучным сильным голосом, дождавшись тишины.
Ведьмы взвывают дикими голосами. Макбет отступает, требуя ответить, кто они.
– Будь здрав, Макбет! – вопит первая ведьма.
– Будь здрав, Макбет! Будь здрав! – вторит ей другая.
– Будь здрав, будь здрав, Макбет, король в грядущем!
Третья простирается у ног Макбета, прижимается лицом к сапогу. Тот, брезгливо кривясь, отталкивает ее. Ведьма отползает, опрокидывается на спину и грозит корявым пальцем. Две другие хихикают и бормочут заклинания.
Монах наконец заинтересовался происходящим. Потом ему казалось, что он почувствовал нечто, витавшее в воздухе. Некий холодный сквознячок предчувствия. Он подался вперед и уставился на сцену, пытаясь понять, что вызвало ощущение зла. На сцене Макбет, Банко и три хихикающие старухи. Одна грозит пальцем – кривым черным пальцем протыкает пустоту – и бормочет проклятия.
Макбет подходит к краю сцены, волоча за собой тигровый хвост, вздымает руку. Тишина в зале стоит гробовая. Неприятно жужжит тусклая лампочка в одном из светильников.
Добродеев нагибается за упавшей программкой. Монах оглядывается и привстает, подавляя острое желание вскочить и прыгнуть на сцену, переживая одно из тех состояний, когда ему открывается… нечто. Когда-то это спасло ему жизнь.
Макбет вздымает руку, другой поправляет на груди застежки тигровой шкуры, снимает рогатый шлем; держит его в руке; видно, как покачиваются от сквознячка перья плюмажа. Пауза. И вдруг… Макбет вспыхивает как факел! Ведьмы вопят в ужасе; Банко бросается к товарищу и пытается стащить с него шкуру; сбрасывает камзол, пытается сбить пламя. С треском сгорают перья на шлеме. Макбет кричит и падает, взмахнув руками. Его фигура объята огнем; он больше не кричит. Монах лезет на сцену, стаскивая с себя свитер; бросается к Макбету, набрасывает на него свитер; в лицо ему полыхает пламя. Он отступает, кричит: «Леша, огнетушитель!» На сцену выскакивает человек в синем комбинезоне, в руках его огнетушитель. Из огнетушителя с шипением вырывается пенная струя…
Никто ничего не понимает, публика растерянно поднимается с кресел. Минутное замешательство, затем визг, крики и хлопанье сидений. То, что происходит на сцене, не похоже на новаторский прием культового режиссера; по залу расползается отвратительная вонь горящих тряпок.
Пламя уступает и гаснет; через пару минут на сцене лежит неподвижная обгоревшая груда, покрытая белой банной пеной; растерянно стоят три ведьмы, Банко, Монах и человек в синем комбинезоне. На сцену выскакивает Виталий Вербицкий, кричит:
– Петя! Петя! – бросается на колени перед страшной грудой, трясет ее.
Публика меж тем пришла в себя и рванула из зала. Кто-то закричал: «Пожар!» У выхода началась давка, кого-то придавили, кого сбили на пол; крики, натиск, рукопашная. Вторую половину массивной двери, остававшуюся закрытой, снесли в секунды. Народ слетал со ступенек, вне себя от ужаса; раздевалку взяли приступом…
Спустя несколько минут в зале остались лишь Добродеев, растерянно топтавшийся у сцены, пытаясь рассмотреть, что случилось, да несколько фигур на сцене.
– Он что, загорелся? – Вербицкий повернулся к Банко. – Каким образом? Откуда огонь? Как это случилось?
– Не знаю! – закричал Банко. – Он снял шлем, подошел к краю и вдруг загорелся! Это было как… не знаю! Сразу! Он загорелся, как сноп! Так и вспыхнул! Сразу после пророчества. Надо «Скорую» и полицию! Может, он еще жив…
– Проклятая пьеса, – пробормотал Добродеев. – Все-таки проклятая…
– Он мертв, – сказал Монах, поднимаясь с колен.
Глава 4
Детективный клуб толстых и красивых любителей пива
Монах явился на сходку первым. Приветствовал бармена Митрича – он же хозяин «Тутси» – и уселся за столик в углу. Митрич бросил пост и подбежал. Спросил тревожно:
– Олежка, ты в курсе насчет Молодежного? Что там случилось? Говорят, актер сгорел прямо на сцене? Говорят, пьеса нехорошая… в смысле, чертовщина какая-то. Весь город как с ума сошел! Сплетни, слухи, городят такое, уму непостижимо! У Виталика Вербицкого всегда какие-то вывихи, вечно его то в суд таскают, то закрывают. Так что я не удивляюсь…
– В курсе, – ответил Монах сдержанно, оглаживая бороду. – Я там был. Я думаю, Вербицкий ни при чем.
– Ты? В театре? – поразился Митрич. – Ты был в театре и сам все видел?
– Был и видел. У них была премьера «проклятой пьесы»…
– Так и называется?
– Нет, называется «Макбет». Считается проклятой, потому что во время спектакля вечно что-то случалось – то актер скоропостижно умирал, то декорации падали. А теперь вот… тоже не избежали.
– А что случилось? Пожар?
– Нет, Митрич, не пожар. Актер, игравший Макбета, загорелся и погиб.
– Как это загорелся? Как это можно вдруг загореться? Спичку бросили или зажигалкой?
– Нет. Ты про самопроизвольное возгорание слышал? Самовозгорание?
– Самовозгорание? – Митрич наморщил лоб. – Нет вроде. А что, и такое бывает?
– Говорят, бывает. Я лично не видел. Но химики говорят, бывает. Правда, официальная наука этот феномен не признает и относит к паранормальным. Вроде полтергейста.
– И человек вот так, за здорово живешь, сгорает?
– Говорят, сгорает.
– Что значит, говорят? Ты же видел!
– Я-то видел, но трудно сказать, что именно. Актер вдруг загорелся…
– Петя Звягильский! Бывал у меня, вон на фотке, – Митрич махнул рукой в сторону фотографий на стене. – С автографом. Царствие ему небесное. Нормальный мужик был. Бедняга! Аж не верится… Олежка, а может, шаровая молния?
– Нет, Митрич. Не молния. Там работают криминалисты, пока ничего не известно. Нас продержали в театре два часа, допрашивали, что да как. Сейчас подгребет Леша Добродеев, может, чего просочилось. У него везде свои люди.
– А отчего оно бывает, это самовозгорание?
Монах пожал плечами:
– Мнения на сей счет расходятся. Летописные источники свидетельствуют, что самовозгорание имело место быть на протяжении всей истории человечества, называлось дьявольским огнем и постигало грешников. Существует также версия, что самовозгораются курящие алкоголики, проспиртованные и прокуренные. Так что разброс мнений достаточно широк, на все вкусы – для верующих и агностиков.
– Леша! – закричал вдруг Митрич. – Леша пришел!
Журналист Алексей Добродеев неторопливо подошел, уселся. Лицо его было мрачным.
– Ну что, Леша? Что нового? – нетерпеливо спросил Митрич. – Что-нибудь уже известно?
– Ну, кое-что… есть предположения, – сказал Добродеев загадочно.
– Какие? – спросил Митрич, умирая от любопытства.
– Ну… – Добродеев, напуская туману, пошевелил пальцами.
– Это белый фосфор? – спросил Монах.
– Откуда ты знаешь? – остолбенел Добродеев.
– Не вижу другого объяснения, Леша. Белый фосфор на воздухе самопроизвольно воспламеняется, поэтому его хранят в определенных жидкостях. Например в сероуглероде. Когда жидкость испаряется, фосфор вспыхивает. Это элементарно доказывается, мы, помню, валяли дурака на уроках химии в старших классах, воспламеняли свечу. Ничего другого я себе не могу представить. Я прав?
– Ты, Христофорыч, всегда прав, – разочарованно сказал Добродеев.
– Ты же сказал, самовозгорание! – напомнил Митрич. – Тогда… что же это получается? Его облили этой жидкостью?
– Я предположил, чисто гипотетически. Но я не верю в самовозгорание, Митрич. Думаю, его облили этой жидкостью, а когда она испарилась, он загорелся.
– То есть это… что? Убийство? Господи! – Митрич перекрестился.
– Как ты догадался? – спросил Добродеев.
– Я не догадался, я с самого начала предположил. Самовозгорание, в которое я не верю, или фосфор. Больше ничего путного я не придумал.
– И ничего не сказал!
– Нужно было подумать, Леша, я ведь мог ошибаться.
– А где его взять, этот сероуглерод? – спросил Митрич.
– Да где угодно. Можно даже получить в домашних условиях – пары серы пропускаются через раскаленные угли, но это трудоемкий процесс. Тем более он ядовитый. В Интернете даже картинка есть, как построить перегонный аппарат. Но лично я купил бы, чтобы не заморачиваться. В аптеке должны продавать. Кстати, это хороший растворитель.
– В аптеке?
– В аптеке. Знающие люди говорят, сероуглеродом можно лечить алкоголизм. Но побочные эффекты таковы, что лично я продолжал бы пить.
– А фосфор?
– Набери в Интернете «купить фосфор» и получишь. Было бы желание, Митрич, сам знаешь.
…Олег Христофорович Монахов, Монах для близких и друзей, был необычной личностью. Даже внешность у него была необычной. Он был толст, большеголов, с длинными русыми волосами, скрученными в узел на затылке, и рыжей окладистой бородой. С голубыми пытливыми глазами, которые видели собеседника насквозь. Бабульки крестились при виде Монаха, принимая за служителя культа, а он серьезно кивал и осенял их мановением длани. Весь его облик излучал такое вселенское спокойствие и безмятежность, что всякому хотелось его потрогать в надежде, что и на него перейдет кусочек благости.
В свое время он практиковал как экстрасенс и целитель, и от страждущих не было отбоя. А еще он преподавал физику в местном педвузе, защитил кандидатскую. Потом перекинулся на психологию, стремясь разобраться в душе как собственной, так и страждущих. Он был женат три раза, и жены его были красавицами и умницами, и дружеские отношения сохранялись после разводов…
Почему был, спросите вы? Почему в прошлом времени? Да по одной-единственной причине – Монах склонен к перемене мест, он бродяга по натуре, он счастлив, когда топает куда-то вдаль с неподъемным рюкзаком за плечами. И рано или поздно в его жизни наступает момент, когда он все бросает – и жен, и насиженное место, и друзей, и летит «за туманом и за запахом тайги» на Алтай, в Монголию или в Непал.
И там, затерявшись в непроходимых дебрях, сидит неподвижно на большом валуне, смотрит на заснеженные горные пики и любуется цветущими белыми и красными олеандрами; в прищуренных его глазах отражается серебряный рассвет. Безмятежность, покой, сложенные на коленях руки… Он похож на Будду.
Бродит по бездорожью, спит в палатке под развесистым кедром или орешником, варит на костре пойманную рыбу, а то и добытого некрупного зверя, погружен в разные интересные мысли. Там классно думается, под развесистым кедром, – ни тебе голосящего мобильника, ни Интернета, ни скайпа, ни докучливого трепливого соседа, ни надоевших звуков цивилизации. Думается о чем, спросите вы? Да мало ли! О судьбах мира, загадках истории, физических парадоксах вроде путешествий во времени и версиях о происхождении человека. Неважно о чем. Можно еще попытаться доказать мысленно теорему какого-нибудь выдающегося математика, до сих пор никем не доказанную. Круг интересов Монаха глобален. Он смотрит на огонь и выстраивает свои мысли в некий логический ряд, пытаясь уразуметь, с нетерпением ожидая пронзительного чувства озарения. Пошумливают верхушки деревьев, всплескивает ручей, посверкивают низкие большие звезды, и воздух хрустально прозрачен, холоден и чист; Монах размышляет. Он уравновешен с окружающей средой – наверное, это называется счастьем.
Он понимает в травах, ему сварить снадобье раз плюнуть. Он чувствует, что нужно смешать… и куда намазать, и сколько принять внутрь, чтобы не простудиться. И спишь после них как младенец, и видишь сны. Правда, потом их трудно, почти невозможно вспомнить – только и остается чувство, что обмыслилась и доказалась некая суперзадача, а вот какая – увы. Зато наутро принявший накануне индивидуум свеж и бодр, мыслительные шестеренки крутятся будь здоров, мысль бежит вприпрыжку, голова варит и всякая проблема, непосильная вчера, разрешается на счет раз-два. И никакого похмельного синдрома.
Иногда, очень редко правда, Монах видит картинки. Всего два раза в жизни, если быть честным. Один раз он увидел себя, вынесенного волнами на берег, бездыханного, разбитого о камни. Это случилось за пару минут примерно до того, как он сунулся форсировать вброд незнакомую речонку. Картинка была настолько жизненна, что он сразу поверил, так как считает себя волхвом и ясновидящим и убежден, что открыто ему нечто, скрытое за семью печатями. Во второй раз он увидел бездыханное тело старой дамы с распущенными седыми волосами и, по его собственным словам, чуть не помер со страху. Ну, да это долгая история, о ней как-нибудь в другой раз[2].
А еще бывают у него предчувствия. Назовите это инстинктом самосохранения, богатым воображением, жизненным опытом… не суть. Как в Молодежном, за минуту до трагического события. Словно ветерок пролетел, оставляя после себя ощущение тоски и жути.
С журналистом Алексеем Генриховичем Добродеевым Монах познакомился, можно сказать, случайно. Что называется, судьба свела. Его попросили разобраться с убийствами девушек по вызову…[3] С какого перепугу, спрашивается? В смысле, с какого перепугу попросили. Он что, частный сыщик? Оперативник в прошлом? Нет, нет и нет. Монах не частный сыщик и не оперативник в прошлом, а попросили его по той простой причине, что пару лет назад он открыл в Сети сайт под названием «Бюро случайных находок» – то ли припадок любви к ближнему накатил, то ли соскучился по людям, скитаясь в тайге, – а только захотелось Монаху новых прекрасных жизненных смыслов. И там он обещал помощь бывалого человека и путешественника под девизом: «Не бывает безвыходных ситуаций» – всем попавшим в некрасивую историю. Нельзя сказать, что от желающих отбоя не было, за весь отчетный период позвонили и попросили о помощи всего-навсего двое. В итоге Монах раскрутил два красивых дела из тех, что называется, резонансных, обскакав оперативников, в результате чего уверовал в свой детективный гений. Нет, не так. Он подтвердил свой детективный гений, в котором никогда не сомневался, просто руки не доходили попробовать.
В ходе расследований Монах вышел на местного журналюгу Лео Глюка, который бойко писал об убийствах, причем напускал туману с намеком, что ему якобы известно нечто. Недолго думая, Монах позвонил журналюге, и встреча состоялась. Вопреки ожиданиям Монаха, Лео Глюк оказался не прытким глистоперым вьюношем, как ему ожидалось, а солидным на вид толстым мужчиной, но при этом подвижным, болтливым и любопытным, к тому же от избытка воображения привирающим по любому поводу и без, как, впрочем, и полагается всякому уважающему себя репортеру скандальной хроники. Звали его Алексей Генрихович Добродеев. Имя Лео Глюк было одним из псевдонимов журналиста.
Они сразу нашли общий язык, заключили союз о творческой взаимопомощи и нарекли свое детище Детективным клубом толстых и красивых любителей пива. Монах был интеллектуальным двигателем и аналитиком, а Добродеев добытчиком информации из самых достоверных источников, так как у него везде все схвачено; он также подставлял плечо и разделял самые странные идеи Монаха… по причине некоторой склонности к аферам и мистификациям. Бар «Тутси» стал явочной квартирой клуба. Тот самый, где барменом добряк Митрич, он же хозяин заведения. Добавьте сюда фирменные бутерброды с маринованным огурчиком и пиво! И девушку, которая поет по субботам. Не дешевую попсу, а настоящие старинные романсы, а также из бардов. И вам сразу станет ясно, что «Тутси» – бар для понимающих: без криков, скандалов и мордобоя, с теплой, почти семейной атмосферой…
– Виталю уже арестовали? – озабоченно спросил Митрич.
– На свободе пока, – сказал Добродеев. – За что его арестовывать?
– Ну как же! Его же театр… да и репутация у него мама не горюй! А если это он придумал с фосфором, для пущего эффекта, а все пошло не так? Нет, я ничего не хочу сказать, но ведь это Виталя!
Добродеев и Монах переглянулись.
– Вряд ли, – сказал Добродеев с сомнением. – Не дурак же он полный…
Фраза осталась неоконченной и повисла в воздухе. Репутация у режиссера была подмоченной и печально известной, и никто не поручился бы, что до такой степени не дурак. Кто способен измерить степень дурости?
– А помнишь, как он ходил по городу босиком в венке и ночной рубашке?
– В тоге, а не рубашке. Тогда их оштрафовали за драку на премьере «Нерона» и сняли спектакль.
– А дудел в трубу на площади?
– Ну да, изображал глашатая, зазывал на «Двенадцатую ночь». Было.
– Можно, я скажу, – встрял в поток воспоминаний Монах. – Фосфор – это серьезно, это смертельный номер. Вербицкий – хулиган и творческая натура, но не идиот, и я никогда не поверю, что он устроил факел из собственного актера. Фосфор – это отвратительная вонючая дрянь, которая воспламеняется на воздухе, и черта с два потушишь. Хорошо, что выскочил тот парень с огнетушителем, а то были бы еще жертвы. Мы с тобой, Леша, в том числе.
– Ты считаешь, что это была не случайность?
– Если я прав и это все-таки фосфор… Господи, да какая случайность! Его нужно было где-то достать, развести, облить… тигриную шкуру или что там… не знаю, рассчитать, чтобы полыхнуло на публике. Понимаешь, что страшно: тот, кто это придумал, устроил зрелище! И какова ирония: идет «проклятая пьеса», а по ходу врезан другой спектакль, тоже проклятый, поставленный психом-убийцей. Театр в театре… кстати, любимый драматургический прием во времена Шекспира.
– Подожди, Христофорыч, ты хочешь сказать, что это заранее спланированное убийство?
– Хотел бы я ошибаться, – мрачно ответил Монах.
– Как-то не верится… – покрутил головой Добродеев. – Кому он мешал?
– Петя Звягильский был хорошим человеком, я знал его лет двадцать. Общительный, сердечный… пил, правда. А голос какой! – Митрич промокнул глаза полотенцем. – Горе-то какое, вот так сгореть почем зря…
– Он не сгорел, – сказал Добродеев, – у него случился обширный инфаркт, и вряд ли он понял, что происходит.
Митрич снова перекрестился.







