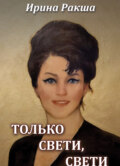Ирина Ракша
Прощай, молодость
II
Так кто же она, о которой писали: Надежда Васильевна Плевицкая, урождённая Винникова (1884-1940), великая русская певица, блиставшая на сценах России, Европы, Америки; основоположница русской песни как жанра, собравшая и впервые исполнившая с высоких подмостков более полутора тысяч народных песен: сибирских и курских, поволжских и воронежских, кубанских и терских казаков?
«За пятнадцать лет, в стужи, дожди и жару, изъездила я за песней великие просторы.
Не сосчитать, сколько десятков тысяч вёрст исколесила, а так и не объездила всей России, да разве её, матушку, измеришь?»
Это была воистину великая женщина, которую Господь Бог одарил с особой щедростью. Он дал ей мудрость, дар певческий и литературный, красоту внешнюю и, что ещё важнее, душевную. Дал горячее, страстное и доброе сердце. «Её любили все, – писал знаменитый Александр Бенуа, – начиная с Государя и до последнего его подданного». Действительно, государь называл её Курским Соловьём и, случалось, плакал, слушая её песни. А царица и дочки любили принимать Надежду Васильевну у себя в гостях. Она даже учила их расшивать полотенца красно-чёрным курским узорным крестиком.
«Государю и Государыне я пела много и с удовольствием. И в Москве, и в Питере, и в Ливадии, и в Царском Селе… Петь им было приятно и легко… Своей простотой и ласковостью Государь обвораживал так, что во время его бесед со мной я переставала волноваться и, порой нарушая этикет, к смущению придворных, начинала даже жестикулировать. Беседа затягивалась. Светские пожилые господа, утомясь ждать, начинали переминаться с ноги на ногу… Слушатель он был внимательный и чуткий. И так горячо любил всё русское!..» «Особенно запомнилась моя первая встреча с Государем… Меня привезли в придворной карете в Царское. Я волновалась безмерно. Добродушный командир полка В. А. Комаров, подавая мне при входе в собрание чудесный букет, заметил моё состояние. «Ну чего вы дрожите? Ну кого боитесь? Что прикажете подать для бодрости?» Я попросила чашку чёрного кофе, рюмку коньяку и следом выпила двадцать капель валерьянки. Но и это не помогло… Вот распахнулась дверь, и я оказалась перед Государем. Это была небольшая гостиная. Только стол, прекрасно убранный бледно-розовыми тюльпанами, отделял меня от Государя. Он сразу догадался о моём волнении и приветствовал тёплым взглядом. И чудо случилось, страх мой прошёл, я вдруг успокоилась… По наружности Государь не был величественным. Рядом сидящие генералы и сановники казались гораздо представительнее. Но я бы, и портретов не зная, не колеблясь, указала именно на скромную особу Его Величества. Из глаз его лучился прекрасный свет царской души, величественный своей простотой и покоряющей скромностью… Выбор песен был предоставлен мне, и я пела то, что было мне по душе. И про горькую долю крестьянскую, и про радости. Порою шутила в песнях, и Царь смеялся. Он очень понимал шутку крестьянскую, незатейную. Я пела много. Он рукоплескал первый и горячо. И последний хлопок был всегда его».
«По воскресеньям к Великой Княгине Ольге Александровне (сестра Государя) приезжали в гости племянницы – дочери Государя. Для маленьких развлечений.
Были там блестящая гвардейская молодёжь, кирасиры, конвойцы… Когда я приехала, Великие Княжны уже были там и пили с приглашёнными чай… Царевны были прелестны всей свежестью юности и простотой.
Ольга Николаевна вспыхивала как зорька, а у меньшей Царевны – Анастасии всё время шалили глаза… Во дворце царили простота и уют… Обаяние и скромность хозяйки были так же велики, как и у её царственного брата Николая… Они вели себя так, чтобы все забывали, что они Высочество…
Я пела, одарена была любовью и цветами, потом начались игры в жмурки, прятки, жгуты – эти милые, всем известные игры… В тот день я впервые встретила там того, чью петлицу украсил один из моих цветков, того, кто стал скоро моим женихом… 22 января 1915 года на полях сражений в Восточной Пруссии пал мой жених смертью храбрых» (воспоминания И. Шнейдера – Плевицкая на фронтах войны, гибель её жениха).
С «великими чудотворцами» (по её выражению) того времени она была не только знакома. С Шаляпиным у Надежды Васильевны сложились особо дружеские, глубокие отношения. И на долгие годы. На фотографии, ей впервые подаренной, он назвал её «мой родной жаворонок» и подписал: «Сердечно любящий Вас Шаляпин».
Её же портрет, как талисман, возил с собой на гастроли. И в России, и в эмиграции.
И прикреплял у зеркала в своей артистической уборной. «В ту зиму С. С. Мамонтов познакомил меня с Ф. И. Шаляпиным, – вспоминала Плевицкая в своих мемуарах. – Не забуду просторный светлый покой великого певца, светлую парчовую мебель, ослепительную скатерть на широком столе и рояль, покрытую светлым дорогим покрывалом. За той роялью он в первый же вечер разучил со мной песню «Помню, я ещё молодушкой была», слышанную им в детстве от матери. А я ему подарила «По Тверской-Ямской». Кроме меня у Шаляпиных в тот вечер были С. С. Мамонтов и знаменитый художник Коровин, который носил после тифа чёрную шёлковую ермолку. Коровин, как сейчас помню, уморительно рассказывал про станового пристава на рыбалке, а Фёдор Иванович в свой черёд рассыпался такими талантливыми пустяками, что я чуть не занемогла от хохота…
На прощание Фёдор Великий охватил меня своей богатырской рукой, да так, что я затерялась где-то у него под мышкой. Сверху, над моей головой, поплыл его незабываемый бархатистый голос, мощный, как соборный орган. «Помогай тебе Бог, родная Надюша. Пой свои песни, что от земли принесла, у меня таких нет, я – слобожанин, не деревенский». И попросту, будто давно со мною дружен, поцеловал меня».
С ней вместе пел и горячо помогал ей в делах, в её становлении великий тенор Леонид Собинов. «…1913 год, помнится, я встречала у Л. В. Собинова.
В тот вечер был бенефис Коралли, и гостиная была наполнена цветами и запахом тубероз. Встреча Нового года прошла весело, среди гостей – все чародеи МХАТ…
За полночь Леонид Витальевич позвонил Шаляпину, поздравил с Новым годом и помирился с ним, до того у них была размолвка. Рядом со мной сидела маленькая, с горячими глазами поэтесса Татьяна Куперник, она писала мне тогда экспромтом стихи… А домой меня провожали И. М. Москвин и В. И. Качалов с женой. В наёмной карете было так весело, что мы, смеясь, долго колесили по улицам и чуть не заблудились в родной Москве…»
Судьба одарила Надежду Васильевну и дружбой с Рахманиновым. Он ей аккомпанировал, гастролировал по Америке, поклонялся её таланту. А её поясной портрет по заказу Рахманинова сделал великий скульптор Конёнков, живший тогда в Америке. Её наставлял и учил сценическому мастерству К. С. Станиславский, однако не раз говоривший актёрам-мхатовцам: «Учитесь жесту у Плевицкой!».
В эмиграции, написав две книги воспоминаний о своей жизни в России: «Дёжкин карагод» и «Мой путь с песней», – именно Плевицкая горько сказала: «Нет, мы не эмигранты, мы изгнанники». Обе эти книги, как и две последующие, написанные в форме дневника, – искренний, проникновенный рассказ.
Первая книга вышла в Берлине в 1925 году с предисловием писателя Алексея Михайловича Ремизова, высоко чтившего её песенный и литературный дар.
Предисловие это – философская притча о Христе и апостоле Петре, написанная в своеобразной манере тогдашних литературных исканий Ремизова. Вторая вышла в свет уже по переезде Плевицкой в Париж в 1930 году на деньги Марка Эйтингона, учёного-психиатра, и посвящена: «Нежно любимому другу М. Я. Эйтингону». Он был сыном знаменитого немецкого врача-миллионера, ученика Фрейда. Как и его брат, он много помогал бедствующей в эмиграции русской культуре (а спаслось, бежало тогда из красной России более трёх миллионов).
Жена Эйтингона, бывшая актриса МХАТа, сердечно дружила с Надеждой Васильевной ещё в России. До 1937 года евреи Эйтингоны жили в Берлине, но с наступлением фашизма были вынуждены бежать в Палестину. И не могли помочь Плевицкой в её последние страшные годы.
«На чужбине, в безмерной тоске по Родине, осталась у меня одна радость: мои тихие думы о прошлом. О том дорогом прошлом, когда сияла несметными богатствами матушка Русь и лелеяла нас в просторах своих…
Далека родимая земля, и наше счастье осталось там. Грозная гроза прогремела, поднялся дикий, тёмный ветер и разметал нас по всему белому свету.
Но унёс с собой каждый странник светлый образ Руси, любви к Отечеству дальнему и благодарную память о прошлом… Светит такой непогасимый образ и у меня…»
В этих книгах искренне-трепетный рассказ певицы о времени и о себе. О деревенском детстве и юности в селе Винникове Курской губернии, где она родилась, в бедной и многодетной (четыре сестры и брат), но счастливой и набожной семье, в избе под соломенной крышей. О православных отце и матери – Василии Авраамовиче и Акулине Фроловне Винниковых (моих прадедах, на могилах которых скульптор Вячеслав Клыков поставил памятный крест. – И. Р.). О её пути сперва в монастырь и церковный клирос, где одарённая девочка всерьёз начала петь, затем неожиданно – в цирк-шапито, затем в киевский балет-варьете, где, испросив благословения у матери, младшая Дёжка-Надюша-Надежда вышла замуж за красавца танцовщика (в прошлом из труппы Нижинского), поляка Эдмонда Плевицкого. С ним она прожила недолго, христианская душа её не вынесла его азартных картёжных игр и иных, непонятных ей греховных увлечений. Однако же он долгие годы (и в эмиграции: Берлине, Париже) всё не оставлял её и старался быть в доброй дружбе. (Порой Надежда Васильевна даже содержала его. Помогала и матери его, и сестре – старой деве, в бедности живших в Варшаве.)
А далее началась её стремительная карьера певицы. Триумф любимицы публики: контракты, приглашения, гастроли. И – конечно же, работа, работа, работа. «В 1911 году я подписала контракт с Д. В. Резниковым и обязалась спеть сорок концертов по всей матушке России. Моё турне началось с Ливадии с половины сентября».
В Москве у Плевицкой было две квартиры. Одну снимала, затем купила собственную. Настасьинский пер., 4, и Дегтярный пер., 15. Обе – в самом центре Москвы, меж Тверской и Дмитровкой (скульптор Клыков незадолго до своей смерти изваял мемориальную доску на стене её дома: певица и Рахманинов у рояля – но доска и по сей день не открыта, стоит в зале Русского центра).
Знаменитый Зимин (директор Оперетты), живший в особняке в Дегтярном, напротив квартиры певицы, что была во втором этаже, писал: «Когда к Плевицкой приезжал Фёдор Шаляпин и они репетировали, пели, играли в четыре руки, под окнами собиралась такая толпа слушателей, что не могли разъехаться экипажи. И приходилось вызывать городовых…» Граммофонные пластинки с её песнями, каждая из которых была откровением и открытием, даже спектаклем, расходились многотысячными тиражами, принося огромные доходы «заводчикам». Её «драматический, ни с кем не сравнимый голос» звучал и в домах бедноты, и в салонах аристократии. И в городе, и в деревне.
«Слава её порой превосходила Шаляпина» (И. Шнейдер). Да, это был настоящий триумф, но одновременно и огромное человеческое испытание. Испытание души вчерашней барышни-крестьянки, вдруг ставшей богатой светской дамой, настоящей звездой русской эстрады, которой поэты и композиторы посвящали стихи, романсы, песни. Стала она теперь и меценатом. Помня свою недавнюю нищету и крепостной статус родителей, не отказывала в помощи никому: «просителям и страдальцам, подлинным и мнимым». За кого-то ручалась, за кого-то ездила хлопотать к начальству. Подавала прошения. И без конца давала благотворительные концерты. Порой могла снять с пальца дорогое кольцо и отдать бедному. Жертвовала на церкви, общества, редакции газет, профсоюзы, просто просителям. «А сколько меня обманывали, обирали, в том числе и прислуга, одному Богу известно. Но я всегда думала: ничего, им, наверно, нужнее. А меня Бог не оставит». Она вела жизнь вечной труженицы, кого-то содержала, кого-то опекала: строила на свои заработки то дом-имение в Винникове, то дом в Курске, то шикарную квартиру в Москве.
Потом писала: «Кажется, будто только вчера скакала босоногая восьмилетняя Дёжка (так звала меня матушка) на палке верхом, пасла у речки гусей. Радовалась новым лаптям, которые сплёл брат Коля из мелко нарезанных лык, чтобы побаловать сестрёнку. А теперь та самая босая Дёжка едет в собственной барской карете и в парчовых туфельках».
Нежданно-негаданно она оказалась в окружении лучших людей России. Это был буквально цвет общества. К примеру весь МХАТ обожал её, пригласить Плевицкую в гости считали за честь. Актёры – Качалов и Москвин, Савина и Кшесинская. Писатели, поэты – Андреев, Куприн, Бунин, Щепкина-Куперник, Есенин, Клюев, Варшавский, Ремизов. Художники – Коровин, Бенуа, Малявин. Музыканты – Андреев, Чернявский. Последний буквально посвятил ей всё своё творчество, аранжировал её песни. «Трёх гениев от земли, трёх самородков подарил нам русский народ: Горький, Шаляпин, Плевицкая» – эти слова были общим местом в прессе тех лет.
«Сценическим воспитанием моим занимался тогда Станиславский… А М. А. Стахович (градоначальник Москвы), заботясь о моём образовании, постоянно присылал мне полезные для чтения книги, – вспоминала певица. – Я добросовестно и любовно читала. Прочла «Анну Каренину» и «Войну и мир», все художественные произведения Толстого. Но после «Разрушение ада и восстановление его» читать Толстого перестала.
Исчез образ доброго художника, величественный, как вершина снеговой горы. И представился мне злой и желчный старик, который и Бога, и Ангелов, и людей, и чертей – всех ругает, все у него злые. Один он справедлив, один он всем судья… Разлюбила Толстого за его недобрую мудрость, за грешный и злой старческий ум…»
В те годы Надежда Васильевна оказала огромное влияние на ход развития русской музыкальной культуры. Народная песня расцвела наряду с романсом, потеснила цыганщину. У певицы учились многие.
Музыканты заимствовали и репертуар, манеру. Хотя она, как писали критики, была «недостижимо мощна и глубинна, а попросту неподражаема». В их числе были и наши современники (дожившие почти до конца века). Вадим Козин, Клавдия Шульженко с восторгом вспоминали, писали о ней. Отдельно надо сказать о Лидии Руслановой (к слову, не все знают, что это псевдоним народной мордовской певицы Липкиной). Так вот, Русланова, ревниво не позволявшая молодым певицам использовать песни из своего репертуара, сама почти полностью заимствовала репертуар умышленно «забытой» ею и к тому моменту уже погубленной во Франции эмигрантки Плевицкой. Хотя сама тайно (в годы сталинского террора было небезопасно вспоминать эмигрантку, да и сама она с мужем-генералом отсидела в концлагере) прослушивала, «прорабатывала», буквально штудировала записи Плевицкой на дореволюционных пластинках, которые некогда были в каждом доме. Пыталась даже копировать её манеру, её модуляции, интонации. Но уж очень огрубляла, кричала, «выпрямляла» каждую песню. Немыслимо «перекраивать на себя, как одёжку» чужой Божий дар, великую душу, судьбу, талант. Слава Плевицкой в России начала века была огромна. Ей стоя аплодировали переполненные залы театров, консерваторий, собраний.
Она знала толпы поклонников и море цветов. После концертов в экипаж её впрягались восторженные почитатели. Однако ей, православной душе, важно было другое. «С благодарностью вспоминаю я моих добрых друзей, которые не только слушали мои скромные песни, но помогали жить и, можно сказать, воспитывали меня… Лужский и Вишневский, Москвин и Качалов, Стахович, Мамонтов, Ванда Ландовская, Станиславский – все волшебники московские. Помню, как после моей песни Вишневский сказал Станиславскому: «Ты заметил, у Плевицкой расширяются зрачки, когда поёт?» – «Это значит, душа горит. Это и есть талант».
Станиславский дал мне тогда один хороший совет: «Когда у вас нет настроения петь – не старайтесь насиловать себя. В таком случае лучше смотреть на лицо, которое в публике больше всех вам понравилось. Ему и пойте. Будто в зале, кроме вас и него, нет никого». Я часто пользуюсь этим советом. И всегда вспоминаю образ московского мага в ослепительной седине, который, может быть, больше всего вдохновляет меня… Помню, как они уговаривали меня оставить мысль об опере, куда меня одно время очень влекло…» (Плевицкая тепло и много вспоминает о МХАТе, интересно, есть ли в музее театра её мемуары? Вспоминают ли о ней на лекциях в школе МХАТа? Помнят ли о ней актёры? Или слыхом не слыхивали? А ведь Станиславский и труппа дружили с ней, сердечно встречались и в Европе, когда она была уже в эмиграции…)
А вот что писал о ней знаменитый Александр Бенуа – автор либретто «Петрушки» Стравинского (это лишь отрывок): «Идея этого номера (имеется в виду «Ухарь-купец») пришла мне в голову, когда я услышал популярную песенку Надежды Плевицкой, которая… в те дни приводила в восторг всех – от монарха до последнего его подданного – своей типично русской красотой и яркостью таланта…» Популярнейший критик А. Кугель, постоянно следивший за ростом её дарования, писал: «Она стояла на огромной эстраде, близко от меня… в белом платье, облегавшем стройную фигуру, с начёсанными вокруг всей головы густыми чёрными волосами, блестящими глазами, красивым ртом, широкими скулами и круто вздёрнутыми ноздрями… Она пела… не знаю, может быть, и не пела, а сказывала.
Глаза меняли выражение, движения рта и ноздрей были – что раскрытая книга… Говор Плевицкой – самый чистый, самый звонкий, самый очаровательный русский говор… У неё странный оригинальный жест, какого ни у кого не увидишь: она заламывает пальцы, сцепивши кисти рук, и пальцы эти живут, говорят, страдают, шутят, смеются…»
Великий скульптор Конёнков в Америке, в эмиграции, создал её великолепный поясной портрет (ныне находящийся в Москве, в музее Конёнкова на Тверской), где эти пальцы, как и прежде, «живут, страдают, смеются». Тогда в Америке, приехав к Конёнкову в мастерскую и внимательно осмотрев скульптуру, Рахманинов с восторгом сказал: «Лучше ручку сделать было нельзя».
Да, её любили. Царский двор и простолюдины с окраин, селяне и круг высшей дворянской и военной знати: Шуваловы, Бенкендорфы, Трубецкие, Морозовы. «Однажды на вечере у Половцева в присутствии Великих князей я не удержалась и на исходе вечера чуть прошлась в пляске под песни приглашённых цыган, – писала Плевицкая. – Через несколько дней на одном из вечеров у Великой княгини Марии Павловны князь Ю. И. Трубецкой, покидая по делам дворец до конца моего концерта, взял меня за руку, как маленького ребёнка, подвёл к своей жене княгине Марии Александровне и сказал: «Мэри, я ухожу и оставляю её на твоё попечение. Смотри за ней, чтобы она опять каких-нибудь глупостей не наделала». Глупостью, по его мнению, была моя цыганская пляска. Он справедливо полагал, что народная певица не должна носиться в цыганщине… А стоило мне, бывало, прихворнуть, как друзья спешили ко мне со своими услугами. Квартира наполнялась цветами. Даже и хворать тогда было приятно».
Стала она и драматической актрисой раннего немого кинематографа. О её съёмках в главных ролях фильмов «Власть тьмы» (по Островскому), «Крик жизни», которые частично проходили в её усадьбе Винниково, интересно пишет режиссёр В. Гардин. «Как трепетны эти жемчужины немого кино! Как непостижимо видеть на фоне курского села живую Надежду Васильевну – статную, улыбчивую, пластичную.
У дома на террасе или в посаженной ею липовой аллее. Видеть её с любовью ухоженное хозяйство, купленную, обустроенную ею усадьбу, просторный дом с террасой, где она всегда принимала столько гостей, где не смолкал рояль, цветочные клумбы, её любимую верховую лошадь и чудесный берёзовый «Мороскин лес».
Собственно, в те дореволюционные годы в прессе о ней писали постоянно. О съёмках, о каждой гастроли и каждой новой песне, о её туалетах, о каждой встрече (и скрыться от надоедливых журналистов она могла только в своей усадьбе под Курском). Порой вокруг её имени разгорались и сплетни, и споры. Особенно среди певиц и музыкальных критиков. Ей и завидовали. Её и третировали. Ею и восторгались.
Вот, например, заголовки газетных статей: «Певица удали и печали», «Шаляпин и Плевицкая», «Концерт на пути из Одессы в Ригу», «Плевицкая и гибель Германии». А её постоянные благотворительные концерты! В пользу семей погибших… в пользу сирот, педагогов и даже Общества деятелей периодической печати… Вот лишь малая часть песен, найденных ею, возрождённых, впервые включённых в репертуар, «кои до неё на сцене никогда не исполнялись».
А нынче кажутся нам извечной принадлежностью русской культуры. Они – самые разные, озорные и могуче-трагические, сердечные и раздольные: «Окрасился месяц багрянцем», «Дубинушка», «Есть на Волге утёс», «Из-за острова на стрежень», «Среди долины ровныя», «По диким степям Забайкалья», «Калинка», «Всю-то я вселенную проехал», «Помню, я ещё молодушкой была», «Ухарь-купец», «Лучинушка», «Славное море, священный Байкал», «Варяг», «Тихо тащится лошадка», «Пряха», «Во пиру ль я была», «Ямщик, не гони лошадей», «Липа вековая»… Кстати, она и сама сочиняла песни. И слова, и музыку. «Золотым кольцом сковали», «Величальная», «Что ты, барин, щуришь глазки», «Русачка», «Русь родная» и др. Часто авторские песни Плевицкой современные исполнительницы, не утруждая себя знанием, именуют со сцены народными. (Так, к слову сказать, случилось в истории нашей культуры, что великую песню военных лет «На позиции девушка провожала бойца» приписывают разным именитым авторам или просто народу. А создала её и впервые исполнила перед бойцами скромная фронтовая санитарка.)
Разглядывая сотни клавиров Плевицкой, её фотографии, читая на пожелтевших страницах газет статьи о «яркой звезде, чьей судьбы хватило бы на пятерых», размышляя о её многотрудной жизни и страшной гибели, я порой смотрю на ореховую шкатулку, доставшуюся мне по наследству.
Конечно, она обветшала, крышка покрылась трещинками, но эта вещь, как и раньше, прекрасна, ибо вместила и сохранила обаяние канувших в Лету времён… Я даже могу представить, как шкатулка эта покупалась Надеждой Васильевной в модном дорогом магазине на Кузнецком.
Как, выбирая, она провела тёплой ладонью красивой руки по крышке, как осмотрела розово-стёганое нутро. Потом, вероятно, шкатулка стояла в её спальне, на туалетном столике, в квартире на Тверской (в Дегтярном переулке или Настасьинском). И зеркальце, что внутри, не раз отражало белокожее, породистое лицо хозяйки – то приветливое, то озабоченное, то озорное, а то задумчивое. И уж, конечно, шкатулка эта, храня ароматы прошлого, сберегла память о звуках её волшебного голоса. Сберегла под ключиком дорогие сердцу заветные мелочи, любимые строки писем. Может, сберегла бы и золотую медаль, и царскую награду – орден Святой Анны с двадцатью бриллиантами – за участие в боях на фронтах Первой мировой войны, но украли всё в революцию. Исчезли письма и фотографии любимых людей: Шаляпина, матери, Государя и Царевен, погибшего жениха – поручика Шангина и его рождённого вскоре (внебрачного) сына, выращенного уже в СССР её сестрой Машей, Марией Васильевной Винниковой, когда Плевицкая «ненадолго» (думали, на год, на два) отбыла в эмиграцию… О каждой вещи из этой шкатулки можно было бы написать отдельно, да и сам путь этой шкатулки через многие руки и почти через столетие ко мне – загадочная и драматическая история, достойная отдельного рассказа.