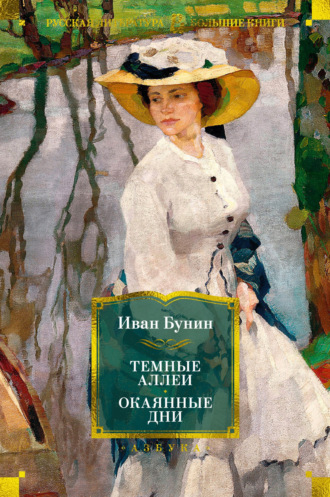
Иван Бунин
Темные аллеи. Окаянные дни
– Ну теперь почитайте вы…
Она разогнулась, под тонкой блузкой обозначились точки ее грудей, отложила шитье и, опять наклонясь, низко опустив свою странную и чудесную голову и показывая мне затылок и начало плеча, положила книгу на колени, стала читать скорым и неверным голосом. Я глядел на ее руки, на колени под книгой, изнемогая от неистовой любви к ним и звуку ее голоса. В разных местах предвечернего сада вскрикивали на лету иволги, против нас высоко висел, прижавшись к стволу сосны, одиноко росшей в аллее среди берез, красновато-серый дятел…
– Натали, какой удивительный цвет волос у вас! А коса немного темнее, цвета спелой кукурузы…
Она продолжала читать.
– Натали, дятел, посмотрите!
Она взглянула вверх:
– Да, да, я его уже видела, и нынче видела, и вчера видела… Не мешайте читать.
Я помолчал, потом снова:
– Посмотрите, как это похоже на засохших серых червячков.
– Что, где?
Я указал ей на скамью между нами, на засохший птичий известковый помет:
– Правда?
И взял и сжал ее руку, бормоча и смеясь от счастья:
– Натали, Натали!
Она тихо и долго поглядела на меня, потом выговорила:
– Но вы же любите Соню!
Я покраснел, как пойманный мошенник, но с такой горячей поспешностью отрекся от Сони, что она даже слегка раскрыла губы:
– Это неправда?
– Неправда, неправда! Я ее очень люблю, но как сестру, ведь мы знаем друг друга с детства!
IV
На другой день она не вышла ни утром, ни к обеду.
– Соня, что с Натали? – спросил улан, и Соня ответила, нехорошо засмеявшись:
– Лежит все утро в распашонке, нечесаная, по лицу видно, что ревела, принесли ей кофе – не допила… Что такое? «Голова болит». Уж не влюбилась ли!
– Очень просто, – сказал улан бодро, с одобрительным намеком глянув на меня, но отрицая головой.
Вышла Натали только к вечернему чаю, но вошла на балкон легко и живо, улыбнулась мне приветливо и как будто чуть виновато, удивив меня этой живостью, улыбкой и некоторой новой нарядностью: волосы убраны туго, спереди немного подвиты, волнисто тронуты щипцами, платье другое, из чего-то зеленого, цельное, очень простое и очень ловкое, особенно в перехвате на талии, туфельки черные, на высоких каблучках, – я внутренне ахнул от нового восторга. Я, сидя на балконе, просматривал «Исторический вестник», несколько книг которого дал мне улан, когда она вдруг вошла с этой живостью и несколько смущенной приветливостью:
– Добрый вечер. Идем чай пить. Сегодня за самоваром я. Соня нездорова.
– Как? То вы, то она?
– У меня просто болела голова с утра. Стыдно сказать, только сейчас привела себя в порядок…
– До чего удивительно это зеленое при ваших глазах и волосах! – сказал я. И вдруг спросил, краснея: – Вы вчера мне поверили?
Она тоже покраснела – тонко и ало – и отвернулась:
– Не сразу, не совсем. Потом вдруг сообразила, что не имею основания не верить вам… и что, в сущности, какое же мне дело до ваших с Соней чувств? Но идем…
К ужину вышла и Соня и улучила минуту сказать мне:
– Я заболела. У меня это проходит всегда очень тяжело, дней пять лежу. Нынче еще могла выйти, а завтра уж нет. Веди себя умно без меня. Я тебя страшно люблю и ужасно ревную.
– Неужто даже не заглянешь нынче ко мне?
– Ты глуп!
Это было и счастье и несчастье: пять дней полной свободы с Натали и пять дней не видать по ночам у себя Сони!
С неделю правила домом, всем распоряжалась, ходила в белом передничке через двор в поварскую Натали – я никогда еще не видал ее такой деловитой, видно было, что роль заместительницы Сони и заботливой хозяйки доставляет ей большое удовольствие и что она как будто отдыхает от тайной внимательности к тому, как мы с Соней говорим, переглядываемся. Все эти дни, пережив за обедом сперва тревогу, все ли хорошо, а потом довольство, что все хорошо и старик-повар и Христя, хохлушка-горничная, приносили и подавали вовремя, не раздражая улана, она после обеда уходила к Соне, куда меня не пускали, и оставалась у ней до вечернего чая, а после ужина весь вечер. Бывать со мной наедине она, очевидно, избегала, и я недоумевал, скучал и страдал в одиночестве. Почему стала ласкова, а избегает? Боится Сони или себя, своего чувства ко мне? И страстно хотелось верить, что себя, и я упивался все крепнущей мечтой: не навек же я связан с Соней, не век же мне – да и Натали – гостить тут, через неделю-другую я все равно должен буду уехать – и тогда конец моим мучениям… найду предлог поехать познакомиться со Станкевичами, как только Натали вернется домой… Уехать от Сони, да еще с обманом, с этой тайной мечтой о Натали, с надеждой на ее любовь и руку, будет, конечно, очень больно, – разве только с одной страстью целую я Соню, разве я не люблю и ее? – но что же делать, этого, рано или поздно, все равно не избежишь… И непрестанно думая так, в непрестанном душевном волнении, в ожидании чего-то, я старался вести себя при встречах с Натали как можно сдержаннее, милее – терпеть, терпеть до поры до времени. Я страдал, скучал, – как нарочно, дня три шел дождь, мерно бежал, стучал тысячами лапок по крыше, в доме было сумрачно, на потолке и на лампе в столовой спали мухи, – но крепился, по часам сидел иногда в кабинете улана, слушая его всякие рассказы…
Соня начала выходить сперва в халатике, на час, на два, с томной улыбкой к своей слабости, ложилась на балконе в полотняное кресло и, к моему ужасу, говорила со мной капризно и не в меру нежно, не стесняясь присутствием Натали:
– Посиди возле меня, Витик, мне больно, мне грустно, расскажи что-нибудь смешное… Месяц-то и правда обмывался, да уж обмылся, кажется; распогодилось, и как сладко пахнет цветами…
Я, втайне раздражаясь, отвечал:
– Раз цветы сильно пахнут, будет опять обмываться.
Она била меня по руке:
– Не смей возражать больной!
Наконец стала выходить и к обеду, и к вечернему чаю, только еще бледная и приказывая подавать себе кресло. Но к ужину и на балкон после ужина еще не выходила. И раз Натали сказала мне после вечернего чая, когда она ушла к себе и Христя понесла со стола самовар в поварскую:
– Соня сердится, что я все сижу возле нее, что вы все один и один. Она еще не совсем поправилась, а вы без нее скучаете.
– Я скучаю только без вас, – ответил я. – Когда вас нет…
Она изменилась в лице, но справилась, с усилием улыбнулась:
– Но мы же условились не ссориться больше… Послушайте лучше вот что: вы засиделись дома, пойдите погуляйте до ужина, а потом я посижу с вами в саду, предсказания насчет месяца, слава Богу, не сбылись, ночь будет прекрасная…
– Соне меня жаль, а вам? Нисколько?
– Страшно жаль, – ответила она и неловко засмеялась, ставя на поднос чайную посуду. – Но, слава Богу, Соня уже здорова, скоро не будете скучать…
При словах «а вечером я посижу с вами» сердце у меня сжалось сладко и таинственно, но я тотчас подумал: да нет! это просто только ласковое слово! Я пошел к себе и долго лежал, глядя в потолок. Наконец встал, взял в прихожей картуз и чью-то палку и бессознательно вышел из усадьбы на широкий шлях, пролегавший между усадьбой и хохлацкой деревней немного выше ее, на степном голом взгорье. Шлях вел в пустые вечерние поля. Всюду было холмисто, но просторно, далеко видно. Слева от меня лежала речная низменность, за ней слегка поднимались к горизонту тоже пустые поля, там только что село солнце, горел закат. Справа краснел против него правильный ряд белых одинаковых хат точно вымершей деревни, и я с тоской смотрел то на закат, то на них. Когда повернул назад, навстречу тянуло то теплым, то почти горячим ветром и уже светил в небе молодой месяц, не суливший ничего доброго: блестела одна половина его, но, как прозрачная паутина, видна была и другая, а все вместе напоминало желудь.
За ужином – ужинали на этот раз тоже в саду, в доме было жарко – я сказал улану:
– Дядя, что вы думаете о погоде? Мне кажется, завтра будет дождь.
– Почему, мой друг?
– Я только что ходил в поле, с грустью думал, что скоро покину вас…
– Это почему?
Натали тоже вскинула на меня глаза:
– Вы собираетесь уезжать?
Я притворно засмеялся:
– Не могу же я…
Улан особенно энергично закачал головой, на этот раз кстати:
– Вздор, вздор! Папа и мама отлично могут потерпеть разлуку с тобой. Раньше двух недель я тебя не отпущу. Да вот и она не отпустит.
– Я не имею никаких прав на Виталия Петровича, – сказала Натали.
Я жалобно воскликнул:
– Дядя, запретите Натали называть меня так!
Улан хлопнул ладонью по столу.
– Запрещаю. И довольно болтать о твоем отъезде. Вот насчет дождя ты прав, вполне возможно, что погода опять испортится.
– В поле было уже слишком чисто, ясно, – сказал я. – И месяц очень чист наполовину и похож на желудь, и дуло с юга. И вот, видите, уже находят облака…
Улан повернулся, посмотрел в сад, где то мерк, то разгорался лунный свет:
– Из тебя, Виталий, выйдет второй Брюс…
В десятом часу она вышла на балкон, где я сидел, ожидая ее, в унынии думая: все это вздор, если у нее и есть какие-то чувства ко мне, то совсем несерьезные, переменчивые, мимолетные… Молодой месяц, тоже чистый, без паутины, играл все выше и ярче в грудах все больше скоплявшихся облаков, дымчато-белых, величаво загромождавших небо, и когда выходил из-за них своей белой половиной, похожей на человеческое лицо в профиль, яркое и мертвенно-бледное, все озарялось, заливалось фосфорическим светом. Вдруг я оглянулся, почувствовал что-то: Натали стояла на пороге, заложив руки за спину, молча глядя на меня. Я встал, она безразлично спросила:
– Вы еще не спите?
– Но вы же мне сказали…
– Простите, я очень устала нынче. Пройдемтесь по аллее, и я пойду спать.
Я пошел за ней, она приостановилась на ступеньке балкона, глядя на вершины сада, из-за которых уже клубами туч подымались облака, подергиваясь, сверкая беззвучными молниями. Потом вошла под длинный прозрачный навес березовой аллеи, в пестроту, в пятна света и тени. Равняясь с ней, я сказал, чтобы сказать что-нибудь:
– Как волшебно блестят вдали березы. Нет ничего страннее и прекраснее внутренности леса в лунную ночь и этого белого шелкового блеска березовых стволов в его глубине…
Она остановилась, в упор мне чернея в сумраке глазами:
– Вы правда уезжаете?
– Да, пора.
– Но почему так сразу и скоро? Я не скрываюсь: вы меня давеча поразили, сказав, что уезжаете.
– Натали, можно мне приехать представиться вашим, когда вы вернетесь домой?
Она промолчала. Я взял ее руки, поцеловал, весь замирая, правую.
– Натали…
– Да, да, я вас люблю, – сказала она поспешно и невыразительно и пошла назад к дому. Я лунатически пошел за ней.
– Уезжайте завтра же, – сказала она на ходу, не оборачиваясь. – Я вернусь домой через несколько дней.
V
Войдя к себе, я, не зажигая свечи, сел на диван и застыл, оцепенел в том страшном и дивном, что так внезапно и нежданно совершилось в моей жизни. Я сидел, потеряв всякое представление о месте и времени. Комната и сад уже потонули в темноте от туч, в саду, за открытыми окнами, все шумело, трепетало, и меня все чаще и ярче озаряло быстрым и в ту же секунду исчезающим зелено-голубым пламенем. Быстрота и сила этого безгромного света все увеличивались, потом комната озарилась вдруг до неправдоподобной видимости, на меня понесло свежим ветром и таким шумом сада, точно его охватил ужас: вот оно, загорается земля и небо! Я вскочил, с трудом затворил одно за другим окна, ловя их рамы, преодолевая трепавший меня ветер, и на цыпочках побежал по темным коридорам в столовую: мне, казалось бы, было в тот час не до раскрытых окон в столовой и гостиной, где буря могла перебить стекла, но я все-таки побежал и даже с большой озабоченностью. Все окна в столовой и гостиной оказались закрыты – я увидал это при том зелено-голубом озарении, в цвете, яркости которого было поистине что-то неземное, сразу раскрывавшееся всюду, точно быстрые глаза, и делавшее огромными и видимыми до последнего переплета все оконные рамы, а затем тотчас же затоплявшееся густым мраком, на секунду оставлявшее в ослепшем зрении след чего-то жестяного, красного. Когда же я быстро, точно боясь, не случилось ли чего там без меня, вошел в свою комнату, из темноты послышался сердитый шепот:
– Где ты был? Мне страшно, зажги скорей огонь…
Я чиркнул спичкой и увидел сидевшую на диване Соню в одной ночной рубашке, в туфлях на босу ногу.
– Или нет, нет, не надо, – поспешно сказала она, – иди скорей ко мне, обними меня, я боюсь…
Я покорно сел и обнял ее за холодные плечи. Она зашептала:
– Ну поцелуй же меня, поцелуй, возьми совсем, я целую неделю не была с тобой!
И с силой откинула меня и себя на подушки дивана.
В ту же минуту на пороге растворенной двери метнулась Натали в своей распашонке, со свечой в руке. Она сразу увидала нас, но все-таки бессознательно крикнула:
– Соня, где ты? Я страшно боюсь…
И тотчас исчезла. Соня кинулась вслед за ней.
VI
Через год она вышла за Мещерского. Венчали ее в его Благодатном при пустой церкви – и мы и прочие родные и знакомые с его и с ее стороны не получили приглашения на свадьбу. И обычных после свадьбы визитов молодые не делали, тотчас уехали в Крым.
В январе следующего года, в Татьянин день, был бал воронежских студентов в Благородном собрании в Воронеже. Я, уже московский студент, проводил Святки дома, в деревне, и приехал в тот вечер в Воронеж. Поезд пришел весь белый, дымящийся снегом от вьюги, по дороге со станции в город, пока извозчичьи сани несли меня в Дворянскую гостиницу, едва видны были мелькавшие сквозь вьюгу огни фонарей. Но после деревни эта городская вьюга и городские огни возбуждали, сулили близкое удовольствие войти в теплый, слишком даже теплый номер старой губернской гостиницы, спросить самовар и начать переодеваться, готовиться к долгой бальной ночи, студенческому пьянству до рассвета. За то время, что прошло с той страшной ночи у Черкасовых, а потом с ее замужества, я постепенно оправился, – во всяком случае, привык к тому состоянию душевнобольного человека, которым втайне был, и внешне жил, как все.
Когда я приехал, бал только что начался, но уже полны были все прибывающим народом парадная лестница и площадка на ней, а из главной залы, с ее хор, все покрывала, заглушала полковая музыка, звучно гремя печально-торжествующими тактами вальса. Еще свежий с мороза, в новеньком мундире и от этого не в меру изысканно, с излишней вежливостью пробираясь в толпе по красному ковру лестницы, я поднялся на площадку, вошел в особенно густую и уже горячую толпу, стеснившуюся перед дверями залы, и зачем-то стал пробираться дальше так настойчиво, что меня приняли, верно, за распорядителя, имеющего в зале неотложное дело. И я наконец пробрался, остановился на пороге, слушая разливы и раскаты оркестра над самой моей головой, глядя на сверкающую зыбь люстр и на десятки пар, разнообразно мелькавших под ними в вальсе, – и вдруг подался назад: из этой кружившейся толпы внезапно выделилась для меня одна пара, быстрыми и ловкими глиссадами летевшая среди всех прочих все ближе ко мне. Я отшатнулся, глядя, как он, несколько сутулый в вальсировании, велик, дороден, весь черен блестящими черными волосами и фраком и легок той легкостью, которой удивляют в танцах некоторые грузные люди, и как высока она в бальной высокой прическе, в бальном белом платье и стройных золотых туфельках, кружившаяся несколько откинувшись, опустив глаза, положив на его плечо руку в белой перчатке до локтя таким изгибом, который делал руку похожей на шею лебедя. На мгновение черные ресницы ее взмахнулись прямо на меня, чернота глаз сверкнула совсем близко, но тут он, со старательностью грузного человека, ловко скользнув на лакированных носках, круто повернул ее, губы ее приоткрылись вздохом на повороте, серебристо мелькнул подол платья, и они, удаляясь, пошли глиссадами обратно. Я опять протиснулся в толпу на площадке, выбрался из толпы, постоял… В двери залы наискось против меня, еще совсем пустой и прохладной, видны были стоявшие в праздном ожидании за буфетом с шампанским две курсистки в малороссийских нарядах – хорошенькая блондинка и сухая, темноликая красавица казачка, чуть не вдвое выше ее ростом. Я вошел, с поклоном протянул сторублевую бумажку. Они, столкнувшись головами и засмеявшись, вытащили под стойкой из ведра со льдом тяжелую бутылку и нерешительно переглянулись – откупоренных бутылок еще не было. Я зашел за стойку и через минуту молодецки хлопнул пробкой. Потом весело предложил им по бокалу – Gaudeamus igitur![18] – остальное допил бокал за бокалом один. Они смотрели на меня сперва с удивлением, потом с жалостью:
– Ой, но вы и так страшно бледный!
Я допил и тотчас уехал. В гостинице спросил в номер бутылку кавказского коньяку и стал пить чайными чашками, в надежде, что у меня разорвется сердце…
И прошло еще полтора года. И однажды в конце мая, когда я опять приехал из Москвы домой, нарочный со станции привез ее телеграмму из Благодатного: «Сегодня утром Алексей Николаевич скоропостижно скончался от удара». Отец перекрестился и сказал:
– Царство небесное. Какой ужас. Прости меня, Боже, никогда не любил я его, но все-таки это ужасно. Ведь ему еще и сорока не было. И ее ужасно жаль – вдова в такие годы, с ребенком на руках… Никогда ее не видал, – он был так мил, что даже ни разу не привез ее ко мне, – но, говорят, очаровательна. Как же теперь быть? Ни я, ни мама ехать при нашей старости за полтораста верст, конечно, не можем, надо ехать тебе…
Отказаться было нельзя, – в силу чего я мог отказаться? Да я и не мог бы отказаться в том полубезумии, в которое внезапно опять повергла меня эта неожиданная весть. Я одно знал: я ее увижу! Предлог для встречи был страшный, но законный.
Мы послали ответную телеграмму, и на другой день, майской вечерней зарею, лошади из Благодатного в полчаса доставили меня со станции в усадьбу. Подъезжая к ней по взгорью вдоль заливных лугов, я еще издали увидал, что по западной стене дома, обращенной к еще светлому закату, все окна в зале закрыты ставнями, и содрогнулся от страшной мысли: за ними лежал он и была она! Во дворе, густо заросшем молодой травой, погромыхивали бубенчиками возле каретного сарая чьи-то две тройки, но не было ни души, кроме кучеров на козлах, – и приезжие и дворня уже стояли в доме на панихиде. Всюду была тишина деревенской майской зари, весенняя чистота, свежесть и новизна всего – полевого и речного воздуха, этой молодой густой травы во дворе, густого цветущего сада, надвинувшегося на дом сзади и с южной стороны, а на низком парадном крыльце, у настежь раскрытых в сени дверей, стоймя прислонена была к стене большая желтая глазетовая крышка гроба. В тонком холодке вечернего воздуха сильно пахло сладким цветом груш, молочно белевших своей белой густотой в юго-восточной части сада на ровном и от этой млечности матовом небосклоне, где горел один розовый Юпитер. И молодость, красота всего этого, и мысль о ее красоте и молодости и о том, что она любила меня когда-то, вдруг так разорвали мне сердце скорбью, счастьем и потребностью любви, что, выскочив у крыльца из коляски, я почувствовал себя точно перед пропастью – как вступить в этот дом, вновь увидать ее лицом к лицу после трех лет разлуки и уже вдовой, матерью! И все же я вошел в сумрак и ладан этой страшной залы, испещренной желтыми свечными огоньками, в черноту стоявших с этими огоньками перед гробом, наискось возвышавшимся своим возглавием в передний угол, озаренный сверху большой красной лампадой перед золотыми ризами икон, а внизу серебряным текучим блеском трех высоких церковных свечей, – вошел под возгласы и пение священнослужителей, с каждением и поклонами обходивших гроб, и тотчас опустил голову, чтобы не видеть желтой парчи на гробе и лица покойника, пуще же всего боясь увидеть ее. Кто-то подал мне зажженную свечу, я взял и стал держать ее, чувствуя, как она, дрожа, греет и освещает мне лицо, стянутое бледностью, и с тупой покорностью слушая эти возгласы и бряцание кадила, исподлобья видя плывущий к потолку торжественно и приторно пахнущий дым, и вдруг, подняв лицо, все-таки увидал ее, – впереди всех, в трауре, со свечой в руке, озарявшей ее щеку и золотистость волос, – и уже как от иконы не мог оторвать от нее глаз. Когда все смолкло, запахло потушенными свечами и все осторожно задвигались и пошли целовать ее руку, я ждал, чтобы подойти последним. И, подойдя, с ужасом восторга взглянул на иноческую стройность ее черного платья, делавшего ее особенно непорочной, на чистую, молодую красоту лица, ресниц и глаз, при виде меня опустившихся, низко, низко поклонился, целуя ее руку, сказал едва слышным голосом все, что должен был сказать, следуя приличию и родству, и попросил разрешения тотчас же уйти и ночевать в саду, в той старинной ротонде, в которой я ночевал еще гимназистом, приезжая в Благодатное, – там была спальня Мещерского на жаркие летние ночи. Она ответила, не поднимая глаз:
– Я сейчас распоряжусь, чтобы вас проводили туда и подали вам ужин.
Утром, после отпевания и погребения, я немедля уехал.
Прощаясь, мы опять обменялись только несколькими словами и опять не глядели друг другу в глаза.
VII
Я кончил курс, потерял вскоре после того почти одновременно отца и мать, поселился в деревне, хозяйствовал, сошелся с крестьянской сиротой Гашей, выросшей у нас в доме и служившей в комнатах моей матери… Теперь она, вместе с Иваном Лукичом, нашим бывшим дворовым, седым до зелени стариком с большими лопатками, служила мне. Вид она имела еще полудетский – маленькая, худенькая, черноволосая, с ничего не выражающими глазами цвета сажи, загадочно молчаливая, будто ко всему безучастная и настолько вся темная тонкой кожей, что отец когда-то говорил: «Вот, верно, такая была Агарь». Мила она была мне бесконечно, я любил носить ее на руках, целуя; я думал: «Вот и все, что осталось мне в жизни!» И она, казалось, понимала, что я думаю. Когда она родила, – маленького, черненького мальчика, – и перестала служить, поселилась в моей прежней детской, я хотел повенчаться с нею. Она ответила:
– Нет, мне этого не нужно, мне только стыдно будет перед всеми, какая же я барыня! А вам зачем? Вы меня тогда еще скорее разлюбите. Вам надо поехать в Москву, а то вы совсем соскучитесь со мной. А я теперь скучать не буду, – сказала она, глядя на ребенка, который на руках у нее сосал грудь. – Поезжайте, поживите в свое удовольствие, только одно помните: если влюбитесь в кого как следует и жениться задумаете, ни минутки не помедлю, утоплюсь вот вместе с ним.
Я посмотрел на нее – ей не верить было невозможно. И поник головой: да, а мне ведь всего двадцать шесть лет… Влюбиться, жениться – этого я и представить себе не мог, но слова Гаши еще раз напомнили мне о моей конченой жизни.
Ранней весной я уехал за границу и провел там месяца четыре. Возвращаясь в конце июня через Москву домой, думал так: проживу осень в деревне, а на зиму опять куда-нибудь уеду. По дороге из Москвы в Тулу спокойно грустил: вот опять я дома, а зачем? Вспомнил Натали – и подумал: да, та любовь «до гроба», которую насмешливо предрекала мне Соня, существует; только я уже привык к ней, как привыкает кто-нибудь с годами к тому, что у него отрезали, например, руку или ногу… И, сидя на вокзале в Туле в ожидании пересадки, вдруг послал телеграмму: «Еду из Москвы мимо вас, буду на вашей станции в девять вечера, позвольте заехать, узнать, как вы поживаете».
Она встретила меня на крыльце, – сзади нее светила лампой горничная, – и с полуулыбкой протянула мне обе руки:
– Я страшно рада!
– Как это ни странно, вы еще немного выросли, – сказал я, целуя и чувствуя их уже с мучением. И взглянул на нее на всю при свете лампы, которую приподняла горничная и вокруг стекла которой, в мягком после дождя воздухе, кружились мелкие розовые бабочки: черные глаза смотрели теперь тверже, увереннее, вся она была уже в полном расцвете молодой женской красоты, стройная, скромно нарядная, в платье из зеленой чесучи.
– Да, я все еще расту, – ответила она, грустно улыбаясь.
В зале по-прежнему висела в переднем углу большая красная лампада перед старыми золотыми иконами, только не зажженная. Я поспешил отвести глаза от этого угла и прошел за ней в столовую. Там на блестящей скатерти стоял чайник на спиртовке, блестела тонкая чайная посуда. Горничная принесла холодную телятину, пикули, графинчик с водкой, бутылку лафита. Она взялась за чайник:
– Я не ужинаю, выпью только чаю, но вы сперва покушайте… Вы из Москвы? Почему? Что ж там делать летом?
– Возвращаюсь из Парижа.
– Вот как! И долго там пробыли? Ах, если б я могла поехать куда-нибудь! Но ведь моей девочке всего четвертый год… Вы, говорят, усердно хозяйствуете?
Я выпил рюмку водки, не закусывая, и попросил позволения курить.
– Ах, пожалуйста!
Я закурил и сказал:
– Натали, не нужно вам быть со мной светски любезной, не обращайте на меня особого внимания, я заехал только взглянуть на вас и опять скрыться. И не чувствуйте неловкости – ведь все, что было, быльем поросло и прошло без возврата. Вы не можете не видеть, что я опять ослеплен вами, но теперь вас никак не может стеснять мое восхищение – оно теперь бескорыстно и спокойно…
Она склонила голову и ресницы, – к дивной противоположности того и другого никогда нельзя было привыкнуть, – и лицо ее стало медленно розоветь.
– Это совершенно точно, – сказал я, бледнея, но крепнущим голосом, сам себя уверяя, что говорю правду. – Ведь все на свете проходит. Что до моей страшной вины перед вами, то я уверен, что она уже давным-давно стала для вас безразлична и гораздо более понятна, простительна, чем прежде: вина моя была все-таки не совсем вольная и даже в ту пору заслуживала снисхождения по моей крайней молодости и по тому удивительному стечению обстоятельств, в которое я попал. И потом, я уже достаточно наказан за эту вину – всей своей гибелью.
– Гибелью?
– А разве не так? Вы и до сих пор не понимаете, не знаете меня, как сказали когда-то?
Она помолчала.
– Я видела вас на балу в Воронеже… Как еще молода была я тогда и как удивительно несчастна! Хотя разве бывает несчастная любовь? – сказала она, поднимая лицо и спрашивая всем черным раскрытием глаз и ресниц. – Разве самая скорбная в мире музыка не дает счастья? Но расскажите мне о себе, неужели вы навсегда поселились в деревне?
Я с усилием спросил:
– Значит, вы тогда меня еще любили?
– Да.
Я замолчал, чувствуя, что лицо у меня теперь уже горит огнем.
– Это правда, что я слышала… что у вас есть любовь, ребенок?
– Это не любовь, – сказал я. – Страшная жалость, нежность, но и только.
– Расскажите мне все.
И я рассказал все – вплоть до того, что сказала мне Гаша, посоветовавши мне «поехать, пожить в свое удовольствие». И кончил так:
– Теперь вы видите, что я всячески погиб…
– Полноте! – сказала она, думая что-то свое. – У вас еще вся жизнь впереди. Но брак для вас, конечно, невозможен. Она, конечно, из таких, что и ребенка не пожалеет, не то что себя.
– Не в браке дело, – сказал я. – Бог мой! Мне жениться!
Она в раздумье посмотрела на меня:
– Да, да. И как странно. Ваше предсказание сбылось – мы породнились. Вы чувствуете, что ведь вы мне двоюродный брат теперь?
И положила руку на руку мне:
– Но вы ужасно устали с дороги, даже не притронулись ни к чему. На вас лица нет, довольно разговоров на сегодня, идите, постель для вас в павильоне приготовлена…
Я покорно поцеловал ей руку, она позвала горничную, и та с лампой, хотя было довольно светло от месяца, низко стоявшего за садом, провела меня сперва главной, потом боковой аллеей на просторную поляну, в эту старинную ротонду с деревянными колоннами. И я сел у раскрытого окна, в кресле возле постели, стал курить, думая: напрасно совершил я этот глупый, внезапный поступок, напрасно заехал, понадеялся на свое спокойствие, на свои силы… Ночь была необыкновенно тиха, было уже поздно. Должно быть, прошел еще небольшой дождь – еще теплее, мягче стал воздух. И в прелестном соответствии с этим неподвижным теплом и тишиной протяжно и осторожно пели вдали, в разных местах села, первые петухи. Светлый круг месяца, стоявшего против ротонды, за садом, как будто замер на одном месте, как будто выжидательно глядел, блестел среди дальних деревьев и ближних раскидистых яблонь, мешая свой свет с их тенями. Там, где свет проливался, было ярко, стеклянно, в тени же пестро и таинственно… И она, в чем-то длинном, темном, шелковисто блестевшем, подошла к окну, тоже так таинственно, неслышно…
Потом месяц сиял уже над садом и смотрел прямо в ротонду, и мы поочередно говорили – она, лежа на постели, я, стоя на коленях возле и держа ее руку:
– В ту страшную ночь с молниями я любил уже только тебя одну, никакой другой страсти, кроме самой восторженной и чистой страсти к тебе, во мне уже не было.
– Да, я со временем все поняла. И все-таки, когда вдруг вспоминала эти молнии тотчас после воспоминания о том, что за час перед тем было в аллее…
– Нигде в мире нет тебе подобной. Когда я давеча смотрел на эту зеленую чесучу и на твои колени под нею, я чувствовал, что готов умереть за одно прикосновение к ней губами, только к ней.
– Ты никогда, никогда не забывал меня все эти годы?
– Забывал только так, как забываешь, что живешь, дышишь. И ты правду сказала: нет несчастной любви. Ах, эта твоя оранжевая распашонка и вся ты, еще почти девочка, мелькнувшая мне в то утро, первое утро моей любви к тебе! Потом твоя рука в рукаве малороссийской сорочки. Потом наклон головы, когда ты читала «Обрыв» и я бормотал: «Натали, Натали!»
– Да, да.
– А потом ты на балу – такая высокая и такая страшная в своей уже женской красоте, – как хотел я умереть в ту ночь в восторге своей любви и погибели! Потом ты со свечой в руке, твой траур и твоя непорочность в нем. Мне казалось, что святой стала та свеча у твоего лица.
– И вот ты опять со мной и уже навсегда. Но даже видеться мы будем редко – разве могу я, твоя тайная жена, стать твоей явной для всех любовницей?
* * *
В декабре она умерла на Женевском озере в преждевременных родах.
4 апреля 1941







