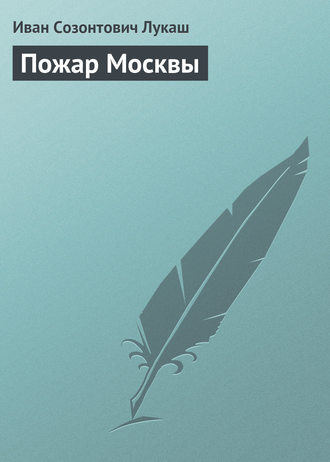
Иван Созонтович Лукаш
Пожар Москвы
X
Кошелев ждал Павла Александровича на улице до вечернего часа. Упадал весенний теплый день, и светлое небо было, как золотистая млеющая бездна. Кошелев залюбовался прозрачностью воздуха, в котором плавала сиреневая колокольня и острые крыши домов. Верхние этажи и вершины дерев еще светились от солнца, и уже посиневшая внизу улица от длинных завес света казалась одной солнечной анфиладою.
Он увидел графа на солнечной стороне и перешел к нему из тени.
По рассеянному и грустному взгляду Павла Александровича Кошелев понял, что граф чем-то расстроен. Строганов молча пожал ему руку. Они стали подыматься незнакомой тесной улицей по ступенькам в гору.
Так они шли очень долго. Теперь и крыши, и колокольни посинели. В далеком фонаре зажегся странно-светлый огонь.
В саду ресторации уже горели между дерев бумажные фонари, но заря еще сквозила в перьях русских плюмажей и на золотом шитье русских мундиров. Ресторация была полна ужинающих. Говор и движения казались приятно-согласными, точно все чувствовали гармоническую и таинственную тишину вечера.
Офицеры вставали, завидя дородного гренадерского генерала с адъютантом. Приятно звенели кольца сабель. Все молодые лица, повернутые к графу, казались нежными и красивыми. Граф знаком руки приглашал офицеров не беспокоиться. Он прошел с Кошелевым наверх.
У открытого окна шелестела старая липа. От нее шла сырая прохлада. Заря сквозь ветви веяла по столу румяным плетением. Граф рассеянно приглатывал вино. Он задумался и положил локоть на стол. От его руки легла тень. Внизу, в темных купах сада, было слышно мягкое звенение шпор.
– Дому Твоему подобает Святыня Господня, – тихо сказал граф. Его лицо светилось в тонком сумраке вечера.
– Святыня в долготу дней… Надобно думать, сие из псалтыри?
Он посмотрел на Кошелева с рассеянной и грустной улыбкой.
– Не был ли подобный псалом на фронтоне Павлова дворца?
– Да, точно, это псалом государя Павла Петровича, – сказал Кошелев чутко и тревожно. – У старых гренадеров, я думаю, и нынче ходит по рукам записка с псалмом. Когда сосчитать в нем литеры, получишь годы жизни государя Павла. Солдаты верят, что государь сам указал долготу дней своих.
– Своих ли?.. Дому Твоему подобает Святыня…
В саду ресторации, в прохладной темноте под струйную музыку – это была арфа – женский голос запел италианскую песню. Они оба заслушались приливов и отливов арфы.
– Она поет о Тоскане, – сказал граф. – В долготу дней… Так… Так кончился поединок Александра с Бонапартом.
Из сада послышался мягкий шум рукоплесканий.
Кошелев с тревожной жалостью смотрел на графа. Он чувствовал жалость к графу, и к себе, и к шуму рукоплесканий, и к невидимой в темноте русской молодежи, едва звенящей кольцами сабель, и к италианской певице с арфой, и к последнему огню зари, который еще тлел в верхнем этаже дальнего дома.
– Мы зальем Париж… Придем и уйдем, – после молчания сказал граф:
– Все минуется. Сожалеть ли, что милому Саше не довелось видеть победы? Он, может быть, зрит иной свет, у иного престола. Вот желания его не исполнилось: не будет нашего свидания с Теруань де Мерикур… Для одного исполнения его желания буду просить вас идти с армией в Париж, отыскать ее, когда жива, и поклониться от состаревшего гражданина Очеро. Я дам вам письма к старым друзьям и адреса, кои помнятся. Париж вам будет любопытен… Не затруднит ли вас подобное поручение?
– Отнюдь, граф, прошу…
В эту ночь графская карета и крытый фургон миновали Преображенский караул на заставе, а адъютант Строганова остался при главной квартире.
XI
Александр занял дом Талейрана на улице Тиволи.
Париж был пленен великодушием и любезностью белокурого Кесаря. С почтительной скромностью он посетил бывшую императрицу Жозефину, он не забыл посетить жену своего воспитателя, швейцарского республиканца Лагарпа, он был в Сорбонне и осматривал памятники и гражданские учреждения столицы, то подымая к глазам, то опуская золотой лорнет с изящным любопытством. За ним бежали толпой, на гуляниях и в театре его встречали овациями. Журналы Парижа, журналы всей Европы прославляли императора Александра, описывая каждый его шаг, каждое слово. Скользящий, как бы матовый свет, казалось, исходил от него, и особая прелесть была в его движениях, в них было что-то женственно-прекрасное и осторожно-благородное.
В глубине двора Талейранова дома, отделенного от улицы легкой решеткой, российская гвардия каждое утро меняла караул с церемонией. Гвардейцы салютовали так легко, что амуниция звенела, будто стеклянная. Барабан рассыпал бодрую дробь. Каждую утро у решетки толкались любопытные. Стеклянный звон амуниции, дробь барабана и парадные великаны в белых гамашах, застывшие у подъезда – толпе все казалось необычайным, небывалым. У решетки ждали, когда к дворовым крыльцам подведут серого коня и выйдет Александр, улыбаясь одними уголками губ и оправляя белую перчатку. Толпа восторженно затихала при сияющем видении, точно ждала знака его, мановения, которое отключит волны света, видные ему одному.
Кошелев с толпой любопытных смотрел поутру церемонию караула. В своем светло-сером фраке он неприметно терялся в толпе, но на многих улицах к нему уже пригляделись. Этот вежливый и скромный иностранец с рукой на черной повязке ходил по домам до самых мансард, и наверху, в потемках, отыскивал чьи-то двери. А когда ему открывали, иностранец осведомлялся о таких жильцах, каких в доме не помнил никто. Не тайный ли он агент русской полиции, или он сошел с ума? С вежливой улыбкой иностранец вызывал из забвения имена депутатов Конвента, ораторов якобитских клубов. На улицах он уступал дорогу сумрачным роялистам с белыми кокардами на черных шляпах. У витрин Лувра подолгу рассматривал эстампы и восковые бюсты с париками. Российские пехотные офицеры выходят гурьбой из модных лавок, у каждого в руках пара белых перчаток, идут щеголять в Пале-Рояль.
Кошелев бродил по Парижу с письмом графа Строганова. Он разыскивал Теруань де Мерикур.
В солнечный день с дождем и ветром он проходил узкой улицей за Сеной. Его остановило движение русской конницы. Без строя и без оружия конница шла с купанья на Сене. Копыта лошадей мокро блестели, лоснилась влажная шерсть.
Конница заполнила улицу радостным цоканьем, пересыпающимся рокотом копыт. По веселым лицам драгун, по храпотку и счихиванию коней, было понятно, что всадникам и коням одинаково приятно мелькающее солнце и рокочущее движение.
Всадники без седел, многие босые и мундиры внакидку, но все в римских шлемах – босой римский легион на буланых конях – русская конница показалась Кошелеву бодрым и невыразимо-прекрасным движением самой России. Он вглядывался в курносые загорелые лица солдат под медными шлемами, точно желал их запечатлеть навсегда.
Невысокий гусар в желтом ментике стоял рядом с ним в кучке зрителей. В голубых глазах гусара была та же веселая гордость, что и в глазах Кошелева. Он повернулся, чтобы идти и толкнул гусара.
– Осторожнее, прошу вас, – сказал тот по-французски. Его голубые глаза блеснули гордым недовольством.
– Прошу прощения, сударь, – ответил Кошелев по-русски.
– Вы русский? – гусар улыбнулся. – Впрочем и видно, что русский.
– Почему?
– Не знаю, лицо ли, походка…
Оба рассмеялись.
Гусар пристально посмотрел на Кошелева:
– Словно бы я вас где-то встречал. Нечто знакомое в ваших чертах… Вы московский?
– Нет. Петербургский, то есть жил в Петербурге… Точно, и ваше лицо мне знакомо.
Он протянул гусару руку:
– Гвардии капитан Кошелев.
– Полторацкий, – сказал гусар. – Право, я помню вас. Когда-то мы с вами видались… Ну конечно, я совершенно вас помню. В Петербурге, лет десять обратно. Помнится, вы привели меня в казармы. Той мартовской, известной ночью… Ну. Библию, помните?
– Бог мой, Полторацкий.
Они обнялись и расцеловались в самые губы. На их смотрели с веселым любопытством.
Полторацкий взял Кошелева под руку. Они быстро разговорились: в каком полку, где стоят, почему без мундира, в адъютантах? А мы в Париж на конях, четыре месяца в походе, без малого две тысячи верст в седле и ног не оттоптали.
С первых же слов они, кажется, знали все друг о друге.
На ближайшем перекрестке Полторацкий уже перешел на «ты»: «Ты не знаешь нашего Пашку, Кентавра, я тебя познакомлю, что за прелесть Пашка, черт, татарин, влюблен во французскую девчонку, сегодня его, варвара, посвящают в масоны, в походной ложе «Астрея», разумеется, ты тоже вольный каменщик, мы пойдем вместе».
– Какое, я давно покрыл ложу.
– Пустяки. Мы пойдем. Вот встреча. Я отлично помню тебя с Библией и свечой на полковом ларе. Я помышлял, что ты готовишься в монахи, ей-Богу. Постой, а как твое имя, то есть по батюшке?
– Петр Григорьевич.
– Ну, конечно, Петр Григорьевич… Ты порядочный чудак, Петр Григорьевич. Я, честное слово, помню тебя. Впрочем, в беседе с музами, с Парни, с Шиллеровой Талией, с Лафонтеном и Гёте я не видал полета времени.
Кошелев не мог понять, шутит маленький гусар или говорит правду.
Скоро Кошелев узнал, как гусары варили кашу на шампанском вине, как гнули на мелок углы валетов и двоек в счет будущих благ, как артиллеристы в отместку за матушку-Москву намеревались дернуть генеральным залпом по батюшке-Парижу, да вмешалось начальство, тысячи любопытных вещей узнал Кошелев от гусара: о медали 812 года, ее будут носить в петлице, на голубой ленте, на медали Всевидящее Око в треугольнике, с лучами, и надпись «не нам, не нам, а имени Твоему», однако, а нам неужели ничего? И тут же о факторах или ночных амурах, о приятных сокровенностях парижанок и где их сыскать, о том, как в Саксонии на гусарский эскадрон напали полчища мух и, приключись тут ученик Пифагоровой секты, непременно сказал бы, что мухи суть души французов, замерзших в России, которые мстят в новом своем превращении, и о ночной мазурке на крыше польского сарая и что-то о немочке, и еще что-то о немочке с тарелкой черешен в каком-то Вакертгейне.
Полторацкий, болтая, тащил Кошелева под руку. Вдруг оттолкнул его:
– О, Лизхен, о, вздох… Лети к тем дальним местам за Рейн, за Эльбу, где блуждают мои взоры…
– Что за театр, послушай, – смеялся Кошелев.
– Нет, не театр, ей-Богу. Но Париж, когда бы ты, Кошелев, знал Париж! Бог мой, тут все забудешь. Здесь самая вершина жизни, здесь все движется, мыслит, говорит… И как подумать, куда нам возвращаться… Безгласной немотой, угрюмым величеством чудится тут наша матушка-Рассея, как землячки говорят. Словно все там немеет, дурнеет, молчит. Слушай, я правду тебе говорю. Не стыдно ли, в самом деле, что у нас рабство и нет этих, ну, как их, о чем нынче все говорят, ну как в Лондоне, депутатской палаты, что ли? Ты не смейся, мне стыдно… Ну, понимаешь, словно недостает чего-то России.
«Кажется, теперь он не балагурит», – подумал Кошелев. Гусар выпустил его руку и обернул насмешливое и грустное лицо.
– А ежели хочешь знать правду, так мне ничего не надобно на сем свете: ни палат лондонских, ни Парижей… Разве, когда умру, пусть влепят самую нежную эпитафию в могильный камень мой. А так – и тут, и в отечестве – все тошно. Я несчастлив, когда тебе правду сказать.
– Полно, что так, неприметно.
– Нет, я истинно несчастлив, друг Петр… Я вижу, как хороша, как светла жизнь, я люблю ее, но у меня тут в сердце словно бы стужа…
«Вот и признания по русскому обычаю», – холодно подумал Кошелев.
– Были и у меня, друг Петр, дни, когда я любил, чаял счастья и чистых радостей… Да ты, поди, слышал об истории моей. Может статься, даже знавал Захарьиных. Софьюшка Захарьина, слышал?
– Постой… Я ничего не слыхал… Какие Захарьины?
– Тульские, родственники Когушевых. Они задержались в Москве, под французами. Софьюшка сделалась больна после московского пожара. И не видел, как увезли от меня… Боже мой, Боже мой, да за что же, зачем же…
Полторацкий вскрикнул горестно, так же, как на мартовском рассвете, когда-то, у решетки Летнего сада.
– Все равно, все равно, – гусар провел худой рукой по щеке. – И к чему я тебе рассказал, сам не знаю… Пойдем, Кошелев, выпьем встречу. У Верри чудесное шампанское.
Кошелев заметно дрожал. Точно потемнели в глазах небо, улица, покрышки карет, лица пешеходов.
– Так вот что, – бормотал он. – Прости, голубчик, не могу, я должен идти. Прости. Так вот что… Не могу, прощай.
– Поручения, адъютанствуешь? Стыдись, Кошелев, пойдем.
– Не могу, послушай.
– Ну, так черт с тобой, когда так, ступай куда хочешь, к черту, ханжа!
Гусар круто повернулся и зашагал, придерживая саблю под локтем. Кошелев посмотрел на его худую спину и только теперь понял, что маленький гусар не вовсе трезв.
На мгновение Кошелеву показалось, что все смотрят на него и знают то, что сам он глубоко прятал от себя и от людей, о неведомой Софьюшке, бесчестном страхе, который одна Параша прощает ему, а не простил бы никто.
Он почти бежал у стен домов и через мост.
С горечью и разочарованием он думал, что его жизнь не удалась, что его жизнь была бы иной, если бы он спас тогда Софьюшку. Неведомая, она показалась ему необычайно-прекрасной, но тут же его тронула жалость к Параше, точно он предает ее ради видения, ради неведомой.
За площадью косой и дымной горой подымалось аметистовое небо: над Парижем собирался дождь. Кошелев посмотрел на дальний купол инвалидного дома, за которым шла аметистовая гора:
– Но я ничем не мог ей помочь. Я не мог…
На бормочущего иностранца с любопытством оглядывались прохожие. Крупные, как гривенники, капли застучали но шляпе. Ветер дохнул шумно и холодно, понесло дождевой дым, экипажи и прохожие мгновенно смешались в клубы тумана.
Тоска и невыносимый страх охватили Кошелева. Неведомая Софьюшка, о которой внезапно напомнил ему изюмский гусар, пожар Москвы поднялся в нем терзающим видением. Париж, нагромождение домов, снующие люди, блестящие экипажи – все отошло и смутно умолкло в тумане вод. Пожар видений окружил Кошелева. «О чем я? Пожар давно отгорел, Париж завоеван, я в Париже, как это? Знамена, мстители Москвы, шумят над Сеной горделивой. Не отгорел тот пожар, вот о чем. Строганов справедливо сказал: знак пожара ужаснейшего, вот о чем».
– И горим, – с горечью и злобой пробормотал он. – Все души в беспокойстве. У Полторацкого, у графа, у меня… А Евстигней разве не сгорел, а Павлуша… Господи, Россия горит, страшно от Твоего зрелища…
Он вспомнил, как его вели с пленными. Он подумал, что Полторацкий чем-то похож на расстрелянного трубача. Он вспомнил монастырскую шапочку Параши. Его жена, каретник, трубач из сдаточных парней, барич-гусар, его гренадеры, смирный граф, те молодые всадники, римский босой легион, встреченный им, все русские люди, которых он видел когда-либо, внезапно показались ему изумительно-светлыми и прекрасными. Его стал успокаивать шум дождя.
Навстречу попался русый гренадер в белых штанах и в тяжелом кивере, похожем на мокрую митру.
Гренадер вел за руку девушку, вернее девочку, в тафтяном шарфе, завязанном на груди узлом. Миловидное личико весело и свежо смотрело из-под мокрого чепца. Она высоко приподымала подол и были видны ее ножки в белых чулках. Громадный гренадер вел ее за руку, так парни ходят с девушками в русских деревнях.
Капрал Михайло Перекрестов так отводил с каруселей домой, в прачечную, Крошку Сюзанн, как звали ее соседки, ту самую сладкую бабищу-великаншу, которой пенял его полковой дядька.
Михайло выпустил руку Сюзанн и, выбрякнув медью, стал во фрунт. Кошелев приветливо улыбнулся, прошел мимо.
– Вроде наш командер, а, смотри, в вольном. Надо быть, обознался, – уверенно сказал Михайло. Он все говорил ей уверенно и ясно, точно Сюзанн могла его понимать.
На истертых ступеньках у прачечной они постояли в самой луже. Сюзанн огляделась, нет ли кого вблизи, приподнялась на носки и довольно больно дернула книзу за черные баки этого чужого и большого ребенка со смешным именем Миша. Потеребить его на прощание за баки Сюзанне нравилось больше всего.
XII
Уже много дверей закрылось пред носом Кошелева, уже во многих домах жильцы вежливо покачивали головами, рассматривая с недоумением графские конверты, на которых были четко написаны неизвестные имена. Колесница революции и империи пронеслась над Парижем, кто из графских друзей мог уцелеть под такой грозой в своих гнездах, но Кошелев постучал еще в одну дверь, на четвертом этаже старого дома, на темной улице Кота-Рыболова у Сены. Ему долго не отпирали. Он постучал снова.
Тогда ему отпер старый Бенже, когда-то секретарь клуба «Друзей закона»: он усидел под всеми бурями в своем гнезде. Его лысая голова тряслась и слезились глаза. Старый якобинец вышел на лестницу в туфлях на босу ногу, в заношенном халате с торчащими клочьями ваты.
– Господин Бенже?
– Да, я Бенже, что вам надо?
Старик недоверчиво оглядел иностранца с рукой на черной повязке.
– Вам письмо от гражданина Очеро.
– Гражданина Очеро? Теперь нет граждан, и я не знаю никакого Очеро.
– Письмо адресовано вам, господин Бенже.
Старик запахнул на тощие ноги полу халата. Он неуверенно взял от Кошелева конверт и подошел к круглому окну на площадке.
– Гражданину Аристиду Бенже от гражданина Очеро, – прочел он. – Да, это мое имя, Аристид. Но мне не от кого ждать писем, я превосходно всеми забыт. Как паршивая собака. Послушайте, это шутка? Я не знаю Очеро… Очеро.
Вдруг сильно блеснули слезящееся глаза, конверт запрыгал в костлявых пальцах.
– Как, вы от Очеро? От русского Очеро? Знаю ли я Очеро? Тише… Вы русский? Входите…. Очеро, таких имен больше нет, входите.
Старик почти втащил Кошелева в прихожую. Он разломил зеленую печать на конверте. Они сели в шаткие кресла, у камина. Тускло озарило слезящийся глаз якобинца, морщинистую щеку, клочья серых волос у виска.
Лица Кошелева не было видно в потемках. Старик, наклоняясь к огню, читал письмо, губы шевелились беззвучно.
– Мой милый друг, мой милый друг, – пошептал Бенже, целуя письмо.
– А, ты помнишь ее, Очеро? Так ты помнишь нашу Теруань де Мерикур? Ее засекли.
– Она умерла?
– Скажите Очеро: нет, скажите Очеро: жива… В июне, нет, в мае проклятого девяносто третьего года… Уже двадцать лет… Торговки раздели ее догола и секли. Ее секли на площади, у Тюильери, недалеко от гильотины. Она сошла с ума. От стыда, может быть. Так кончаются великие революции. Уже двадцать лет, как она в сумасшедшем доме. Здесь, в Париже. Дайте листок, я напишу название госпиталя… Так Очеро не забыл ее. Бедный Очеро. Скажите, чтобы он поминал в молитвах ее бедную душу.
– Аминь, – сказал Кошелев, подымаясь с кресел.
Под дождем он торопился в гостиницу, когда изюмский субалтерн-офицер Енголычев с гуляния у Пале-Рояля провожал домой Жиннетт Дорфей. Что-то печальное и тревожащее говорил ей московский гусар. Она не понимала ни слова.
У самого подъезда к ним шагнул от стены высокий старик без шляпы, в мундире Наполеоновой армии. Старик замахнулся на Жиннетт, девушка вбежала в подъезд. По лицу старого француза струился дождь, седые пряди прилипли к щекам. Кентавр понял, что перед ним отец Жиннетт, и отступил. Понуро оперся на кривую саблю.
То пешим, то в случайном дилижансе полковник Дорфей добрался в Париж из Фонтенебло. Он оставил последние батальоны, знамена, императора. Ему писали, что его Жиннетт видели с русским варваром, среди австрийской и прусской сволочи, среди русских дикарей, запрудивших несчастный Париж. И кто же? Мокрый щенок, в желтом ментике с белой опушкой, ощипанной дождем:
– Прочь!
Мальчишка-гусар виновато улыбнулся и заговорил что-то доверчиво. Этот скиф с серым шрамом не понимает, ему объяснят. Старик ступил к гусару, ногтями ущипнул его за ухо, затеребил, лицо гусара посерело:
– Прочь!
За ухо, пригибая к земле, старик повел русского гусара по улице. Тот вырвался, отряхнулся и зашагал, не оглядываясь. Желтый ментик скоро расплылся в дождевом тумане.
Гусары при свечах метали банк, когда в покой вошел Кентавр. Он лег на канапе к стене лицом. С яростью, кулаками, он взбивал кожаную подушку и почти стонал сквозь зубы:
– Ведь отец, как мне с ним было, отец, чтоб его черт, черт…
– Ты, Паша, о ком? – окликнул его Полторацкий, подавая карту банкомету.
– Ступай к черту! – бешено крикнул Кентавр, сбрасывая с канапе ноги. – Все к черту! Галдят, орут, точно контрактовая ярмарка, к черту!
Лохматый и ярый, с кожаной подушкой под мышкой, Кентавр в ту ночь ушел спать к гусарским коням, под навес.
Ночью великий город дышал, светился и ровно шумел, как будто шел неумолкаемый прибой.
Красные огни экипажей проносились в черной воде, у мостов, звенела где-то плавная музыка, за Сеной бестуманными каскадами взлетали ракеты, чертя зеленоватые дуги.







