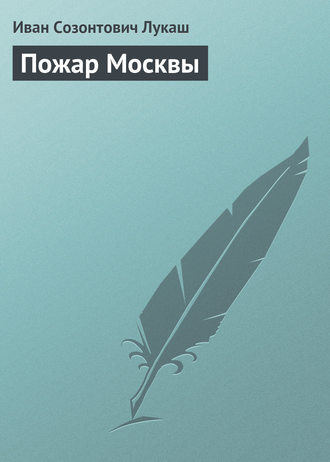
Иван Созонтович Лукаш
Пожар Москвы
XIII
Капрал Перекрестов вернулся на знакомую улицу, к трем каменным ступенькам у прачечной, в подвал.
Он ходил терпеливо вперед и назад вдоль стены, как часовой. Зазвенела стеклянная дверь: вышла Сюзанн, завязывает шаль на груди. Девушка узнала русского гренадера и рассмеялась.
Они не говорили ни слова о таком свидании, не могли бы сказать: они не понимали друг друга. Капрал до ночи толкался в толпе, любовался мельканием и музыкой каруселей, огнями фейерверков и, не думая, зачем идет, вернулся на знакомую улицу к трем ступенькам.
Так и маленькая Сюзанн. Ей все слышалась далекая музыка, она вышла посмотреть на ракеты. Так они встретились и так пришли на берег Сены, в сырую и жесткую, еще прошлогоднюю траву, пахнущую тмином. Над рекой курился низкий туман. Едва сквозила молодая луна, золотистый челнок, купая в темной воде свою дрожащую тоненькую цепочку.
Михайло тронул Сюзанн за руку:
– Смотри, молодой месяц умывается.
Капрал говорил так, точно Сюзанн могла его понимать. Но девушка поняла что-то свое.
Они сидели в мокрой траве рядом, как дети, подняв к небу глаза. Рука Сюзанн покоились на плече гренадера. Этот чужой человек с карими добрыми глазами, с железными руками и непонятным говором, похожим на голубиное воркование, этот воин странного народа, послушный и ласковый великан Миша горячо влек к себе маленькую Сюзанн. Рассеянные пальцы девушки запутались в баках гренадера, он с силой обнял ее за плечи. Сюзанн глухо вскрикнула. И потому, что она вскрикнула, Михайло бросил ее в траву. Сюзанн забилась, расцарапала ему лицо, вырвалась. Без чепца, в измятой шали, она поджалась и зарыдала сильно, содрогаясь. Михайло стоял перед ней на коленях, тяжело дыша. Сюзанн утирала подолом лицо и жалостно вскрикивала:
– Иезус-Мария, Иезус-Мария…
Она закрестилась всей ладошкой, по-католически. Михаиле слушал ее виновато, и, боясь прикоснуться к ней, стыдливо сказал:
– Не убивайся, слышь… Я не буду… Слышь…
Он осмелился тронуть подол из ее рук и стал утирать ей лицо:
– А, хорошая… Смотри, и я крест кладу. Тоже не нехристи… Господи Сусе Христе. А, хорошая…
– Кярошаия, – кусая кончик чепца, обиженно выговорила Сюзанн, еще в слезах, и неожиданно для себя улыбнулась. Михайло засмеялся в голос. Они вспрянули из травы.
Гренадер не успел пристегнуть кивера, так быстро бежала Сюзанн вдоль берега Сены. На улице, где светил фонарь в листве каштанов над каменной высокой стеной, он настиг девушку. Весело дыша, она оттолкнула его, вдруг приподнялась на носки, крепко, неловко, поцеловала в самые губы, умчалась.
XIV
Веселый, словно бы вполпьяна, приходил Михайло с ночных гуляний, и тогда Аким выговаривал ему, молодой капрал стряхивал головой упрямо и гордо:
– Нынче, дядя, кто ни скажи, чтобы я эфту девку покинул, никого не послушаю. Нынче я, дядя, решенный.
– Дурень ты решенный, – говорил Аким. – В Рассею чужую девку потащишь, загубишь. Питерская казарма не здешнее баловство, ужо…
– Не бывать, чтоб ее загубил, а Рассеей меня не стращай. Чай, сам рассеец.
– Рассеец. Ососок ты, не рассеец.
Аким и по начальству докладывал, что отбился от рук капрал, да офицеришки-молокососишки сами солдат избаловали, знай, смеются: потешно им рассейского гренадера на француженке оженить. «И ты, старик, на свадьбе повеселишься». «Повеселишься, как же. Барчукам все в потеху».
Аким и по чужим батальонам советовался.
Был в полку истинный древний солдат, знаменщик Кир. На его честной памяти заступление на престол государыни Елисавет и взятие графом Чернышевым Берлина и батюшки-Суворова Измаильский штурм. Надо думать, идет Киру девятый десяток и таких ревностных солдат нынче нет: ростом в сажень, кость железная, волос белый, как снег, и зубы все до одного белые. Только глаза не видят, помутнели за век, и знаменщик вытирает чистой тряпкой светлую слезинку. А привезен Кир в Париж на гренадерской фуре для одного параду: выходит во фрунт только в почесть и место, под знамя, как бить по войскам тихую зорю.
Когда пришел капрал в полковые обозы, знаменщик дремал на дворике в ободранных штофных креслах, подаренных ему офицерами. Пребывал в покое и холе ветхий гренадер императрис Елисавет, Палладиум Славы Российской. Руки Кира были как у мощей, коричневые и сухие. Морщинистая кожа блестела от солнца. Он пробудился, выслушал капрала и невнятно сказал:
– Не препятствуй, капралик, не шабурши… Пусть берет девку по сердцу. Нынче идут времена новые, мирные, пресветлая радость. Чаю добра от наших времян, благослови Бог.
Капрал Аким поклонился знаменщику в пояс и молча ушел.
А в воскресенье, после обедни, когда праздничные гренадеры выходили с полкового двора на гуляние, Аким нагнал в воротах Михаилу и хлопнул его то плечу.
– Тебе, дядя, чего? – красиво обернул голову молодой капрал.
Аким переступил с ноги на ногу, смахнул пылинку с мундира и посмотрел мимо, вбок.
– А того. В солдатстве того еще не водилось, чтобы полковым дядькам нареченных не показывать.
Михайло покраснел, блеснул зубами, карие глаза наполнились светом:
– Да дядя Аким, да милости прошу… Как ты серчал, я и не смел.
– Ладно, не смел. Как девку-то звать по имени-изотчеству?
– У них имена не по-нашему. Зовут ее Сюза, а как по батюшке, мне не сказывала.
– Сюза, эва имячко. В Бога-то верует?
– А вот, дядя, как верует. Девка справная, по всему.
– Ладно, ступай, веди меня на смотрины.
В воскресение на ярмарке у Нового моста можно было видеть двух парадных гвардейцев в белых гамашах: один рыжеватый, пожилой, другой молодой и черноволосый. Оба великана, переступая с ноги на ногу, стояли перед маленькой француженкой в легком чепчике и бедной шали, повязанной узлом на груди. Пожилой гренадер сверху и очень неловко подал ей руку. Маленькая француженка с опаской пожала ее и улыбнулась приветливо.
– А и рука, – строго сказал пожилой. – И руки вовсе нет…
Молодой гренадер пошел с девушкой вперед, а пожилой на шаг отступя. Так суровый гувернер выводит на прогулку питомцев.
И в другие дни видели двух русских великанов на гуляниях. Теперь они ходили вчетвером: впереди, под руку, молодой гренадер и девушка в чепце, за ними, точно это была одна патриархальная семья, пожилой гренадер и полная дама, прихрамывающая на левую ногу. У хромой дамы чепец был с вишневыми лентами и она нюхала табак. Это была хозяйка Сюзанн, почтенная вдова Ройе. Пожилой гренадер называл ее «мадама».
Когда пели венчание капралу Михайле, в полковой церкви была эта хромая дама в вишневом чепце, был и мирный, не вовсе трезвый и очень ласковый человек в зеленом полосатом жилете с медными пуговицами, господин Поль, сапожник с той же улицы, где прачечная Ройе.
Офицеры набросали молодым червонцев в серебряную стопку. В свадебной зале, за церковью, где стены были украшены вензелями из зелени, а столы накрыты белыми скатертями, полковые музыканты уже настраивали свои инструменты. Сквозь церковное пение легко ворковала валторна, флейта пускала иногда приятную руладу. Капрал Аким отнес в алтарь венцы молодых. У аналоя стоял Михайло и маленькая Сюзанн, Окутанная подвенечной фатой. Первым поздравлял молодых командир гренадерского батальона. Он чуть приподнял за подбородок головку Сюзанн. Она побледнела и припала к груди Михаилы: внезапно она всего застрашилась. Но тут открылись в залу белые двери и в оркестре медные тарелки забряцали свадебный марш.
Скоро в узком покойчике, за деревянной перегородкой, поселилась молодая хозяйка Михаилы, а капрал Аким вынес свою койку в казарму. На свежей полке, где стоял кованый сундучок Акима, теперь высилась легкая корзинка Сюзанн. В корзинке она принесла две бережно разглаженных, поштопанных сорочки, передник с кружевной оторочкой, узелок шелковых чулок с прорванными пятками, засохшие цветы, разбитое зеркальце в белой оправе с нарисованными птицами и китайцами, католический крестик и серого котенка.
Михайло научил ее заправлять лампаду Николе Мирликийскому, их благословенному образу. С базара она приносила чужому святому цветы, петуньи и левкои. Для украшения строгого московского святого ей надобно было вставать на табурет. Ей помогал Михайло. Потом он носил ее на руках по узкому покойчику. Точила синий свет лампада, и в последние часы ночи у Николы Мирликийского маленькая Сюзанн, как умела, учила мужа любви, которую сама узнавала впервые.
XV
На Пасхальную неделю в Париже стали ясные дни. Над великим городом заструились летние погоды, открыв воздушные анфилады, полные света. Праздник Пасхи сошелся в 814 году на один день у всех христиан, и в светлой тишине дней пасхальных, благословенных, многим мечталось, что отгремели на земле последние войны и лег навеки военный гром.
В самое Светлое Воскресение по Парижу, с блистающей музыкой, шагом вольным и мерным двигались к площади Революции парадные войска Александра. Волею российского императора на площади, на гноище неистовых казней и злодейств, будет нынче отслужено пред фрунтом войск всей Европы молебствие о забвении зла, о мире миров, о благоденствии народов, о даровании тишины вселенской, цветущей.
Ближе к Елисейским Полям на самом месте казни короля Людовика Шестнадцатого русские плотники возводили высокий амвон. Там с утра легко и бодро постукивали плотничьи молотки.
Изюмские гусары, мягко звеня серебром сабель, шли к смотру на рысях. Кони гнедые, в подбор, с влажными храпками и шерстью, глянцевитой от скребниц, как бы красуясь ладцадами и траверсами, перебирали ногами грациозно и часто. Всем весело идти на остужающий ветер, на солнце. Пожалуй, один Енголычев, смуглый бретер, хмурился в строю. Он хмурился с того дня, как старый француз оттеребил его за ухо.
Желтые ментики замелькали под каштанами: к павлоградцам, ахтырцам, елисаветградцам, александрийцам пристраиваются изюмские гусары. Кавалерия вытянулась по аллее Елисейских Полей. Пехота медлительно развертывает парадный фрунт у Сены.
Ясно слышна команда «отдай ногу» и притаптывание рядов. Офицеры стоят пред рядами. Они снимают горбатые треуголки, подобные мохнатым аркам, и говорят друг другу «славный денек». Под щекоткой ветра дрожат султаны солдат.
Российская гвардия строит каре спиной к дворцу Элизе-Бурбона. Синяя линия войск поволновалась и замерла у Тюильери. Батальон Парижской национальной гвардии прошел скорым шагом площадь и окружил амвон. Враз сверкнули ружья. Погасли.
Бригадный генерал Шперлинг, известный путаник и крикун с багровым затылком, выплывшим на тугой ворот мундира, вздумал тогда проверять равнение эскадронов. Он суетился, скакал вдоль конских морд, генеральская шея, казалось, вот выпрыгнет из воротника.
Он подскакал к левому флангу и стал ломать уже замиравший в стройной недвижности фрунт изюмцев, разве где счихнет, сфыркнет конь, качнув головой.
– Третий вперед, шестой назад, седьмой осади. Грудастый Шперлингов конь попятил Феба Енголычева.
Кентавр оскалился и проворчал:
– Толчется тут без толку, как г… в проруби.
Шперлинг подпрыгнул в седле:
– Кто такое сказал, кто он есть? Он не гусар, ему ночная колесница возить.
– Я не гусар! – Кентавр дал шпоры и подлетел к Шперлингу. Высверкнула сабля.
Генерал с внезапным проворством повернул грудастого коня и, пригибаясь к седлу, поскакал прочь. Оскаленный Кентавр погнался за генералом. Звонко, с треском, фухтеляя его саблей плашмя по тучной спине, Кентавр гнал генерала во весь карьер вдоль развернутого фрунта бригады.
Изумленные гусары на мгновение онемели, и вдруг вся бригада на Елисейских Полях загремела отчаянным чертовским хохотом. У Ахтырских эскадронов Полторацкий и Мертваго поймали разгоряченного Феба.
– Пашка, безумный, что соделал? – кричал Полторацкий.
Офицеры отвели Кентавра за линию фрунта. Он скалился, храпел и дико поводил глазами. Прыгнув с коня, он по привычке нагнулся и стряхнул потные шерстинки с рейтуз, подшитых кожей.
И прокатил тогда издалече тихий гул амуниции, офицеры за линией фрунта поскакали к своим местам и замерли в седлах гусары, повернули, как один, головы направо. Забыли все на свете. Пролетел трепет по лицам, тихая команда: – Смирно, на караул…
Светло-серый рослый конь государя идет шагом вдоль войск. Государь опустил руку с треуголкою, белые перья шумят сияющей пеной у стремени.
У амвона форейторы приняли коня и закинули его зеленым вальтрапом с парчовыми вензелями «А».
За плечами маленьких певчих треплет узкие рукава зеленых кафтанов с серебряным позументом. В сонме духовенства российского восходит на амвон государь. Светлые ризы в зеленых розах и крестиках плывут медленным облаком, вдувает голубые орари диаконов.
Первый возглас молебна, ясный и кроткий, повеял над площадью. Людовик Осемнадцатый с двором смотрит на московский молебен из павильона на террасе Тюильери. Его Величество христианнейший король Франции сидит в креслах, положив обверченную ватой ногу на складной холщовый стул. В день молебна Его Величество мучился застарелой подагрой. Амвон восходит прозрачным дымом кадильниц, восковых свечей, волнением сребристо-зеленых риз. Людовик закрыл лаза, крестится пухлой рукой и тут же убирает со лба платам капли пота.
На Елисейских Полях блеснула огромная тихая молния, кавалерия опустила сабли. Войска с глухим шумом преклонили колена. «Тебе Бога хвалим» запели на коленях маленькие певчие. Российские священники кропят святой водой преклоненные войска всей Европы. С кропильниц разлетаются далеко светлые брызги.
Бодрый пушечный гром потряс площадь. От жерл, вздуваясь, катятся пороховые облака.
Государь, пристегивая на запястье перчатку, улыбаясь и жмурясь, сходит по красным сукнам с амвона. В пороховом дыму зашевелились линии войск, перекликаются команды, торжественно и плавно забряцали полковые марши. Гремит российская пальба.
XVI
Герой пятнадцати атак на полях сражений Москвы и Европы, субалтерн-офицер Изюмского гусарского полка Павел Енголычев в день молебствия был разжалован в рядовые.
На дворе полковой гауптвахты, у окна, забранного решеткой, стоит пехотный часовой. Солдатенок нечто напевает дремотным голоском, как обычно поют русские крестьяне на долгой дороге или по скучному делу.
Девушка в соломенной шляпке и в белом платье с горошинами, а с нею маленький желтый гусар, ухватясь за решетку окна, говорят с арестантом.
Часовой не пускал было во двор французскую сударку, махал на нее руками, покрикивал:
– Але, мадама, але.
Но еще в воротах желтый гусар подал ей учтиво руку, а часовому пустил дурака. Гусар и девушка кормят Кентавра грушами, ветчиной и пирожками с вишнями. Кентавр, прижав к решетке лицо, жует все вместе и радостно скалит зубы.
– Мишка, смотри… Моя Психея, утренняя заря. Краше жизни… Чаял, навеки разлучены, а вот по всему Парижу за каретой спешила, когда везли под арест… Отец со стыдом прогнал, а дочь тут… Мишка, черт, выручай….
Полторацкий учтиво звякал шпорами и помогал Жиннетт заглядывать в окно: девушка тянулась на носках, и гусар придерживал ее под прохладные локотки.
А когда Полторацкий провожал Жиннетт за ворота гауптвахты, он ослепительно улыбнулся и поклонился заплаканной француженке.
– Не отчаивайтесь, сударыня, прошу вас, честное слово, не отчаивайтесь.
В тот день Полторацкий скакал по всему Парижу. Он вогнал жеребца в мыло, он надумал вдруг нанести запоздалые визиты всей московской и петербургской родне, начальству, командирам многих полков, дядям двоюродным и троюродным, свойственникам с матушкиной и с батюшкиной стороны. В тот день он был и в доме Талейрана, занятом императорской главной квартирой. А на другое утро субалтерн-офицер Енголычев был вызван из заключения к самому государю.
Государя радовали письма из Петербурга, парад, пасхальные дни и то, что вечером будет дан бал англичанам. Это чувство света и радости наполняло его: он как бы сквозил изнутри, точно тонкая омафора на солнце. Он был со всеми сладко-весел, простодушен и мил.
В синем фраке и в атласном белом жилете, белые чулки на крепких икрах, он, закинув ногу на ногу, сидел в креслах у ширмы и роговой палочной полировал крупные ногти. За ширмой, сунув руки в карманчики жилета и вытянув ноги, тоже в белых чулках, полулежал в креслах черноволосый молодой генерал. Он рассказывал что-то веселое по-английски. Государь, полируя ногти, приятно смеялся.
В дверь постучали.
– Прошу, войдите, – позвал государь. В его голосе слышался ясный звук.
В кабинет ступил Енголычев.
Александр провел ладонью по светлому пуху лысины, чуть поморщился. Быстро поднялся с кресел. Кентавр, смуглый, блистающий, смотрел на него в диком восхищении.
– Ах, Енголычев, что вы соделали?
Кентавр дышал слышно и сухо.
– Как могли вы соделать подобное?
Государь ступил шаг и перед самым носом Кентавра повел указательным пальцем:
– Вы дерзкий, вы несносный гусар.
Кентавр в восхищении следил за помавающим пальцем, который чудился ему светлым столбом.
– Храбрый гусар Бородино, Кульма, Лейпцига. Я имел честь знать вашего покойного батюшку… Нет, вы не гусар мой, вы одичавший татарский мурза, вы калмык. Я не желаю знать вас. Вы сошли с ума. Отвечайте, с ума?
– С ума, государь.
– Тогда я прикажу вас заключить в желтый дом, вы помешанный, вас закуют в железо.
Высокий лоб государя покраснел, чуть покосило тонкие губы. Он увлекся гневом:
– Я прикажу вас судить, над вами сломают шпагу на площади, вас расстреляют… Как вы осмелились фухтелять генерала? Правда, он не должен был мешаться во фрунтовое построение. Но на глазах всей бригады… Отвечайте, как вы осмелились фухтелять?
– Плашмя, государь.
– Ах, Бог мой, отменный ответ… Нет, как вы осмелились его фухтелять?
– По спине.
Государь обмахнул платком лицо.
– Вы вовсе не разумеете меня. Хорошо, вы фухтеляли плашмя, по спине, сие мне известно. А он?
– Он ничего. Он крякал.
– Как крякал?
– Как утка, государь… Уточка.
– Как утка!
Государь всплеснул руками и отступил к ширме.
– Енголычев, укажите мне сами, что делать с вами? Наступило молчание. По стиснутым серым скулам Кентавра вился струйками пот.
– Не знаю, государь, – шумно передохнул Кентавр.
И вдруг встрепенулся, восхищенно блеснул глазами и вскрикнул обрадованно, гортанно.
– Нет, знаю, государь, знаю. Теперь меня – расстрелять.
Государь прижал к губам платок.
– Ступайте, вы… Кругом-арш.
Кентавр весь звякнул, круто повернулся и зашагал к дверям. Смеющиеся глаза Александра встретили над ширмой глаза молодого генерала.
– Имажинируешь, – говорил государь полно и сладко. – Как хохотала моя бригада над посрамленным Шперлингом. Сей адский хохот гусаров… Дерзкие сабли. Я давно приметил, что сабли в Изюмском полку излишне длинны. Я прикажу всему Изюмекому полку укоротить дерзкие сабли…
Указ об укорочении гусарских сабель дан не был, но поутру, после молитвы, был прочитан по всем полкам всемилостивейший указ о придании к оранжево-черной российской кокарде цвета белого, в ознаменование славы и лавров похода Парижского. А утренним приказом по Изюмекому полку разжалованный в рядовые субалтерн-офицер Енголычев Павел был тем же чином всемилостивейше произведен в тот же полк.
XVII
Шли в поход гусары – дальняя дорога. От Сен-Мартенской заставы отодвигался Париж, померкая синеющими клубами тумана. Командир подал команду «на молитву».
Серебряная труба далеко играет поход. Марш-маршем потянулся полк. В дыму завился длительным воркованием голос запевалы:
Сей конь, кого и вихрь
В полях не обгонял…
Гусары расправляют усы, ждут, когда пристать к запевале. Полторацкий нагнал правофлангового Грача:
– В строю идет конь без седока. Похоже, конь Жигаря. А где вахмистр?
– Не могу знать, – наскоро ответил Грач, слушая запевалу. – Сбор трубили, вин не пришов. У Парыже остався, якая баба сманила…
Грач выпучил глаза, набрал воздуха в грудь и грянул со всем эскадроном:
Ах, Зара, як серно, пуглива была,
Як юное пальмо, у долини цвела…
Полторацкий пропустил эскадрон. Где Черт-Кентавр? Тоже нет.
Кентавр догоняет полк на полном маху. Он не один: с ним в седле Жиннетт. Соломенная шляпка сбилась, пребольно колотит по лицу. Кентавр радостно скалится.
В обозе он прыгнул с коня, отнес Жиннетт к карете с кожаным верхом, захлопнул дверцы, снова прыгнул в седло, догнал Полторацкого, обдал холодной грязью.
– Экой черт, где мешкал? – Полторацкий утер щеку плащом.
– Нимало не мешкал, веришь, с галопа в седло ее поднял. Она на крыльцах, а я с седла, вихрем. Веришь ли, отбивалась.
– Быть не может: вечор все с нею уговорил. Обещала ждать на рассвете.
– Точно, ждала, а вот отбивалась, ей-Богу… Царапалась. Кентавр сипло проржал и дал шпоры.
– Сущий черт…
Шли в поход гусары – дальняя дорога. Через месяц, а то через два, в тяжелых грязях Литвы под холодным дождем тянулись гусары, как унылое шествие конных монахов. Они обогнали гренадеров, завязших на дороге. Гренадеры, подторкнув полы шинелей под патронные ремни, с чавкающим звуком вытягивали из грязи чудовищные кеньги, облепленные глиной.
Гусарские кони свернули с дороги в размытое поле. Под конскими животами зашумела вода. Гренадеры, довольные, что можно на время не месить грязи, смотрели с дороги, оперев руки на ружья. Они ругались на гусар без злобы, по-матерному: им ништо шестиногим, ровно под ряской попы, к черту на свадьбу.
Граф Строганов отстегнул каретный кожух, косо забрызганный грязью.
Его карету и крытый фургон с дубовым гробом нагнали в Литве первые батальоны, которые уже возвращались из Парижа. Полторацкий посмотрел с дороги на незнакомого гренадерского генерала и вежливо поклонился. Граф приветливо кивнул головой. Полторацкий дал шпоры и поскакал по лужам за эскадроном, в поле.
Белокурый маленький гусар осунулся и похудел на обратном походе.
– Вот и отечество, – говорит он сам с собой. – Сколько победных арок прошли, сколько триумфальных ворот. На лицевой стороне «храброму воинству», на обратной «награда в отечестве». А какую награду помыслить России? Дал бы нам всем Господь Бог времена благоденственной свободы и мира… Как пустынно, как темно кругом, какой тоской встречает отечество победителей Европы…
А Кентавр не раз прыгал с седла в грязь и шагал пешим другого бока кареты.
– Пашью, Пашью, – часто звал его оттуда приятный женский голос.
Жадно, двумя руками, Кентавр ловил узкую руку, которую не раз подавали ему из каретного окна.
В гренадерском обозе, у телеги, крытой холщовым навесом, шагают с двух сторон капралы Аким и Михайло. Когда гусары пересекали дорогу, гренадерский обоз стал. К окну синей кареты, что тянулась с гусарским обозом, приникло лицо молодой женщины. Другая женщина в мокром чепце посмотрела на нее из-под холщового навеса гренадерской телеги. Взгляды путешественниц встретились. Полковые обозы разошлись.
Граф Строганов закинул кожух.
– Вот и мы трогаем, – сказал он Кошелеву, который сидел в углу кареты.
На обратном походе, догнав графа, Кошелев осторожно рассказал Павлу Александровичу о своей встрече в Париже с Теруань де Мерикур. Медики не допустили его к безумной, но он видел ее сверху, с дворовой галереи на госпитальном дворе. Он видел, как из затвора выползла старуха, как подняла наморщенное лицо, и ее бессмысленный реющий взгляд медленно обвел галерею, где стоял он.
Граф выслушал Кошелева покойно, потом тронул его колено прохладной рукой:
– Забудем, забудем, когда есть силы забыть. Такова судьба. Колеса шумели в лужах. Экипаж сотрясался и переваливался в грязи с бока на бок. Кошелев повторял слова графа:
– Судьба… Точно, судьба. Я не умею сказать, но когда вспоминаю все, что свершилось со мной и со всеми нами, думаю, как капля воды, носился я в океане. Волны человеческого океана гнало с нашей стороны и волны гнало оттуда и мы все словно бы растворились в сем чудесном движении… Москва погасла, Париж завоеван, и мы возвращаемся. Пахарь на Бородинском поле уже ведет мирную борозду. Но ни я, и никто другой не разумеет, к чему было сие, и почему мы были в гибели, и почему столь вознесены.
Граф легко и грустно улыбнулся.
– А все же, – сказал Кошелев, – не знаю почему, мне страшно думать о России. После победы еще страшнее думать о ней, чем когда горела Москва. И я несу в отечество некое чувство горечи, словно нечто не исполнено мною. Один ли я? Все несут из Европы домой подобное чувство не исполненного или не выполнимого для нас, горькое беспокойство… А может быть, такое чувство есть в нас голос судьбы, которая зовет, указует, а мы не знаем, куда зовет и на что указует.
Пожелтело каретное стекло, тусклое от пара. Дождь перешел. Земля курилась. За полем стояли громады желтоватых облаков. Они смутно были подобны римскому легиону, заснувшему в своем движении: уже тускнели прохладные медные щиты и пернатые шлемы зари.
В гренадерском обозе из-под холщового навеса телеги задумчиво смотрела на закат молодая женщина в чепце, крошка Сюзанн. Так же задумчиво смотрели в небо с телег больные солдаты, обозный офицер и куча еврейских ребят в балагуле, которая пристала к гренадерской колонне, перебираясь из одного местечка в другое…







