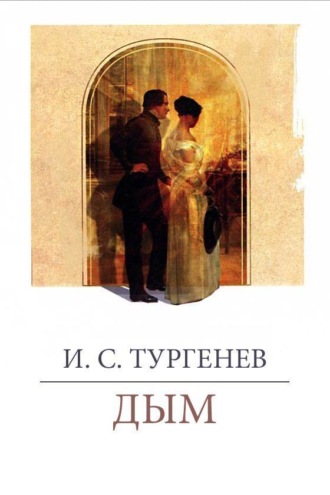
Иван Тургенев
Дым
I
10 августа 1862 года, в четыре часа пополудни, в Баден-Бадене, перед известною "Сопvеrsаtion" толпилось множество народа. Погода стояла прелестная; все кругом – зеленые деревья, светлые дома уютного города, волнистые горы, все празднично, полною чашей раскинулось под лучами благосклонного солнца; все улыбалось как-то слепо, доверчиво и мило, и та же неопределенная, но хорошая улыбка бродила на человечьих лицах, старых и молодых, безобразных и красивых. Самые даже насурьмленные, набеленные фигуры парижских лореток не нарушали общего впечатления ясного довольства и ликования, а пестрые ленты, перья, золотые и стальные искры на шляпках и вуалях невольно напоминали взору оживленный блеск и легкую игру весенних цветов и радужных крыл; одна лишь повсюду рассыпавшаяся сухая, гортанная трескотня французского жаргона не могла ни заменить птичьего щебетанья, ни сравниться с ним.
А впрочем, все шло своим порядком. Оркестр в павильоне играл то попурри из "Травиаты", то вальс Штрауса, то "Скажите ей", российский романс, положенный на инструменты услужливым капельмейстером; в игорных залах, вокруг зеленых столов, теснились те же всем знакомые фигуры, с тем же тупым и жадным, не то изумленным, не то озлобленным, в сущности хищным выражением, которое придает каждым, даже самым аристократическим чертам картежная лихорадка; тот же тучноватый и чрезвычайно щегольски одетый помещик из Тамбова, с тою же непостижимою, судорожною поспешностью, выпуча глаза, ложась грудью на стол и не обращая внимания на холодные усмешки самих "крупиэ", в самое мгновенье возгласа "Riеn nе vа рlus!" рассыпал вспотевшею рукою по всем четвероугольникам рулетки золотые кружки луидоров и тем самым лишал себя всякой возможности что-нибудь выиграть даже в случае удачи, что нисколько не мешало ему, в тот же вечер, с сочувственным негодованием поддакивать князю Коко, одному из известных предводителей дворянской оппозиции, тому князю Коко, который в Париже, в салоне принцессы Матильды, в присутствии императора, так хорошо сказал: "Маdате, lе principe de la propriete est profondement ebranle en Russie".
К русскому дереву – а l'Arble russe – обычным порядком собирались наши любезные соотечественники и соотечественницы; подходили они пышно, небрежно, модно, приветствовали друг друга величественно, изящно, развязно, как оно и следует существам, находящимся на самой высшей вершине современного образования, но, сойдясь и усевшись, решительно не знали, что сказать друг другу, и пробавлялись либо дрянненьким переливанием из пустого в порожнее, либо затасканными, крайне нахальными и крайне плоскими выходками давным-давно выдохшегося французского экс-литератора, в жидовских башмачонках на мизерных ножках и с презренною бородкой на паскудной мордочке, шута и болтуна. Он им врал, a ces princes russes, всякую пресную дребедень из старых альманахов "Шаривари" и "Тентамарра", а они, ces princes russes, заливались благодарным смехом, как бы невольно сознавая и подавляющее превосходство чужестранного умника, и собственную окончательную неспособность придумать что-нибудь забавное.
А между тем тут была почти вся "fine fieur" нашего общества, "вся знать и моды образцы". Тут был граф Х., наш несравненный дилетант, глубокая музыкальная натура, который так божественно "сказывает" романсы, а в сущности, двух нот разобрать не может, не тыкая вкось и вкривь указательным пальцем по клавишам, и поет не то как плохой цыган, не то как парижский коафер; тут был и наш восхитительный барон Z., этот мастер на все руки: и литератор, и администратор, и оратор, и шулер; тут был и князь Т., друг религии и народа, составивший себе во время оно, в блаженную эпоху откупа, громадное состояние продажей сивухи, подмешанной дурманом; и блестящий генерал О. О… который что-то покорил, кого-то усмирил и вот, однако, не знает, куда деться и чем себя зарекомендовать и Р. Р., забавный толстяк, который считает себя очень больным и очень умным человеком, а здоров как бык и глуп как пень…
Тот же Р. Р. почти один в наше время еще сохранил предания львов сороковых годов, эпохи "Героя нашего времени" и графини Воротынской. Он хранил и походку враскачку на каблуках, и "le culte de la pose" (по-русски этого даже сказать нельзя), и неестественную медлительность движений, и сонную величественность выражения на неподвижном, словно обиженном лице, и привычку, зевая, перебивать чужую речь, тщательно рассматривать собственные пальцы и ногти, смеяться в нос, внезапно передвигать шляпу с затылка на брови и т. д. и т. д. Тут были даже государственные люди, дипломаты, тузы с европейскими именами, мужи совета и разума, воображающие, что золотая булла издана папой и что английский "роог-tax" есть налог на бедных; тут были, наконец, и рьяные, но застенчивые поклонники камелий, светские молодые львы с превосходнейшими проборами на затылках, с прекраснейшими висячими бакенбардами, одетые в настоящие лондонские костюмы, молодые львы, которым, казалось, ничего не мешало быть такими же пошляками, как и пресловутый французский говорун; но нет! не в ходу, знать, у нас родное, – и графиня Ш., известная законодательница мод и гран-жанра, прозванная злыми языками "Царицей ос" и "Медузою в чепце", предпочитала, в отсутствии говоруна, обращаться к тут же вертевшимся итальянцам, молдаванцам, американским "спиритам", бойким секретарям иностранных посольств немчикам с женоподобною, но уже осторожною физиономией и т. п.
Подражая примеру графини, и княгиня Вabette, та самая, у которой на руках умер Шопен (в Европе считают около тысячи дам, на руках которых он испустил дух), и княгиня Аnnеttе, которая всем бы взяла, если бы по временам, внезапно, как запах капусты среди тончайшей амбры, не проскакивала в ней простая деревенская прачка; и княгиня Расhеtte, с которою случилось такое несчастие: муж ее попал на видное место и вдруг, Dieu sait pourquoi, прибил градского голову и украл двадцать тысяч рублей серебром казенных денег; и смешливая княжна Зизи, и слезливая княжна Зозо – все они оставляли в стороне своих земляков, немилостиво обходились с ними… Оставим же и мы их в стороне, этих прелестных дам, и отойдем от знаменитого дерева, около которого они сидят в таких дорогих, но несколько безвкусных туалетах, и пошли им господь облегчения от грызущей их скуки!
II
В нескольких шагах от "русского" дерева, за маленьким столом перед кофейней Вебера, сидел красивый мужчина лет под тридцать, среднего роста, сухощавый и смуглый, с мужественным и приятным лицом. Нагнувшись вперед и опираясь обеими руками на палку, он сидел спокойно и просто, как человек, которому и в голову не может прийти, чтобы кто-нибудь его заметил или занялся им. Его карие, с желтизной, большие, выразительные глаза медленно посматривали кругом, то слегка прищуриваясь от солнца, то вдруг упорно провожая какую-нибудь мимо проходившую эксцентрическую фигуру, причем быстрая, почти детская усмешка чуть-чуть трогала его тонкие усы, губы и выдающийся крутой подбородок. Одет он был в просторное пальто немецкого покроя, и серая мягкая шляпа закрывала до половины его высокий лоб. На первый взгляд он производил впечатление честного и дельного, несколько самоуверенного малого, каких довольно много бывает на белом свете. Он, казалось, отдыхал от продолжительных трудов и тем простодушнее забавлялся расстилавшеюся перед ним картиной, что мысли его были далеко, да и вращались они, эти мысли, в мире, вовсе не похожем на то, что его окружало в этот миг. Он был русский; звали его Григорием Михайловичем Литвиновым. Нам нужно с ним познакомиться, и потому приходится рассказать в коротких словах его прошедшее, весьма незатейливое и несложное.
Сын отставного служаки-чиновника из купеческого рода, он воспитывался не в городе, как следовало ожидать, а в деревне. Мать его была дворянка, из институток, очень доброе и очень восторженное существо, не без характера однако. Будучи двадцатью годами моложе своего мужа, она его перевоспитала, насколько могла, перетащила его из чиновничьей колеи в помещичью, укротила и смягчила его дюжий, терпкий нрав.
По ее милости он стал и одеваться опрятно, и держаться прилично, и браниться бросил; стал уважать ученых и ученость, хотя, конечно, ни одной книги в руки не брал, и всячески старался не уронить себя: даже ходить стал тише и говорил расслабленным голосом, все больше о предметах возвышенных, что ему стоило трудов немалых. "Эх! взял бы да выпорол!" – думал он иногда про себя, а вслух произносил: "Да, да, это… конечно; это вопрос". Дом свой мать Литвинова тоже поставила на европейскую ногу; слугам говорила "вы" и никому не позволяла за обедом наедаться до сопения. Что же касается до имения, ей принадлежавшего, то ни она сама, ни муж ее ничего с ним сделать не сумели: оно было давно запущено, но многоземельно, с разными угодьями, лесами и озером, на котором когда-то стояла большая фабрика, заведенная ревностным, но безалаберным барином, процветавшая в руках плута-купца и окончательно погибшая под управлением честного антрепренера из немцев.
Госпожа Литвинова уже тем была довольна, что не расстроила своего состояния и не наделала долгов. К несчастью, здоровьем она похвалиться не могла и скончалась от чахотки в самый год поступления ее сына в Московский университет. Он не кончил курса по обстоятельствам (читатель узнает о них впоследствии) и угодил в провинцию, где потолокся несколько времени без дела, без связей, почти без знакомых. По милости не расположенных к нему дворян его уезда, проникнутых не столько западною теорией о вреде "абсентеизма" сколько доморощенным убеждением, что "своя рубашка к телу ближе, он в 1855 году попал в ополчение и чуть не умер от тифа в Крыму, где, не видав не одного "союзника", простоял шесть месяцев в землянке на берегу Гнилого моря; потом послужил по выборам, конечно не без неприятностей, и, пожив в деревне, пристрастился к хозяйству. Он понимал, что имение его матери, плохо и вяло управляемое его одряхлевшим отцом, не давало и десятой доли тех доходов, которые могло бы давать, и что в опытных и знающих руках оно превратилось бы в золотое дно; но он также понимал, что именно опыта и знания ему недоставало, и он отправился за границу учиться агрономии и технологии, учиться с азбуки. Четыре года с лишком провел он в Мекленбурге, в Силезии, в Карлсруэ, ездил в Бельгию, в Англию, трудился добросовестно, приобрел познания: нелегко они ему давались; но он выдержал искус до конца, и вот теперь, уверенный в самом себе, в своей будущности, в пользе, которую он принесет своим землякам, пожалуй, даже всему краю, он собирается возвратиться на родину, куда с отчаянными заклинаниями и мольбами в каждом письме звал его отец, совершенно сбитый с толку эманципацией, разверстанием угодий, выкупными сделками новыми порядками, одним словом… Но зачем же он в Бадене?
А затем он в Бадене, что он со дня на день ожидает приезда туда своей троюродной сестры и невесты – Татьяны Петровны Вестовой. Он знал ее чуть не с детства и провел с ней весну и лето в Дрездене, где она поселилась с своей теткой. Он искренно любил, он глубоко уважал свою молодую родственницу и, окончив свою темную, приготовительную работу, собираясь вступить на новое поприще, начать действительную, не коронную службу, предложил ей, как любимой женщине, как товарищу и другу, соединить свою жизнь с его жизнью – на радость и на горе, на труд и на отдых, "for better for worse", как говорят англичане. Она согласилась, и он отправился в Карлсруэ, где у него оставались книги, вещи, бумаги… Но почему же он в Бадене, спросите вы опять?
А потому он в Бадене, что тетка Татьяны, ее воспитавшая, Капитолина Марковна Шестова, старая девица пятидесяти пяти лет, добродушнейшая и честнейшая чудачка, свободная душа, вся горящая огнем самопожертвования и самоотвержения; esprit fort (она Штрауса читала – правда, тихонько от племянницы) и демократка, заклятая противница большого света и аристократии, не могла устоять против соблазна хотя разочек взглянуть на самый этот большой свет в таком модном месте, каков Баден…
Капитолина Марковна ходила без кринолина и стригла в кружок свои белые волосы, но роскошь и блеск тайно волновали ее, и весело и сладко было ей бранить и презирать их… Как же было не потешить добрую старушку? Но оттого-то Литвинов так спокоен и прост, оттого он так самоуверенно глядит кругом, что жизнь его отчетливо ясно лежит пред ним, что судьба его определилась и что он гордится этою судьбой и радуется ей, как делу рук своих.
III
– Ба! ба! ба! вот он где! – раздался вдруг над самым его ухом пискливый голос, и отекшая рука потрепала его по плечу. Он поднял голову – и узрел одного из своих немногочисленных московских знакомых, некоего Бамбаева, человека хорошего, из числа пустейших, уже немолодого, с мягкими, словно разваренными щеками и носом, взъерошенными жирными волосами и дряблым тучным телом. Вечно без гроша и вечно от чего-нибудь в восторге, Ростислав Бамбаев шлялся с криком, но без цели, по лицу нашей многосносной матушки-земли.
– Вот, что называется, встреча! – повторял он, расширяя заплывшие глаза и выдвигая пухлые губки, над которыми странно и неуместно торчали крашеные усы. Ай да Баден! Все сюда как тараканы лезут. Как ты сюда попал?
Бамбаев "тыкал" решительно всех на свете.
– Я четвертого дня сюда приехал.
– Откуда?
– Да на что тебе знать?
– Как на что! Да постой, постой, тебе, может быть неизвестно, кто еще сюда приехал? Губарев! Сам, своей особой! Вот кто здесь! Вчера из Гейдельберга прикатил. Ты, конечно, с ним знаком?
– Я слышал о нем.
– Только-то? Помилуй! Сейчас, сию минуту мы тебя к нему потащим. Этакого человека не знать! Да вот кстати и Ворошилов… Постой, ты, пожалуй, и с ним незнаком? Честь имею вас друг другу представить. Оба ученые! Этот даже феникс! Поцелуйтесь! И, сказав эти слова, Бамбаев обратился к стоявшему возле него красивому молодому человеку с свежим и розовым, но уже серьезным лицом. Литвинов приподнялся и, разумеется, не поцеловался, а обменялся коротеньким поклоном с "фениксом", которому, судя по строгости осанки, не слишком понравилось это неожиданное представление
– Я сказал: феникс, и не отступаю от своего слова, – продолжал Бамбаев, ступай в Петербург, в – й корпус, и посмотри на золотую доску: чье там имя стоит первым? Ворошилова Семена Яковлевича! Но Губарев, Губарев, братцы мои!! Вот к кому бежать, бежать надо!
Я решительно благоговею перед этим человеком! Да не я один, все сподряд благоговеют. Какое он теперь сочинение пишет, о…о…о!..
– О чем это сочинение? – спросил Литвинов.
– Обо всем, братец ты мой, вроде, знаешь, Бекля… только поглубже, поглубже…Все там будет разрешено и приведено в ясность.
– А ты сам читал это сочинение.
– Нет, не читал, и это даже тайна, которую не следует разглашать; но от Губарева всего можно ожидать всего! Да! – Бамбаев вздохнул и сложил руки. Что, если б еще такие две, три головы завелись у нас на Руси, ну что бы это было, господи боже мой! Скажу тебе одно, Григорий Михайлович: чем бы ты ни занимался в это последнее время, – а я и не знаю, чем ты вообще занимаешься, какие бы ни были твои убеждения, – я их тоже не знаю, – но у него, у Губарева, ты найдешь чему поучиться. К несчастию, он здесь ненадолго. Надо воспользоваться, надо идти. К нему, к нему!
Проходивший франтик с рыжими кудряшками и голубою лентою на низкой шляпе обернулся и с язвительною усмешкой посмотрел сквозь стеклышко на Бамбаева. Литвинову досадно стало.
– Что ты кричишь? – промолвил он, – словно гончую на след накликаешь! Я еще не обедал.
– Что ж такое! Можно сейчас у Вебера… втроем… Отлично! У тебя есть деньги заплатить за меня? – прибавил он вполголоса.
– Есть-то есть; только я, право, не знаю…
– Перестань, пожалуйста; ты меня благодарить будешь, и он рад будет… Ах, боже мой! – перебил самого себя Бамбаев. – Это они финал из "Эрнани" играют. Что за прелесть!.. А som…so Сarlo… Экой, однако, я! Сейчас в слезы. Ну, Семен Яковлевич! Ворошилов! Идем, что ли?
Ворошилов, который все еще продолжал стоять неподвижно и стройно, сохраняя прежнее, несколько горделивое достоинство осанки, знаменательно опустил глаза, нахмурился и промычал что-то сквозь зубы… но не отказался; а Литвинов подумал: "Что же! проделаем и это, благо время есть". Бамбаев взял его под руку, но, прежде чем направился в кофейную, кивнул пальцем Изабелле, известной цветочнице Жокей-клуба: ему вздумалось взять у ней букет. Но аристократическая цветочница не пошевельнулась; да и с какой стати было ей подходить к господину без перчаток, в запачканной плисовой куртке, пестром галстухе и стоптанных сапогах, которого она и в Париже-то никогда не видала?
Тогда Ворошилов в свою очередь кивнул ей пальцем. К нему она подошла, и он, выбрав в ее коробке крошечный букет фиалок, бросил ей гульден. Он думал удивить ее своею щедростью; но она даже бровью не повела и, когда он от нее отвернулся, презрительно скорчила свои стиснутые губы. Одет Ворошилов был очень щегольски, даже изысканно, но опытный глаз парижанки тотчас подметил в его туалете, в его турнюре, в самой его походке, носившей следы разновременной военной выправки, отсутствие настоящего, чистокровного "шику".
Усевшись у Вебера в главной зале и заказав обед, знакомцы наши вступили в разговор. Бамбаев громко и с жаром потолковал о высоком значении Губарева, но скоро умолк и, шумно вздыхая и жуя, хлопал стакан за стаканом. Ворошилов пил и ел мало, словно нехотя, и, расспросив Литвинова о роде его занятий, принялся высказывать собственные мнения… не столько об этих занятиях, сколько вообще о различных "вопросах"…
Он вдруг оживился и так и помчался, как добрый конь, лихо и резко отчеканивая каждый слог, каждую букву, как молодец-кадет на выпускном экзамене, и сильно, но не в лад размахивая руками. С каждым мгновением он становился все речистей, все бойчей, благо никто его не прерывал: он словно читал диссертацию или лекцию. Имена новейших ученых, с прибавлением года рождения или смерти каждого из них, заглавия только что вышедших брошюр, вообще имена, имена, имена – дружно посыпались с его языка, доставляя ему самому высокое наслаждение, отражавшееся в его запылавших глазах. Ворошилов, видимо, презирал всякое старье, дорожил одними сливками образованности, последнею, передовою точкой науки; упомянуть, хотя бы некстати, о книге какого-нибудь доктора Зауэрбенгеля о пенсильванских тюрьмах или о вчерашней статье в "Азиатик джернал" о Ведах и Пуранах (он так и сказал: "Джернал", хотя, конечно, не знал по-английски) – было для него истинною отрадой, благополучием. Литвинов слушал его, слушал и никак не мог понять, какая же, собственно, его специальность? То он вел речь о роли кельтийского племени в истории, то его уносило в древний мир, и он рассуждал об эгинских мраморах, напряженно толковал о жившем до Фидиаса ваятеле Онатасе, который, однако, превращался у него в Ионатана и тем на миг наводил на все его рассуждение не то библейский, не то американский колорит; то он вдруг перескакивал в политическую экономию и называл Бастиа дураком и деревяшкой, "не хуже Адама Смита и всех физиократов…" – "Физиократов! – прошептал ему вслед Бамбаев… – Аристократов?.." Между прочим, Ворошилов вызвал выражение изумления на лице того же самого Бамбаева небрежно и вскользь кинутым замечанием о Маколее, как о писателе устарелом и уже опереженном наукой; что же до Гнейста и Риля, то он объявил, что их стоит только назвать, и пожал плечами. Бамбаев также плечами пожал.
"И все это разом, безо всякого повода, перед чужими, в кофейной, размышлял Литвинов, глядя на белокурые волосы, светлые глаза, белые зубы своего нового знакомца (особенно смущали его эти крупные сахарные зубы да еще эти руки с их неладным размахом), – и не улыбнется ни разу; а со всем тем, должно быть, добрый малый и крайне неопытный…"
Ворошилов угомонился, наконец; голос его, юношески звонкий и хриплый, как у молодого петуха, слегка порвался… Кстати ж, Бамбаев начал декламировать стихи и опять чуть не расплакался, что произвело впечатление скандала за одним соседним столом, около которого поместилось английское семейство, и хихиканье за другим: две лоретки обедали за этим вторым столом с каким-то престарелым младенцем в лиловом парике. Кельнер принес счет; приятели расплатились.
– Ну, – воскликнул Бамбаев, грузно приподнимаясь со стула, – теперь чашку кофе, и марш! Вон она, однако, наша Русь, – прибавил он, остановившись в дверях и чуть не с восторгом указывая своей мягкой, красною рукой на Ворошилова и Литвинова… – Какова?
"Да, Русь", – подумал Литвинов; а Ворошилов, который уже опять успел придать лицу своему сосредоточенное выражение, снисходительно улыбнулся и слегка щелкнул каблуками.
Минут через пять они все трое поднимались вверх по лестнице гостиницы, где остановился Степан Николаевич Губарев… Высокая стройная дама в шляпке с короткою черною вуалеткой проворно спускалась с той же лестницы и, увидав Литвинова, внезапно обернулась к нему и остановилась, как бы пораженная изумлением. Лицо ее мгновенно вспыхнуло и потом так же быстро побледнело под частой сеткой кружева; но Литвинов ее не заметил, и дама проворнее прежнего побежала вниз по широким ступеням.







