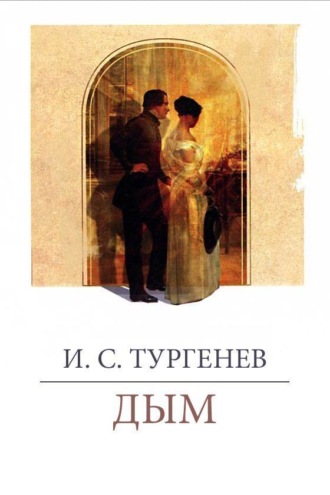
Иван Тургенев
Дым
XIX
Литвинов проворно всходил по лестнице Ноtel de l'Europe… Девочка лет тринадцати, с калмыцким лукавым личиком, которая, по-видимому, его караулила, остановила его, сказавши ему по-русски: "Пожалуйте сюда; Ирина Павловна сейчас придут". Он посмотрел на нее с недоумением. Она улыбнулась, повторила: "Пожалуйте, пожалуйте", – и ввела его в небольшую комнату, находившуюся напротив Ирининой спальни и наполненную дорожными сундуками и чемоданами, а сама тотчас исчезла, легохонько притворивши дверь. Не успел Литвинов оглянуться, как та же дверь быстро распахнулась и в розовом бальном платье, с жемчугом в волосах и на шее, появилась Ирина. Она так и бросилась к нему, схватила его за обе руки и несколько мгновений оставалась безмолвной; глаза ее сияли и грудь поднималась, словно она взбежала на высоту.
– Я не могла принять… вас там, – начала она торопливым шепотом, – мы сейчас едем на званый обед, но я непременно хотела вас видеть… Ведь это ваша невеста была, с которой я вас встретила сегодня?
– Да, это была моя невеста, – проговорил Литвинов, упирая на слове "была".
– Так вот я хотела увидать вас на одну минуту, чтобы сказать вам, что вы должны считать себя совершенно свободным, что все то, что произошло вчера, не должно нисколько менять ваши решения…
– Ирина! – воскликнул Литвинов, – зачем ты это говоришь?
Он произнес эти слова громким голосом… Беззаветная страсть прозвучала в них. Ирина на миг невольно закрыла глаза.
– О, мой милый! – продолжала она шепотом еще более тихим, но с увлечением неудержимым, – ты не знаешь, как я тебя люблю, но вчера я только долг свой заплатила, я загладила прошедшую вину… Ах! я не могла отдать тебе мою молодость, как бы я хотела, но никаких обязанностей я не наложила на тебя, ни от какого обещания я не разрешила тебя, мой милый! Делай что хочешь, ты свободен как воздух, ты ничем не связан, знай это, знай!
– Но я не могу жить без тебя, Ирина, – перебил ее уже шепотом Литвинов, – я твой навек и навсегда со вчерашнего дня… Только у ног твоих могу я дышать…
Он трепетно припал к ее рукам. Ирина посмотрела на его наклоненную голову.
– Ну так знай же, – промолвила она, – что и я на все готова, что и я не пожалею никого и ничего. Как ты решишь, так и будет. Я тоже навек твоя… твоя. Кто-то осторожно постучался в дверь. Ирина нагнулась, еще раз шепнула: "Твоя… прощай!" – Литвинов почувствовал на волосах своих ее дыхание, прикосновение ее губ. Когда он выпрямился, ее уже не было в комнате, только платье ее прошумело в коридоре и издали послышался голос Ратмирова: "Еh bien! Vous ne venez pas?". Литвинов присел на высокий сундук и закрыл себе лицо. Женский запах, тонкий и свежий, повеял на него… Ирина держала его руки в своих руках. "Это слишком… слишком", – думалось ему. Девочка вошла в комнату и, снова улыбнувшись в ответ на его тревожный взгляд, промолвила:
– Извольте идти-с, пока…
Он встал и вышел из гостиницы. Нечего было и думать тотчас возвратиться домой: надо было остепениться. Сердце в нем билось протяжно и неровно; земля, казалось, слабо двигалась под ногами. Литвинов опять отправился по Лихтенталевской аллее. Он понимал, что наступало мгновенье решительное, что откладывать дальше, скрываться, отворачиваться – становилось невозможным, что объяснение с Татьяной неизбежно; он представлял, как она там сидит и не шевелится и ждет его… он предчувствовал, что он ей скажет; но как приступить, как начать?
Он махнул рукой на все свое правильное, благоустроенное, добропорядочное будущее: он знал, что он бросается очертя голову в омут, куда и заглядывать не следовало… Но не это его смущало. То дело было поконченное, а как предстать перед своего судью? И хоть бы точно судья его встретил – ангел с пламенным мечом: легче было бы преступному сердцу… а то еще самому придется нож вонзать… Безобразно! А вернуться назад, отказаться от того, другого, воспользоваться свободой, которую ему сулят, которую признают за ним… Нет! лучше умереть! Нет, не надо той постылой свободы… а низвергнуться в прах, и чтобы те глаза с любовию склонились…
– Григорий Михайлыч! – промолвил чей-то печальный голос, и чья-то рука тяжело легла на Литвинова.
Он оглянулся не без испуга и узнал Потугина.
– Извините меня, Григорий Михайлыч, – начал тот с обычной своей ужимкой, я, может бытъ, вас обеспокоил, но, увидав вас издали, я подумал… Впрочем, если вам не до меня…
– Напротив, я очень рад, – процедил сквозь зубы Литвинов.
Потугин пошел с ним рядом.
– Прекрасный вечер, – начал он, – так тепло! Вы давно гуляете?
– Нет, недавно.
– Да что же я спрашиваю; я видел, как вы шли из Нotel de l'Europe.
– Так вы за мной шли следом?
– Да.
– Вы имеете мне что сказать?
– Да, – чуть слышно повторил Потугин.
Литвинов остановился и посмотрел на своего непрошеного собеседника. Лицо его было бледно, глаза блуждали; давнишнее, старое горе, казалось, выступило на его искаженных чертах.
– Что же, собственно, такое вы хотите мне сказать? – медленно проговорил Литвинов и опять двинулся вперед.
– А вот позвольте… сейчас. Если вам все равно – присядемте вот тут на скамеечку. Здесь будет удобнее.
– Да это что-то таинственное, – промолвил Литвинов, садясь возле него. – Вам словно не по себе, Созонт Иваныч.
– Нет, мне ничего; и таинственного тоже ничего нет. Я, собственно, хотел вам сообщить… то впечатление, которое произвела на меня ваша невеста… ведь она, кажется, ваша невеста?.. ну, словом, та девица, с которой вы меня сегодня познакомили. Я должен сказать, что я в течение всей своей жизни не встречал существа более симпатичного. Это золотое сердце, истинно ангельская душа.
Потугин произнес все эти слова с тем же горьким и скорбным видом, так что даже Литвинов не мог не заметить странного противоречия между выражением его лица и его речами.
– Вы совершенно справедливо оценили Татьяну Петровну, – начал Литвинов, хотя мне приходится удивляться, во-первых, тому, что вам известны мои отношения к ней, а во-вторых, и тому, как скоро вы ее разгадали. У ней, точно, ангельская душа; но позвольте узнать, вы об этом хотели со мной беседовать?
– Ее нельзя не разгадать тотчас, – подхватил Потугин, как бы уклоняясь от последнего вопроса, – стоит ей раз заглянуть в глаза. Она заслуживает всевозможного счастья на земле, и завидна доля того человека, которому придется доставить ей это счастье! Нужно желать, чтоб он оказался достойным подобной доли.
Литвинов нахмурился слегка. – Позвольте, Созонт Иваныч, – промолвил он, – я, признаюсь, нахожу наш разговор вообще довольно оригинальным… Я хотел бы знать: намек, который содержат ваши слова, относится ко мне?
Потугин не тотчас отвечал Литвинову: он, видимо, боролся сам с собою.
– Григорий Михайлыч, – начал он наконец, – или я совершенно ошибся в вас, или вы в состоянии выслушать правду, от кого бы она ни шла и под какой бы невзрачной оболочкой она ни явилась. Я сейчас сказал вам, что видел, откуда вы шли.
– Ну да, из Ноtel de l'Europe. Что же из того?
– Ведь я знаю, с кем вы там виделись!
– Как?
– Вы виделись с госпожой Ратмировой.
– Ну да, я был у ней. Что же далее?
– Что далее?.. Вы, жених Татьяны Петровны, вы виделись с госпожою Ратмировой, которую вы любите… и которая любит вас.
Литвинов мгновенно приподнялся со скамейки; кровь ударила ему в голову.
– Что это? – промолвил он наконец озлобленным, сдавленным голосом, плоская шутка, шпионство? Извольте объясниться.
Потугин бросил на него унылый взгляд.
– Ах! не оскорбляйтесь моими словами, Григорий Михайлыч; меня же вы оскорбить не можете. Не для того заговорил я с вами, и не до шуток мне теперь.
– Может быть, может быть. Я готов верить в чистоту ваших намерений; но я все-таки позволю себе спросить вас, с какого права вы вмешиваетесь в домашние дела, в сердечную жизнь чужого человека и на каком основании вы вашу… выдумку так самоуверенно выдаете за правду?
– Мою выдумку! Если б я это выдумал, вы бы не рассердились! А что до права, то я еще не слыхивал, чтобы человек поставил себе вопрос: имеет ли он право или нет протянуть руку утопающему.
– Покорно благодарю за заботливость, – подхватил запальчиво Литвинов, только я вовсе не нуждаюсь в ней, и все эти фразы о гибели, уготовляемой светскими дамами неопытным юношам, о безнравственности высшего света и так далее считаю именно за фразы и даже в некотором смысле презираю их; а потому прошу вас не утруждать своей спасительной десницы и преспокойно позволить мне утонуть.
Потугин опять поднял глаза на Литвинова. Он трудно дышал, губы его подергивало.
– Да посмотрите вы на меня, молодой человек, – вырвалось у него наконец, и он стукнул себя в грудь, – неужели я похож на дюжинного, самодовольного моралиста, на проповедника? Разве вы не понимаете, что из одного участия к вам, как бы сильно оно ни было, я бы слова не проронил, не дал бы вам права упрекнуть меня в том, что пуще всего мне ненавистно, – в нескромности, в назойливости? Разве вы не видите, что тут дело совсем другого рода, что перед вами человек разбитый, разрушенный, окончательно уничтоженный тем самым чувством, от последствий которого он желал бы предохранить вас, и… и к той же самой женщине!
Литвинов отступил шаг назад.
– Возможно ли! что вы сказали?.. Вы… вы… Созонт Иваныч? Но госпожа Бельская… этот ребенок…
– Ах, не расспрашивайте меня… верьте мне! То темная, страшная история, которую я вам рассказывать не стану. Госпожу Бельскую я почти не знал, ребенок этот не мой, а взял я все на себя… потому… потому что она того хотела, потому что ей это было нужно.
Зачем бы я находился здесь, в вашем противном Бадене? И, наконец, неужели вы полагаете, неужели вы на одну минуту могли вообразить, что я из сочувствия к вам решился предостеречь вас? Мне жаль той доброй, хорошей девушки, вашей невесты, а впрочем, какое мне дело до вашей будущности, до вас обоих?.. Но я за нее боюсь… за нее.
– Много чести, господин Потугин, – начал Литвинов, – но так как мы, по вашим словам, находимся оба в одинаковом положении, то почему же вы самому себе не читаете подобных наставлений, и не должен ли я приписать ваши опасения другому чувству?
– То есть ревности, хотите вы сказать? Эх, молодой человек, молодой человек, стыдно вам финтить и лукавить, стыдно не понять, какое горькое горе говорит теперь моими устами. Нет, не в одинаковом мы положении с вами! Я, я, старый, смешной, вполне безвредный чудак… а вы!
Да что тут толковать! Вы ни на одну секунду не согласились бы принять на себя ту роль, которую я разыгрываю, и разыгрываю с благодарностью! А ревность? Не ревнует тот, у кого нет хоть бы капли надежды, и не теперь бы мне пришлось испытать это чувство впервые. Мне только страшно…страшно за нее, поймите вы это. И мог ли я ожидать, когда она посылала меня к вам, что чувство вины, которую она признавала за собою, так далеко ее завлечет?
– Но позвольте, Созонт Иваныч, вы как будто знаете…
– Я ничего не знаю и знаю все. Я знаю, – прибавил он и отвернулся, – я знаю, где она была вчера. Но ее не удержать теперь: она, как брошенный камень, должна докатиться до дна. Я был бы еще большим безумцем, если бы вообразил, что слова мои тотчас удержат вас… вас, которому такая женщина… Но полно об этом. Я не мог переломить себя, вот все мое извинение. Да и, наконец, как знать и почему не попытаться? Может быть, вы одумаетесь; может быть, какое-нибудь мое слово западет вам в душу, вы не захотите погубить и ее, и себя, и то невинное, прекрасное существо… Ах! не сердитесь, не топайте ногой! Чего мне бояться, чего церемониться? Не ревность говорит во мне теперь, не досада… Я готов упасть к вашим ногам, умолять вас… А впрочем, прощайте. Не бойтесь, все это останется в тайне. – Я желал вам добра. Потугин зашагал по аллее и скоро исчез в уже надвигавшемся мраке… Литвинов его не удерживал.
"Страшная, темная история. эх – говорил Потугин Литвинову и не хотел ее рассказывать… Коснемся и мы ее всего двумя словами.
Лет за восемь перед тем ему пришлось быть временно прикомандированным от своего министерства к графу Рейзенбаху. Дело происходило летом. Потугин ездил к нему на дачу, с бумагами и проводил там целые дни. Ирина жила тогда у графа. Она никогда не гнушалась людей, низко поставленных, по крайней мере не чуждалась их, и графиня не раз пеняла ей за ее излишнюю, московскую фамильярность. Ирина скоро отгадала умного человека в этом скромном чиновнике, облеченном в мундирный, доверху застегнутый фрак. Она часто и охотно беседовала с ним… а он… он полюбил ее страстно, глубоко, тайно… Тайно!
Он так думал. Прошло лето; граф перестал нуждаться в постороннем помощнике. Потугин потерял Ирину из виду, но забыть ее не мог. Года три спустя он совершенно неожиданно получил приглашение от одной мало знакомой ему дамы средней руки. Дама эта сперва немного затруднилась высказаться, но, взяв с него клятву сохранить все, что он услышит, в величайшем секрете, предложила ему… жениться на одной девице, которая занимала видное положение в свете и для которой свадьба стала необходимостью. На главное лицо дама едва решилась намекнуть и тут же обещала Потугину денег… много денег.
Потугин не оскорбился, удивление заглушило в нем чувство гнева, но, разумеется, отказался наотрез. Тогда дама вручила ему записку к нему – от Ирины. "Вы благородный, добрый человек, – писала она, – и я знаю, вы для меня все сделаете; я прошу у вас этой жертвы. Вы спасете существо, мне дорогое. Спасая ее, вы спасете и меня… Не спрашивайте – как. Я ни к кому не решилась бы обратиться с подобною просьбой, но к вам я протягиваю руки и говорю вам: сделайте это для меня". Потугин задумался и сказал, что для Ирины Павловны он, точно, готов сделать многое, но хотел бы услышать ее желание из ее же уст. Свидание состоялось в тот же вечер; оно продолжалось недолго, и никто не знал о нем, кроме той дамы. Ирина не жила уже у графа Рейзенбаха.
– Почему вы вспомнили именно обо мне? – спросил ее Потугин.
Она начала было распространяться об его хороших качествах, да вдруг остановилась…
– Нет, – промолвила она, – вам надобно правду говорить. Я знала, я знаю, что вы меня любите, вот отчего я решилась… – И тут же рассказала ему все.
Эльза Бельская была сирота; родственники ее не любили и рассчитывали на ее наследство… Ей предстояла гибель. Спасая ее, Ирина действительно оказывала услугу тому, кто был всему причиной и кто сам теперь стал весьма близок к ней, к Ирине… Потугин молча, долго посмотрел на Ирину – и согласился. Она заплакала и вся в слезах бросилась ему на шею. И он заплакал… но различны были их слезы. Уже все приготовлялось к тайному браку, мощная рука устранила все препятствия… Но случилась болезнь… а там родилась дочь, а там мать… отравилась.
Что было делать с ребенком? Потугин взял его на свое попечение из тех же рук, из рук Ирины.
Страшная, темная история… Мимо, читатель, мимо!
– Больше часу прошло еще, прежде чем Литвинов решился вернуться в свою гостиницу. Он уже приближался к ней, как вдруг услышал шаги за собой. Казалось, кто-то упорно следил за ним и шел скорее, когда он прибавлял шагу. Подойдя под фонарь, Литвинов оглянулся и узнал генерала Ратмирова. В белом галстухе, в щегольском пальто нараспашку, с вереницей звездочек и крестиков назолотой цепочке в петле фрака, генерал возвращался с обеда, один. Взгляд его, прямо и дерзко устремленный на Литвинова, выражал такое презрение и такую ненависть, вся его фигура дышала таким настойчивым вызовом, что Литвинов почел своею обязанностью пойти, скрепя сердце, ему навстречу, пойти на "историю". Но, поравнявшись с Литвиновым, лицо генерала мгновенно изменилось: опять появилось на нем обычное игривое изящество, и рука в светло-лиловой перчатке высоко приподняла вылощенную шляпу. Литвинов молча снял свою, и каждый пошел своею дорогой.
"Верно, заметил что-нибудь!" – подумал Литвинов. "Хоть бы… другой кто-нибудь!" – подумал генерал.
Татьяна играла в пикет с своею теткой, когда Литвинов вошел к ним в комнату.
– Однако хорош ты, мой батюшка! – воскликнула Капитолина Марковна и бросила карты на стол. – В первый же день, да на целый вечер пропал! Уж мы ждали вас, ждали, бранили, бранили…
– Я, тетя, ничего не говорила, – заметила Татьяна.
– Ну, ты известная смиренница! Стыдитесь, милостивый государь! Еще жених!
Литвинов кое-как извинился и подсел к столу.
– Зачем же вы перестали играть? – спросил он после небольшого молчания.
– Вот тебе на! Мы с ней в карты от скуки играем, когда делать нечего… а теперь вы пришли.
– Если вам угодно послушать вечернюю музыку..– промолвил Литвинов, – я с великою охотой провожу вас. Капитолина Марковна посмотрела на свою племянницу.
– Пойдемте, тетя, я готова, – сказала та, – но не лучше ли остаться дома?
– И то дело! Будемте чай пить, по-нашему, по-московскому, с самоваром; да поболтаемте хорошенько. Мы еще не покалякали как следует.
Литвинов велел принести чаю, но поболтать хорошенько не удалось. Он чувствовал постоянное угрызение совести; что бы он ни говорил, ему все казалось, что он лжет и что Татьяна догадывается. А между тем в ней не замечалось перемены; она так же непринужденно держалась… только взор ее ни разу не останавливался на Литвинове, а как-то снисходительно и пугливо скользил по нем – и бледнее она была обыкновенного.
Капитолина Марковна спросила ее, не болит ли у ней голова?
Татьяна хотела было сперва отвечать, что нет, но, одумавшись, сказала: "Да, немножко".
– С дороги, – промолвил Литвинов и даже покраснел от стыда.
– С дороги, – повторила Татьяна, и взор ее опять скользнул по нем.
– Надо тебе отдохнуть, Танечка.
– Я и так скоро спать лягу, тетя.
На столе лежал "Guide des Voyageurs"; Литвинов принялся читать вслух описание баденских окрестностей.
– Все это так, – перебила его Капитолина Марковна, – но вот что не надо забыть. Говорят, здесь полотно очень дешево, так вот бы купить для приданого.
Татьяна опустила глаза.
– Успеем, тетя. Вы о себе никогда не думаете, а вам непременно надо сшить себе платье. Видите, какие здесь все ходят нарядные.
– Э, душа моя! к чему это? Что я за щеголиха! Добро бы я была такая красивая, как эта ваша знакомая, Григорий Михайлыч, как бишь ее?
– Какая знакомая?
– Да вот, что мы встречали сегодня.
– А, та! – с притворным равнодушием проговорил Литвинов, и опять гадко и стыдно стало ему. "Нет! – подумал он, – этак продолжать невозможно".
Он сидел подле своей невесты, а в нескольких вершках расстояния от нее, в боковом его кармане, находился платок Ирины.
Капитолина Марковна вышла на мипуту в другую комнату.
– Таня… – сказал с усилием Литвинов. Он в первый раз в тот день назвал ее этим именем.
Она обернулась к нему.
– Я… я имею сказать вам нечто очень важное.
– А! В самом деле? Когда? Сейчас?
– Нет, завтра.
– А! завтра. Ну, хорошо.
Бесконечная жалость мгновенно наполнила душу Литвинова. Он взял руку Татьяны и поцеловал ее смиренно, как виноватый; сердце в ней тихонько сжалось, и не порадовал ее этот поцелуй.
Ночью, часу во втором, Капитолина Марковна, которая спала в одной комнате с своей племянницей, вдруг приподняла голову и прислушалась.
– Таня! – промолвила она, – ты плачешь?
Татьяна не тотчас отвечала.
– Нет, тетя, – послышался ее кроткий голосок, – у меня насморк.
XX
"Зачем я это ей сказал?" – думал на следующее утро Литвинов, сидя у себя в комнате, перед окном. Он с досадой пожал плечами: он именно для того и сказал это Татьяне, чтоб отрезать себе всякое отступление. На окне лежала записка от Ирины; она звала его к себе к двенадцати часам. Слова Потугина беспрестанно приходили ему на память; они проносились зловещим, хотя слабым, как бы подземным гулом; он сердился и никак не мог отделаться от них. Кто-то постучался в дверь.
– Wer da? – спросил Литвинов.
– А! вы дома! Отоприте! – раздался хриплый бас Биндасова.
Ручка замка затрещала.
Литвинов побледнел со злости.
– Нет меня дома, – промолвил он резко.
– Как нет дома? Это еще что за штука?
– Говорят вам – нет дома; убирайтесь.
– Вот это мило! А я пришел было денежек попризанять, – проворчал Биндасов.
Однако он удалился, стуча, по обыкновению, каблуками.
Литвинов чуть не выскочил ему вслед: до того захотелось ему намять шею противному наглецу. События последних дней расстроили его нервы: еще немного и он бы заплакал. Он выпил стакан холодной воды, запер, сам не зная зачем, все ящики в мебелях и пошел к Татьяне.
– Он застал ее одну. Капитолина Марковна отправилась по магазинам за покупками. Татьяна сидела на диване и держала обеими руками книжку: она ее не читала и едва ли даже знала, что это была за книжка. Она не шевелилась, но сердце сильно билось в ее груди, и белый воротничок вокруг ее шеи вздрагивал заметно и мерно.
Литвинов смутился… однако сел возле нее, поздоровался, улыбнулся: и она безмолвно ему улыбнулась. Она поклонилась ему, когда он вошел, поклонилась вежливо, не по-дружески – и не взглянула на него. Он протянул ей руку; она подала ему свои похолодевшие пальцы, тотчас высвободила их и снова взялась за книжку.
Литвинов чувствовал, что начать беседу с предметов маловажных значило оскорбить Татьяну; она, по обыкновению, ничего не требовала, но все в ней говорило: "Я жду, я жду…" Надо было исполнить обещание. Но он – хотя почти всю ночь ни о чем другом не думал, – он не приготовил даже первых, вступительных слов и решительно не знал, каким образом перервать это жестокое молчание.
– Таня, – начал он наконец, – я сказал вам вчера, что имею сообщить вам нечто важное (он в Дрездене наедине с нею начинал говорить ей "ты", но теперь об этом и думать было нечего). Я готов, только прошу вас заранее не сетовать на меня и быть уверенной, что мои чувства к вам…
Он остановился. Ему дух захватило. Татьяна все не шевелилась и не глядела на него, только крепче прежнего стискивала книгу.
– Между нами, – продолжал Литвинов, не докончив начатой речи, – между нами всегда была полная откровенность; я слишком уважаю вас, чтобы лукавить с вами; я хочу доказать вам, что умею ценить возвышенность и свободу вашей душе, и хотя я… хотя, конечно…
– Григорий Михайлыч, – начала Татьяна ровным голосом, и все лицо ее покрылось мертвенною бледностью, – я приду вам на помощь: вы разлюбили меня и не знаете, как мне это сказать.
Литвинов невольно вздрогнул.
– Почему же?.. – проговорил он едва внятно. – Почему вы могли подумать?.. Я, право, не понимаю…
– Что же, не правда это? Не правда это, скажите? скажите?
Татьяна повернулась к Литвинову всем телом; лицо ее с отброшенными назад волосами приблизилось к его лицу, и глаза ее, так долго на него не глядевшие, так и впились в его глаза
– Не правда это? – повторила она.
Он ничего не сказал, не произнес ни одного звука. Он бы не мог солгать в это мгновение, если бы даже знал, что она ему поверит и что его ложь спасет ее; он даже взор ее вынести был не в силах. Литвинов ничего не сказал, но она уже не нуждалась в ответе; она прочла этот ответ в самом его молчании, в этих виноватых, потупленных глазах – и откинулась назад и уронила книгу… Она еще сомневалась до того мгновенья, и Литвинов это понял; он понял, что она еще сомневалась – и как безобразно, действительно безобразно было все, что он сделал!
Он бросился перед нею на колени.
– Таня, – воскликнул он, – если бы ты знала, как мне тяжело видеть тебя в этом положении, как ужасно мне думать, что это я… я! У меня сердце растерзано; я сам себя не узнаю; я потерял себя, и тебя, и все… Все разрушено, Таня, все! Мог ли я ожидать, что я… я нанесу такой удар тебе, моему лучшему другу, моему ангелу – хранителю!.. Мог ли я ожидать, что мы так с тобой увидимся, такой проведем день, каков был вчерашний!..
Татьяна хотела было встать и удалиться. Он удержал ее за край ее одежды.
– Нет, выслушай меня еще минуту. Ты видишь, я перед тобою на коленях, но не прощения пришел я просить – ты не можешь и не должна простить меня, – я пришел тебе сказать, что друг твой погиб, что он падает в бездну и не хочет увлекать тебя с собою… А спасти меня…нет! даже ты не можешь спасти меня. Я сам бы оттолкнул тебя… Я погиб, Таня, я безвозвратно погиб! Татьяна посмотрела на Литвинова.
– Вы погибли? – проговорила она, как бы не вполне его понимая. – Вы погибли?
– Да, Таня, я погиб. Все прежнее, все дорогое, все, чем я доселе жил, погибло для меня; все разрушено, все порвано, и я не знаю, что меня ожидает впереди. Ты сейчас мне сказала, что я разлюбил тебя… Нет, Таня, я не разлюбил тебя, но другое, страшное, неотразимое чувство налетело, нахлынуло на меня. Я противился, пока мог.
Татьяна встала; ее брови сдвинулись; бледное лицо потемнело. Литвинов тоже поднялся.
– Вы полюбили другую женщину, – начала она, – и я догадываюсь, кто она… Мы с ней вчера встретились, не правда ли?.. Что ж! Я знаю, что мне теперь остается делать. Так как вы сами говорите, что это чувство в вас неизменно… (Татьяна остановилась на миг; быть может, она еще надеялась, что Литвинов не пропустит этого последнего слова без возражения, но он ничего не сказал) то мне остается возвратить вам… ваше слово.
Литвинов наклонил голову, как бы с покорностью принимая заслуженный удар.
– Вы имеете право негодовать на меня, – промолвил он, – вы имеете полное право упрекать меня в малодушии… в обмане.
Татьяна снова посмотрела на него.
– Я не упрекала вас, Литвинов, я не обвиняю вас. Я с вами согласна: самая горькая правда лучше того, что происходило вчера. Что за жизнь теперь была бы наша!
"Что за жизнь будет моя теперь!" – скорбно отозвалось в душе Литвинова.
Татьяна приблизилась к двери спальни.
– Я вас прошу оставить меня одну на несколько времени, Григорий Михайлыч, мы еще увидимся, мы еще потолкуем. Все это было так неожиданно. Мне надо немного собраться с силами… оставьте меня… пощадите мою гордость. Мы еще увидимся.
И, сказав эти слова, Татьяна проворно удалилась и заперла за собою дверь на ключ.
Литвинов вышел на улицу как отуманенный, как оглушенный; что-то темное и тяжелое внедрилось в самую глубь его сердца; подобное ощущение должен испытать человек, зарезавший другого, и между тем легко ему становилось, как будто он сбросил, наконец, ненавистную ношу. Великодушие Татьяны его уничтожило, он живо чувствовал все, что он терял… И что же? К раскаянию его примешивалась досада; он стремился к Ирине как к единственно оставшемуся убежищу – и злился на нее.
С некоторых пор и с каждым днем чувства Литвинова становились все сложнее и запутаннее; эта путаница мучила, раздражала его, он терялся в этом хаосе. Он жаждал одного: выйти наконец на дорогу, на какую бы то ни было, лишь бы не кружиться более в этой бестолковой полутьме. Людям положительным, вроде Литвинова, не следовало бы увлекаться страстью; она нарушает самый смысл их жизни… Но природа не справляется с логикой, с нашей человеческою логикой: у ней есть своя, которую мы не понимаем и не признаем до тех пор, пока она нас, как колесом, не переедет.
Расставшись с Татьяной, Литвинов держал одно в уме: увидеться с Ириной; он и отправился к ней.
Но генерал был дома, так, по крайней мере, сказал ему швейцар, и он не захотел войти, он не чувствовал себя в состоянии притвориться и поплелся к Конверсационсгаузу.
Неспособность Литвинова притворяться в этот день испытали на себе и Ворошилов и Пищалкин, которые попались ему навстречу: он так и брякнул одному, что он пуст, как бубен, другому, что он скучен до обморока; хорошо еще, что Биндасов не подвернулся: наверное, произошел бы "grosser Scandal".
Оба молодые человека изумились; Ворошилов даже вопрос себе поставил: не требует ли офицерская честь удовлетворения? – но, как гоголевский поручик Пирогов, успокоил себя в кофейной бутербродами.
Литвинов увидал издали Капитолину Марковну, хлопотливо перебегавшую в своей пестрой мантилье из лавки в лавку… Совестно стало ему перед доброю, смешною, благородною старушкой. Потом он вспомнил о Потугине, о вчерашнем разговоре… Но вот что-то повеяло на него, что-то неосязаемое и несомненное; если бы дуновение шло от падающей тени, оно бы не было неуловимее, но он тотчас почувствовал, что это приближалась Ирина. Действительно: она появилась в нескольких шагах от него под руку с другой дамой; глаза их тотчас встретились.
Ирина, вероятно, заметила что-то особенное в выражении лица у Литвинова; она остановилась перед лавкой, в которой продавалось множество крошечных деревянных часов шварцвальдского изделия, подозвала его к себе движением головы и, показывая ему одни из этих часиков, прося его полюбоваться миловидным циферблатом с раскрашенной кукушкой наверху, промолвила не шепотом, а обыкновенным своим голосом, как бы продолжая начатую фразу, – оно меньше привлекает внимание посторонних:
– Приходите через час, я буду дома одна.
Но тут подлетел к ней известный дамский угодник мсье Вердие и начал приходить в восторг от цвета feuille morte ее платья, от ее низенькой испанской шляпки, надвинутой на самые брови… Литвинов исчез в толпе.







