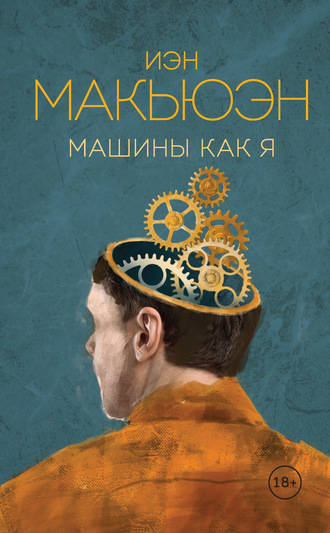
Иэн Макьюэн
Машины как я
Посвящается Грэму Митчисону (1944–2018)
Но наш закон должны вы все-таки принять; Не различаем мы, где правда, а где ложь…
Редьярд Киплинг, Секрет машин[1]
Ian McEwan
MACHINES LIKE ME
Copyright © Ian McEwan 2019
© Шепелев Д., перевод на русский язык, 2019
© Издание на русском языке. ООО «Издательство «Эксмо», 2019
1
Это было чаянием религиозного порядка, святым граалем науки. Наши амбиции простирались везде и всюду – претворить в жизнь миф о сотворении через чудовищный акт себялюбия. Как только это стало возможным, мы не могли не поддаться такому соблазну – и будь что будет. Выражаясь возвышенным слогом, мы вознамерились избегнуть смертности, бросить вызов или даже заместить Бога-творца, создав собственное идеальное подобие. Говоря приземленнее, мы задались целью разработать улучшенную, обновленную версию самих себя и, достигнув в этом мастерства, возликовать в изобретательском экстазе. Наконец-то на закате двадцатого века был сделан первый шаг на пути исполнения древней мечты и положено начало долгого урока, который мы должны будем усвоить, состоящего в том, что при всей нашей неоднозначности и ущербности, при всех сложностях описания даже наших простейших действий и способов бытия мы поддаемся имитации и улучшению. И мне довелось оказаться на этом зябком рассвете, будучи молодым человеком, исполненным наивности и энтузиазма, в роли приемного родителя.
Однако образ успел стать клише задолго до того, как появились первые искусственные люди, поэтому некоторые восприняли их с разочарованием. Воображение – смелее, чем история и технический прогресс, – уже проработало это будущее в книгах, фильмах и телесериалах, как будто актеры с особым остекленелым взглядом, дергаными движениями головы и скованной осанкой могли подготовить к жизни с нашими будущими собратьями.
Я относился к оптимистам и стал обладателем неожиданных средств, полученных от продажи фамильного дома после смерти матери, который, как оказалось, был расположен в дорогом районе застройки. Первый по-настоящему полноценный искусственный человек с адекватным интеллектом и внешностью, правдоподобными движениями и мимикой поступил в продажу за неделю до начала безнадежной Фолклендской кампании[2]. Адам стоил восемьдесят шесть тысяч фунтов стерлингов. Арендовав микроавтобус, я привез его к себе домой, в мою неприглядную квартирку в Северном Клэпеме. Это было безрассудное решение, но меня обнадеживала новость, что сэр Алан Тьюринг[3], герой войны и непревзойденный гений цифрового века, заказал себе такую же модель. Он, вероятно, собирался разобрать ее на части в своей лаборатории, чтобы досконально изучить внутреннее устройство.
Двенадцать роботов первой партии носили имя Адам, тринадцать – Ева. Подход мещанский – все это признавали, – впрочем, коммерчески оправданный. Соображения о строгом расовом различии были отброшены наукой, так что эти двадцать пять экземпляров представляли собой широкое этническое разнообразие. Пошли слухи, а позднее жалобы, что робота-араба невозможно отличить от робота-еврея. Произвольное программирование и личные наклонности давали всем полную свободу в сексуальных предпочтениях. К концу первой недели все Евы были раскуплены. Мой Адам для постороннего наблюдателя мог сойти за турка или грека. Он весил 170 фунтов[4], так что мне пришлось обратиться за помощью к Миранде, соседке сверху, чтобы втащить его в дом на прилагавшихся к нему одноразовых носилках.
Пока заряжались батареи, я сварил нам с Мирандой кофе, а затем пролистал 470-страничную электронную инструкцию. Ее язык, по большей части, отличался ясностью и четкостью. Но Адам был совместным продуктом нескольких фирм, и местами инструкция напоминала очаровательную поэму-нонсенс. «Извлеките наружу вверх вставку B347k для безопасного доступа к эмограмме с выходом на материнскую плату для смягчения полутонов эмоциональных перепадов».
Итак, картон и пенопласт лежали у его ног, а обнаженный Адам сидел с закрытыми глазами за моим крошечным кухонным столом, и из пупка у него выходил черный шнур, подключенный к стенной розетке мощностью в тринадцать ампер[5]. Для зарядки требовалось шестнадцать часов. С последующей загрузкой обновлений и личных предпочтений. Я хотел, чтобы он ожил прямо сейчас, Миранда тоже желала этого. Словно молодые родители, мы жадно ждали его первых слов. Как мы знали из восторженной рекламы, он говорил не с помощью дешевой звуковой системы, скрытой в грудной клетке, но образовывал звуки речи за счет собственного дыхания, языка, зубов и неба. Его кожа, казавшаяся живой, уже была теплой на ощупь и нежной, как у ребенка. Миранда утверждала, что видит, как шевелятся его глаза под веками. Я же был уверен, что она видит вибрацию от движения подземки, проходившей в сотне футов под нами, но я ничего не сказал.
Адам не был секс-игрушкой. Тем не менее он был способен заниматься сексом и обладал слизистыми оболочками, для работы которых ему требовалось потреблять пол-литра воды ежедневно. Глядя на него, сидевшего у стола, я не мог не отметить его густую и темную лобковую растительность и необрезанный член внушительных размеров. Эта высококлассная модель искусственного человека, несомненно, отражала пристрастия своих молодых разработчиков. Адамы и Евы – так было задумано – должны отличаться цветущим видом.
В рекламе его преподносили как компаньона, партнера по интеллектуальным баталиям, друга и личного помощника, который мог мыть посуду, заправлять постель и «думать». Каждый миг своего существования он записывал все, что слышал и видел, и мог использовать эти данные. Однако ему не разрешалось водить автомобиль, плавать и принимать душ или находиться под дождем без зонта, а также работать с цепной пилой без присмотра. Что касается продолжительности работы, то – спасибо превосходным аккумуляторным батареям – он мог пробегать до семнадцати километров за два часа без подзарядки или, в виде эквивалента энергозатрат, вести общение в течение двенадцати дней. Жизненный цикл Адама составлял двадцать лет. У него была аккуратная фигура, угловатые плечи, смуглая кожа и густые темные волосы, зачесанные назад; узкое лицо с чуть крючковатым носом, как бы намекавшим на острый ум, задумчивые глаза под тяжелыми веками и плотно сжатые губы, цвет которых менялся на наших глазах от трупного изжелта-белого до насыщенного телесного, а уголки рта словно чуть расслаблялись. Миранда сказала, что он напоминает ей «портового грузчика с Босфора».
Перед нами сидел венец индустрии развлечений, воплощенная мечта веков, триумф гуманизма или же его ангел смерти. Он будоражил сверх всякой меры, но и вызывал досаду – смотреть на него и ждать шестнадцать часов. Я думал, что за ту сумму, что я уплатил после ланча, Адам будет уже полностью заряжен и в рабочем состоянии. За окном был промозглый день, клонившийся к вечеру. Я поджарил тосты, и мы выпили еще кофе. Миранда, стипендиат-докторант по социальной истории, сказала, что хотела бы, чтобы рядом с нами была юная Мэри Шелли, лицезрящая не монстра Франкенштейна, а этого обретающего жизнь очаровательного смуглокожего молодого человека. Я сказал, что оба эти создания имеют кое-что общее – для оживления им требуется электричество.
– Как и нам, – сказала она так, словно имела в виду только нас двоих, а не всех представителей человечества и их электрохимические процессы.
Ей исполнилось двадцать два года, и она была на десять лет моложе меня, хотя выглядела старше. Спустя десятилетия я думаю, что разница была не так уж велика. Мы оба были восхитительно молоды. Но я считал, что мы находимся на разных жизненных этапах. Мое формальное образование было давно окончено. Я считал себя слишком побитым жизнью и безнадежным циником для такой славной молодой женщины, как Миранда. И пусть она была прекрасна – светло-русые волосы, тонкое продолговатое лицо и вдумчивые глаза с затаенной смешинкой – и пусть в какие-то моменты я смотрел на нее в изумлении, я изначально отвел ей роль доброй, дружелюбной соседки. Мы то и дело сталкивались в прихожей, а ее квартирка располагалась прямо над моей. Мы периодически заглядывали друг к другу на чашку кофе и болтали об отношениях, политике и всяком таком. Она держалась потрясающе нейтрально и, казалось, с радостью приняла бы любое развитие событий. У меня было такое ощущение, что вечер интимной близости со мной для нее был бы равнозначен целомудренной дружеской беседе. Она была со мной совершенно естественна, и я внушил себе, что секс все бы испортил. Так что мы оставались приятелями. Но в ней была какая-то манящая загадка, что-то тайное. Возможно, я, сам того не зная, был влюблен в нее уже много месяцев. Сам того не зная? Что за дурацкая отговорка!
Мы с неохотой согласились на какое-то время отвлечься от Адама и друг от друга. У Миранды намечался семинар на северной стороне реки, а мне нужно было писать электронные письма. Когда-то цифровая коммуникация считалась верхом удобства, но к началу семидесятых она утратила ощущение новизны и сделалась обычным рабочим инструментом. Как и поезда со скоростью двести пятьдесят километров в час – грязные и забитые до отказа. Устройства с распознаванием речи – чудо пятидесятых – давно стали повседневностью, так что теперь массы людей ежедневно гробят несколько часов своего времени, упражняясь в красноречии перед машиной. А интерфейс с мысленным управлением – дикий плод жизнелюбивых шестидесятых – теперь не способен увлечь даже ребенка. То, ради чего люди отстаивали очереди все выходные, полгода спустя увлекало их не больше, чем собственные носки. Что стало со шлемами умственной прокачки и говорящими холодильниками, распознающими запахи? Они разделили судьбу ковриков для мыши, борсеток с калькуляторами, электрических резаков и наборов для фондю. А будущее продолжало манить нас из прекрасного далека. Наши дивные новые игрушки успевали заржаветь еще до того, как мы доставляли их домой, а жизнь шла своим чередом.
Сможет ли наскучить Адам? Нелегко диктовать письма, когда ты с трудом подавляешь мандраж перед новой покупкой. Несомненно, новые люди и новые умы будут продолжать нас очаровывать. Учитывая, что искусственные люди становятся все более похожими на нас, они должны со временем сравняться с нами, а затем превзойти, так что наскучить нам они не смогут. Удивление – вот неизменное чувство, вызываемое ими. От них можно ожидать любого самого невероятного подвоха. Они могут стать источником трагедии, но никак не скуки.
Но руководство пользователя всегда наводило на меня тоску. Инструкции. Я был убежден, что любая машина, принцип управления которой не очевиден пользователю, себя не оправдывает. Повинуясь давней привычке, я распечатывал руководство и искал скоросшиватель. И продолжал диктовать письма.
Я не мог считать себя «пользователем» Адама. Я полагал, что всему, что понадобится знать о нем, он сможет научить меня сам. Но руководство у меня в руках раскрылось на четырнадцатой главе – и вот, пожалуйста: предпочтения; личностные параметры. И заголовки: доброжелательность; экстраверсия; открытость новым впечатлениям; добросовестность; эмоциональная устойчивость. Этот перечень был мне знаком. Пять факторов модели личности. Как человек с гуманитарным образованием, я воспринимал такую категоричность с подозрением, хотя мой приятель, психолог, говорил, что каждая из этих категорий подразделяется на множество подгрупп. Взглянув на следующую страницу, я увидел, что мне нужно установить различные настройки по десятибалльной шкале.
Я-то ожидал, что получу друга. Я собирался относиться к Адаму как к гостю в моем доме, как к незнакомцу, с которым мне предстоит познакомиться. Я думал, он прибудет ко мне с оптимальными настройками. Заводские настройки – современный синоним судьбы. Друзья, родственники и подруги – все они входили в мою жизнь с «готовыми настройками», с набором качеств, определявшихся генами и внешней средой. И я ожидал того же от своего нового дорогостоящего друга. Зачем мне с этим ковыряться? Но я, разумеется, знал ответ. Мало кто из нас имеет оптимальные настройки. Добрый Иисус? Смиренный Дарвин? По одному на каждые тысячу восемьсот лет. Даже если бы наилучшие, наименее вредоносные качества личности были известны, что было невероятно, корпорация с мировым именем и безупречной репутацией не могла пойти на такой риск. Caveat emptor[6].
Когда-то Бог послал на благо своему Адаму полностью готовую спутницу. Я же должен был разработать себе спутника самостоятельно. Передо мной была экстраверсия и размеченный по баллам набор детских утверждений. «Он любит быть стержнем и душой компании» и «Он знает, как увлечь людей и повести их за собой». И в самом низу: «Он испытывает дискомфорт в присутствии других людей» и «Он предпочитает держаться в стороне». А вот что было посередине: «Он любит побыть в хорошей компании, но всегда рад вернуться домой». Это про меня. Но следует ли мне создавать собственную копию? Если бы я выбирал средние значения по каждой шкале, я мог бы создать воплощенную посредственность. Антонимом которой, похоже, была экстраверсия. Там имелся длинный перечень определений с окошками для галочек: гуляка, застенчивый, темпераментный, болтливый, замкнутый, хвастливый, скромный, дерзкий, энергичный, прихотливый. И я не хотел ничего из этого – ни для него, ни для себя.
За исключением отдельных безумных решений большая часть моей жизни, особенно когда у меня никого не было, проходила в состоянии эмоциональной нейтральности, когда моя личность – что бы она собой ни представляла – пребывала в режиме автопилота. Я не был ни дерзким, ни замкнутым. Я просто был – не в радости и не в печали – и решал какие-то задачи, думал о еде или о сексе, глазел на экран, принимал душ. Мимолетные сожаления о прошлом, периодическая тревога за будущее и редкие моменты осознания настоящего, не считая очевидной чувственной реальности. Психология, когда-то уделявшая столько внимания бесчисленным проявлениям психических аномалий, теперь была увлечена тем, что считала всеобщими эмоциями, – от скорби до восторга. Но она упускала из виду значительную часть повседневного существования: при отсутствии болезней, голода, войны и других факторов стресса большая часть жизни проходит в нейтральной зоне, в знакомом саду, только сером, ничем не примечательном, о котором мы почти не думаем и с трудом можем описать.
В то время я не мог знать, что эти размеченные по баллам установки повлияют на Адама мало. Действительно важным фактором было то, что называлось «машинным обучением». Справочник пользователя просто давал людям иллюзию влияния и контроля, подобную той, что испытывают родители в отношении своих детей. Это была уловка, призванная привязать меня к покупке и обеспечить юридическую защиту производителя. «Дайте себе время, – советовало руководство. – Выбирайте осмотрительно. Если нужно, пусть это займет у вас несколько недель».
Через полчаса я снова взглянул на него. Никаких изменений. Все так же сидит за столом, вытянув руки перед собой, с закрытыми глазами. Но мне показалось, что его иссиня-черные волосы чуть взъерошились и поблескивали, словно после душа. Подойдя ближе, я с восторгом заметил, что, несмотря на отсутствие дыхания, в левой части груди стал просматриваться пульс, устойчивый и спокойный, частотой, насколько я мог определить, примерно раз в секунду. Меня это приободрило. У него не было крови, чтобы качать ее по телу, но имитация производила впечатление. Мои сомнения слегка улеглись. Возникло побуждение заботиться об Адаме, хотя я понимал его абсурдность. Я протянул к нему руку и приложил к области сердца, ощутив ладонью мерную, ровную пульсацию. Я почувствовал, что нарушаю его личное пространство, так легко верилось в показатели биологической активности. Тепло его кожи, твердость и эластичность мускулов под ней – мой разум говорил мне, что это пластик или что-то подобное, но чувства уверяли, что я касаюсь живой плоти.
Жутковатое было ощущение – стоять перед голым человеком и отмечать в себе борьбу между тем, что я знал и что чувствовал. Я зашел ему за спину, отчасти из опасения, что он откроет глаза и увидит, как я над ним нависаю. Шея и спина у него были мускулистыми. Линию плеч отмечала темная поросль. Ягодицы и икры также казались атлетически рельефными. Мне не хотелось супермена. Я снова запоздало пожалел, что не выбрал Еву.
На выходе из комнаты я оглянулся и пережил одно из тех мгновений, которые способны нас обескуражить, – шокирующее осознание очевидного, абсурдно внезапное принятие того, что ты и так уже знал. Я стоял, положив одну руку на дверную ручку. Должно быть, это озарение нашло на меня из-за наготы Адама, из-за его физического присутствия, хотя я не смотрел на него. Я смотрел на масленку. А также на две тарелки и чашки, два ножа и две ложки, лежавшие на столе. Следы моего долгого вечера с Мирандой. Два деревянных стула были отставлены от стола и компанейски повернуты друг к другу.
За последний месяц мы как-то сблизились. И общались так свободно. Я понял, как она мне дорога и как могу потерять ее по своей беспечности. Я уже должен был что-то ей сказать. А не принимать как должное. Между нами могло встать любое происшествие, любой человек, какой-нибудь соученик. Ее лицо, ее голос, все ее поведение – и сдержанное, и прямодушное – так отчетливо увиделись мне. И то, как она брала меня за руку, когда бывала растерянна или чем-то увлечена. Да, мы стали очень близки, и я не успел заметить, как это случилось. Я был идиотом. Я должен был ей признаться.
Я вернулся в свой кабинет, служивший мне также спальней. Между кроватью и столом оставалось достаточно места, чтобы прохаживаться взад-вперед. Теперь мысль о том, что Миранда ничего не знает о моих чувствах, наполняла меня тревогой. Меня охватывало смущение, когда я пытался представить, как скажу ей об этом, я боялся ее возможной реакции. Она была моей соседкой, другом, почти что сестрой. Но я даже толком не знал ее. И когда я скажу ей об этом, ей придется как бы выйти на свет, снять маску и говорить со мной такими словами, каких я от нее никогда еще не слышал. Мне так жаль… Ты мне очень нравишься, но, видишь ли… Или это может ужаснуть ее. Но что, если она будет несказанно счастлива, услышав то, о чем сама мечтала, но так же боялась услышать отказ.
Так совпало, что в тот момент мы оба были свободны. Должно быть, она уже думала об этом, думала о нас. Это была не такая уж невозможная фантазия. Мне придется сказать ей об этом прямо, лицом к лицу. Невыносимо. Неизбежно. И так я ходил по кругу, уговаривая себя все сильнее. Не находя покоя, я опять вышел за дверь. Пересек кухню к холодильнику и вынул полбутылки белого бордо. Адам все так же сидел на месте. Я сел напротив него и поднял бокал. За любовь. Теперь он не вызывал у меня прежней теплоты. Я увидел Адама именно тем, чем он был, – синтетическим парнем, чей пульс объяснялся устойчивыми электроразрядами, а кожа была теплой просто из-за химии. Когда он зарядится, какой-то микроскопический маховик даст ему сигнал открыть глаза. Он как будто увидит меня, хотя на самом деле будет слеп. Точнее, незряч. Когда он активируется, другая система обеспечит ему видимость дыхания, но не сделает его живым. Человек, переживающий новую влюбленность, знает, что значит быть живым.
Если бы я не потратил наследство на Адама, я мог бы купить жилье на северной стороне реки, где-нибудь в районе Ноттинг-Хилла или Челси. Миранда могла бы даже жить со мной. У меня хватило бы места для всех ее книг, сложенных в коробках в гараже ее отца в Солсбери. Я увидел будущее без Адама, будущее, которое было моим до вчерашнего дня: городской дом с садом, высокие потолки с лепниной, кухня из нержавейки, старые друзья заходят на обед. И повсюду книги. Что же делать? Я мог взять его – эту электронную куклу – и вернуть в магазин или продать на интерактивном рынке с небольшой уценкой. Я смерил Адама враждебным взглядом. Его руки лежали ладонями вниз на столе, ястребиное лицо было по-прежнему наклонено. Мое ребяческое увлечение железками! Еще один набор для фондю. Я заставил себя отойти от стола, пока с досады не уничтожил свой капитал ударом старого отцовского гвоздодера.
Я выпил примерно полбокала и вернулся в спальню, намереваясь погрузиться в валютные рынки Азии. Но все время пытался услышать шаги в квартире сверху. Поздним вечером я включил телик, посмотреть на Тактическую группу, которую вскоре перебросят за тринадцать тысяч километров над океаном, чтобы вернуть Британии острова, известные в прошлом как Фолклендские.
* * *
Мне было тридцать два года, и у меня в кармане не было ни гроша. То, что я потратил материнское наследство на свою причуду, стало только частью моей проблемы, однако весьма показательной. Всякий раз, как у меня заводились деньги, я делал так, что они тут же исчезали, – сжигал на волшебном костре, засовывал в цилиндр и вынимал индейку. Часто, хотя и не в этом случае, я пытался заполучить гораздо большие деньги малыми усилиями. Но в денежных махинациях, в любых полулегальных схемах и хитрых комбинациях для быстрого обогащения я был простофилей. Мне удавались только широкие и красивые жесты, тогда как другие действовали с умом и процветали. Они брали кредиты, вкладывали их под проценты и оставались в плюсе даже после уплаты долгов. Или у них были должности, профессии, как когда-то у меня, и они богатели более скромными, но устойчивыми темпами. Я же тем временем разбазаривал добро, повергая себя в благородные руины, а точнее, в двухкомнатную сырую квартирку на первом этаже, в глухом углу южного Лондона, между Стокуэллом и Клэпемом, с узкими улочками, не менявшимися с начала века.
Я вырос в сельской местности неподалеку от Стратфорда, в Уорикшире, и был единственным ребенком в семье музыканта и участковой медсестры. Если сравнивать меня с Мирандой, можно сказать, что в детстве я культурно голодал. У меня не было ни времени, ни места для книг или хотя бы для музыки. Поначалу я увлекся электроникой, но в итоге получил степень по антропологии во второразрядном колледже в Южном Мидлендсе; потом перевелся на курс переподготовки по юриспруденции и, сдав вступительный экзамен, выбрал специализацию в налогообложении. Через неделю после двадцать девятого дня рождения я был лишен права практики и чуть не попал за решетку. Сто часов общественных работ внушили мне стойкое отвращение к любой постоянной работе. Я получил немного денег за книгу про искусственный интеллект, которую написал наскоком, – и погорел на схеме с чудо-таблетками. Выручил неплохую сумму за сделку с имуществом – и погорел на схеме с арендой автотранспорта. Мне перепало немного ценных бумаг от любимого дяди, разбогатевшего на патенте теплового насоса, – и я погорел на схеме с медицинской страховкой.
В свои тридцать два я выживал игрой на интерактивной фондовой бирже. Очередная схема. По семь часов в день я сидел, склонившись над клавиатурой, покупая, продавая, сомневаясь, хватая воздух и ругаясь, по крайней мере, поначалу. Я читал рыночные сводки, но считал, что имею дело с произвольной системой, и полагался в основном на чутье. Бывало, вырывался вперед, бывало, плелся в хвосте, но в среднем по итогам года заработал не больше, чем почтальон. Я оплачивал жилье, в те времена дешевое, неплохо питался и одевался и считал, что моя жизнь понемногу обретает стабильность и я учусь быть в ладу с собой. Я убедил себя, что с тридцати до сорока я переплюну предыдущее десятилетие по всем показателям.
Но так совпало, что одновременно с поступлением в продажу первого реалистичного искусственного человека был продан дом моих родителей. 1982[7] год. Роботы, андроиды, репликанты были моей давней страстью, которая в процессе моей работы над книгой только выросла. Цены должны были вскоре снизиться, но я хотел своего робота прямо сейчас – по возможности, Еву, но сойдет и Адам.
Все могло бы повернуться по-другому. Моя бывшая подруга, Клэр, обладала чуткой душой и училась на помощницу стоматолога. Она проходила практику на Харли-стрит и наверняка сумела бы отговорить меня от покупки Адама. Она была женщиной, умудренной в делах мира, этого мира. Она знала, как навести порядок в жизни. И не только в своей. Но я нанес ей оскорбление действием, не оставлявшим сомнений в моей неверности. И она отвергла меня, устроив сцену монаршей ярости, под конец выбросив мои шмотки из окна на улицу Лайм-Гроув[8]. С тех пор она оборвала со мной все контакты, а я занес ее на первое место в список своих ошибок и неудач. А ведь она могла бы спасти меня от меня.
Но. Справедливости ради дадим слово этому неспасенному мне. Я купил Адама не с целью наживы. Мои помыслы были чисты. Я отдал за него состояние во имя любознательности, этого извечного двигателя науки, интеллектуальной жизни и жизни вообще. Это не было мимолетной причудой. У этого были история, учетная запись, срочный вклад – и я имел на него право. Электроника и антропология – дальние родственники, которых свел вместе и повенчал покойный модернизм. Отпрыском этого союза стал Адам.
И вот я перед вами, свидетель защиты, после школы, в пять часов вечера, типичный представитель своего времени одиннадцати лет – короткие штанишки, разбитые коленки, веснушки, стрижка с челкой. Я стою первый в очереди перед дверью лаборатории, ожидая открытия «Монтажного клуба». Председательствует мистер Кокс, добрый рыжеволосый великан, учитель физики. Мой учебный проект – собрать радио. Это акт веры, долгая молитва, растянувшаяся на много недель. У меня имеется основа из оргалита, шесть на девять дюймов, которую легко сверлить. Цвета предельно важны. По основе аккуратно проложены синий, красный, желтый и белый проводки, поворачивая под прямыми углами, исчезая и снова появляясь в других местах, перемежаемые яркими узлами, а также крохотные полосатые цилиндры – конденсаторы и резисторы, индукционная катушка, которую я сам намотал, и операционный усилитель. Я ничего в этом не понимаю. Я следую за чертежом монтажа как неофит, бормочущий Священное Писание. Мистер Кокс дает советы мягким голосом. Я неловко припаиваю одну часть – проводок или деталь – к другой. Дым и запах припоя для меня как наркотик, и я глубоко его вдыхаю. Я вставляю в устройство бакелитовый переключатель, который, как я убедил себя, когда-то стоял на истребителе, несомненно «Спитфайре»[9]. Конечное соединение, установленное через три месяца после начала работы, было сделано из того же темно-коричневого пластика и подсоединялось к девятивольтовой батарейке.
За окном – холодные мартовские сумерки. Другие мальчишки тоже склонились над своими проектами. Мы в двенадцати милях от родного города Шекспира, в общеобразовательной школе, типичном образце «учебного болота». Отличное место на самом деле. Включаются флуоресцентные потолочные лампы. Мистер Кокс в дальнем конце лаборатории, спиной к нам. Мне не хочется привлекать его внимание на случай, если я сплоховал. Я нажимаю на переключатель и – о чудо – слышу помехи статики. Покачиваю подвижный настроечный конденсатор – и звучит музыка, на мой вкус, жуткая, ибо скрипочки. Затем прорезается женский голос, говорящий не по-английски.
Никто не смотрит в мою сторону, никому не интересно. Сборка радио – сущая ерунда. Но у меня перехватывает дыхание, и в глазах стоят слезы. Никакая техника за всю последующую жизнь не изумит меня сильнее. Электричество, проходя через кусочки металла, тщательно собранные мной, выхватывало из воздуха голос иностранной тетки, находившейся где-то в далекой дали. Ее голос звучал так волнующе. Она не знала о моем существовании. Я никогда не узнаю ее имени и не пойму ее языка, и мы никогда не встретимся, во всяком случае намеренно. Мое радио, с неказистыми припоями на куске оргалита, представлялось мне не меньшим чудом, чем сознание, возникающее из материи.
Мозг и электричество тесно связаны – я обнаружил это в подростковые годы, когда собирал простые компьютеры и сам их программировал. Затем я стал собирать компьютеры посложнее. Электричество и кусочки металла могли вызывать к жизни цифры, слова, картинки, песни, запоминать информацию и даже переводить живую речь в текст.
Когда мне было семнадцать, Питер Кокс убедил меня взяться за изучение физики в местном колледже. Но уже через месяц я заскучал и стал думать о смене курса. Эта наука была слишком абстрактна, а математика находилась за гранью моего понимания. Кроме того, к тому времени я уже прочитал несколько книг и проникся интересом к воображаемым личностям. «Уловка-18» Хеллера, «Неистовый любовник» Фицджеральда, «Последний человек в Европе» Оруэлла, «Все хорошо, что хорошо кончается» Толстого – дальше этого я не продвинулся, но сумел уловить задачу искусства. Это было своего рода расследование. Но мне не хотелось изучать литературу – пугающе многоликую и неподвластную логике. Тогда же в библиотеке колледжа мне попался одностраничный проспект курса антропологии, определяемой как «наука о людях в их связи с обществом через пространство и время». Систематическое исследование с человеческим лицом. Я записался.
Первое, что я усвоил: мой курс финансировался до обидного слабо. Никаких полевых исследований на Тробрианских островах, где, как я читал, существовало табу на поедание пищи в присутствии других. Это считалось культурным – есть одному, повернувшись спиной к друзьям и родственникам. Островитяне знали заклинания, чтобы сделать уродливых людей красивыми. Детей активно поощряли к ранней половой жизни друг с другом. Ходовой валютой был ямс. Женщины определяли статус мужчин. Как странно и бодряще. Мои взгляды на человеческую природу были сформированы по большей части белым населением, кучковавшимся в южной части Англии. Теперь же я вырвался на просторы бескрайнего релятивизма.
В восемнадцать лет я написал премудрое эссе о понимании чести в различных культурах, озаглавленное «Кандалы помутненного разума». Я беспристрастно разбирал всевозможные примеры общественных нравов. Что я знал и что меня волновало? Встречались общества, где изнасилование считалось настолько обыденным, что даже не имело особого названия. Молодому отцу перерезали горло за то, что он не оправдал доверия в поддержании древней вражды. В одной семье были готовы убить дочь за то, что видели ее держащейся за руку с парнем из недолжной религиозной общины. А в другом месте пожилые женщины охотно участвовали в обрезании половых губ своим внучкам. Где же были инстинктивные родительские побуждения любить и защищать? Культурный сигнал сильнее. Где же были всеобщие ценности? Перевернуты с ног на голову. Ничего похожего на Стратфорд-на-Эйвоне. Причины заключались в разуме, в традиции, в религии – другими словами, в программном обеспечении, как я определил это для себя, стараясь избегать оценочных суждений.







