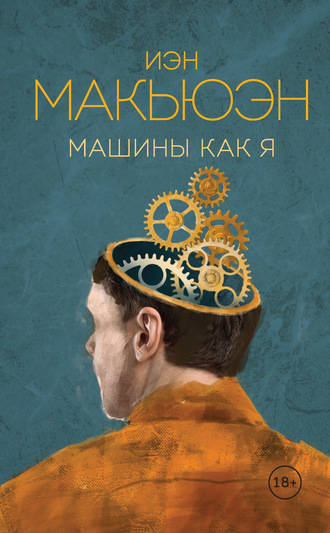
Иэн Макьюэн
Машины как я
Его мать была крепкого сложения, с черными вьющимися волосами, редеющими на макушке. В правой руке она держала сигарету, уперев локоть в ладонь левой. Несмотря на жару, она была в пальто. Под воротником виднелся длинный разрыв.
– Не слышал, что ли?
В голосе прозвучала угроза. Ребенок поднял на мать испуганный взгляд и, похоже, решил подчиниться. Он почти сделал к ней шаг, но затем перевел взгляд на свое сокровище и опять заколебался. Он присел, собравшись, вероятно, выдрать крышку из покрытия и подойти с ней к матери. Но, как бы то ни было, ее терпение лопнуло. Она с возмущенным возгласом вскочила со скамейки, быстро подошла к ребенку, бросив сигарету, схватила его за руку, а потом сильно шлепнула по голым ногам. Едва он вскрикнул, она шлепнула его еще и еще раз.
Я был занят собственными мыслями, и мне не хотелось отвлекаться. Сперва я подумал, что сейчас пойду домой, притворившись, если не перед собой, то перед миром, что ничего не заметил. Я все равно ничего не мог изменить в жизни этого мальчика.
Его плач только сильнее злил мать.
– Заткнись! – кричала она ему снова и снова. – Заткнись! Заткнись!
Я по-прежнему заставлял себя не вмешиваться. Но, когда мальчуган завопил пуще прежнего, мать схватила его за плечи и принялась трясти с такой силой, что грязная футболка задралась над животом.
Бывают такие решения, даже моральные, которые возникают где-то на бессознательном уровне. Я сам не заметил, как подбежал к ограждению и, перешагнув через него, подошел и положил ладонь на плечо женщины.
– Извините, – сказал я. – Прошу вас, пожалуйста, не надо так.
Собственный голос показался мне каким-то жалким, просящим, извиняющимся – короче, безвольным. Я говорил, заранее опасаясь последствий. Явно не рассчитывая, что они смягчат сердце этой мамаши. Но она хотя бы оставила ребенка в покое, повернувшись ко мне.
– Чего еще?
– Он просто маленький, – промямлил я. – Вы можете серьезно ему навредить.
– А ты, бля, кто такой?
Вопрос был закономерным, так что я предпочел оставить его без ответа.
– Он слишком мал, чтобы вас понять, – сказал я.
Ребенок продолжал реветь. Теперь он схватился за мамину юбку, показывая, что хочет на ручки. И это было хуже всего. Его мучительница одновременно была и его единственным утешением. Она злобно уставилась на меня. На полу, возле ее ноги, дымилась брошенная сигарета. Пальцы правой руки сжимались и разжимались. Стараясь казаться спокойным, я отступил на полшага. Мы стояли, уставившись друг на друга. У нее было довольно привлекательное лицо, и до того, как выразительные глаза заплыли жиром, она могла считаться красавицей. В другой жизни это лицо могло бы принадлежать доброй и хозяйственной бабе. Высокие округлые скулы, россыпь веснушек на носу, полные губы (нижняя была рассечена). Ее зрачки буравили меня точно сверла. Неожиданно женщина отвела взгляд, увидев кого-то за моим плечом, и я понял, что дела мои плохи.
– Ой, Джон! – крикнула она.
Ее приятель или муж по имени Джон, тоже солидного веса и голый по пояс, шагал к нам через детскую площадку, лоснясь на солнце.
Едва зайдя за ограду, он спросил:
– Он к тебе пристает?
– А как же, блядь.
Случись такая ситуация где-нибудь в ином измерении – например, в кино, – мне было бы не о чем беспокоиться. Джон был примерно моих лет, но ниже ростом, рыхлым и явно слабее. В том, ином измерении, если бы он меня ударил, я мог бы запросто уложить его на пол. Но в этом мире я никогда, за всю свою жизнь, не ударил другого человека, даже в детстве. Кроме того, я сказал себе, что, если ударю отца на глазах у сына, это нанесет ребенку психическую травму. Но дело было даже не в этом. У меня была неправильная установка или, лучше сказать, не была правильной. Это был не страх и, уж конечно, не благородство. Просто всякий раз, как требовалось кого-то ударить, я не знал, с чего начать. И не хотел знать.
– Че, серьезно?
Теперь на меня уставился Джон, а женщина отступила. Ребенок продолжал реветь. Отец и сын были комично схожи – светловолосые, коротко стриженные, широколицые и зеленоглазые.
– При всем моем уважении, он всего лишь ребенок. Его не нужно бить или трясти.
– При всем моем уважении, шел бы ты на хуй. А не то знаешь что?
И я почувствовал, что Джон готов меня ударить. Он выпятил грудь, бессознательно подражая жабам и обезьянам в сезон половой охоты. Его дыхание стало прерывистым, а руки оттопыривались в стороны. Пусть я был сильнее, но он был решительнее. Что ему было терять? Или это называлось храбростью? Готовностью довериться удаче и броситься в атаку, надеясь, что тебя не свалят с ног и не утрамбуют пол твоей головой, устроив тебе сотрясение мозга. Я не чувствовал в себе такой готовности. Вот что такое трусость – избыток воображения.
Я поднял обе руки в жесте примирения.
– Что ж, я, очевидно, не могу вас заставить. Я только могу надеяться вас убедить. Ради блага ребенка.
И тогда Джон сказал нечто такое, чего я никак не ожидал и несколько секунд не знал, что ответить.
– Он тебе нужен?
– Что?
– Можешь забирать. Давай. Ты эксперт по детям. Он твой. Забирай его домой.
При этих словах мальчуган притих. Я взглянул на него и подумал, что в нем есть что-то, чего недоставало отцу, но, пожалуй, не матери, – едва уловимая, но все же несомненная искра разума во взгляде, несмотря на его состояние. Мы вчетвером стояли тесной группкой. До нас доносились отдаленные крики детей возле лягушатника с другой стороны парка и шум дорожного движения.
Поддавшись порыву, я решил принять вызов Джона.
– Ну, хорошо, – сказал я. – Он может пойти жить со мной. Потом мы подпишем нужные бумаги.
Я достал визитку из бумажника и дал ему. Затем протянул руку мальчугану, и, к моему удивлению, он взял меня за руку и обхватил покрепче. Это мне польстило.
– Как его зовут?
– Марк.
– Пойдем, Марк.
И мы вдвоем пошли прочь от его родителей, через детскую площадку, к автоматическим воротам.
Марк сказал мне громким шепотом:
– Давай притворимся, что убегаем.
Он поднял на меня лицо, светившееся смешливым азартом.
– О’кей.
– На лодке.
– Ну хорошо.
Я собирался открыть ворота, когда услышал за спиной окрик. Я обернулся, надеясь, что мое облегчение не слишком заметно. Женщина подбежала, вырвала у меня ребенка и шлепнула ладонью по плечу.
– Извращенец!
И она была готова шлепнуть меня снова, но Джон мрачно ее позвал:
– Оставь его.
Я вышел за ворота и прошел немного, затем обернулся. Джон усаживал Марка себе на голые плечи. Я не мог не восхититься таким отцом. Возможно, в его подходе была скрытая мудрость, которую я сразу не распознал. Он избавился от меня без драки, сделав невозможное предложение. Я с содроганием представил, как мне пришлось бы тащить мальчика в свою квартиру, знакомить его с Мирандой, а потом заботиться о нем следующие пятнадцать лет. У матери Марка, как я заметил, тоже имелась черная лента, повязанная на рукаве пальто. Она пыталась убедить Джона надеть рубашку, но тот ее не слушал. Когда семейство пересекало детскую площадку, Марк повернулся ко мне и поднял руку – то ли для равновесия, то ли чтобы помахать мне на прощание.
* * *
В наших постельных разговорах с Мирандой, часто в предрассветные часы, то и дело возникала некая фигура, словно нависавшая над нами в темноте этаким горестным призраком, с каждым разом обретая все более конкретные черты. Мне пришлось сделать над собой усилие, чтобы не считать этого человека своим соперником, которого злил сам факт моего существования. Я нашел его виртуальную страницу и смотрел, как его лицо менялось с возрастом – от женоподобного красавца двадцати с небольшим лет до не лишенной обаяния развалины в пятьдесят с лишним. Я прочитал о нем публикации, их было немного. Его имя мне ни о чем не говорило. Пара моих знакомых знала о нем, но только понаслышке. Фотография его профиля пятилетней давности демонстрировала «почти мужчину». Мысль, что теоретически я мог разделить его судьбу, заставила меня проникнуться сочувствием к Максфилду Блэйку и понять очевидное: если любишь чью-то дочь, нужно считаться с ее отцом. Всякий раз, как Миранда приезжала из Солсбери, она непременно о нем рассказывала. Я узнавал о его разнообразных недугах и всевозможных медицинских прогнозах, о нахальном и невежественном докторе, которого сменил доктор добрый и искусный, о больничном беспорядке и неожиданно хорошем питании, о процедурах и лекарствах и о непрестанных надеждах, то увядавших, то расцветавших вновь. Его разум, как она периодически давала мне понять, сохранял ясность. Это его тело обратилось против него, против самого себя, со всей свирепостью гражданской войны. Как же больно было дочери видеть язык ее отца-писателя, обезображенный уродливыми черными пятнами. И как больно было отцу есть, глотать, говорить. Его иммунная система коварно подводила его, разрушая изнутри.
И это было еще не все. У него вышел камень из почки, что сопровождалось такими страшными болями, что Миранда сравнивала их с родовыми. Он сломал бедро, упав в ванной. Его кожа нестерпимо зудела. А теперь еще у него возникла подагра в больших пальцах обеих рук. Из-за разраставшейся катаракты чтение – его страсть – давалось все труднее. Ему грозила операция, хотя он ненавидел операции и боялся любого вмешательства в свои глаза. Имелись и другие недомогания, слишком унизительные, чтобы описывать их. Женщина, которая давно могла стать его четвертой женой, если бы он этого захотел, уехала от него два года назад. С тех пор Максфилд жил один, пребывая в зависимости от медицинских работников, посторонних людей и собственной дочери, жившей на расстоянии в сто сорок пять километров. Два его сына от другой жены иногда наезжали к нему из Лондона и привозили вино, сыр, биографии или новейший наручный компьютер, но были слишком брезгливы, чтобы осуществлять за отцом интимный уход.
Мы с Мирандой были тогда еще слишком молоды, чтобы понимать, что мужчина под шестьдесят еще не настолько стар, чтобы заслуженно ожидать такого множества напастей. Но он так напоминал мне Иова, терзаемого безжалостным Богом, что я считал кощунством дать понять Миранде, как мне все это надоело. Особенно показательна оказалась ночь после столкновения на детской площадке. Впрочем, как бы сильно я ни любил Миранду, слушая ее рассказы, я не мог не отвлекаться на другие темы. Едва вернувшись из Солсбери, она, лежа со мной в постели, описывала очередные мучения отца. Я с сочувствием держал ее за руку. Это было большее, что я мог сделать, чтобы показать, как меня волнуют нескончаемые страдания человека, с которым я даже не был знаком. Я слушал ее одним ухом и мысленно углублялся в странные новые повороты моего жизненного пути.
Тем временем внизу все так же неподвижно сидел на жестком стуле, накрытый одеялом, мой новый каприз, свежеиспеченная личность которого была установлена в тот день, пока он спал. Все было готово к началу приключения. Миранда была моим будущим – лежа рядом с ней в постели, я в этом не сомневался. Диспропорция в наших взаимных чувствах выправится. Мы являли собой идеальный образец современных отношений: знакомство, за которым следует секс, затем дружба и, наконец, любовь. И страшного в том, что каждый из нас осваивал эти этапы со своей скоростью, не было ничего. Главное – сохранять терпение.
А тем временем мой островок надежды омывал океан национальной скорби. В тот день аргентинская хунта с поразительной согласованностью подняла четыреста шесть флагов в Порте-Стэнли[19] – за каждого из своих погибших – и устроила военный парад по безлюдной разгромленной главной улице, в то время как в лондонском соборе Святого Павла проходила заупокойная служба по трем тысячам британским подданным. Я видел это по телевизору, вернувшись из клэпемского парка. В многолюдной конгрегации, состоявшей из правящей верхушки, едва ли набрался бы десяток-другой человек, считавших, что Бог, вставший на сторону фашистов, а не британцев, заслуживал свечи или что павшие пребывали теперь в вечном блаженстве. Но светская традиция была не в силах до блеска отшлифовать всем знакомые вирши подобно тому, как это делала давно отвергнутая бесхитростность былых веков. Человек, рожденный женою, краткодневен и пресыщен печалями[20]. Так что пели псалмы, возвышенная тарабарщина которых отдавалась эхом под сводами собора, и прихожане дружно вторили ей, а остальные британцы скорбели перед алтарями телевизоров. В их числе был я, но не Миранда.
Вместе с полутора миллионами соотечественников я «промаршировал» по Центральному Лондону в знак протеста против Тактической группы. На самом деле мы едва продвигались, то и дело застревая в узких переулках. И повторялся типичный парадокс: событие было траурным, но демонстрация праздничной. Рок-группы, джаз-банды, ударные и духовые, шуточные флаги, безумные костюмы, цирковые выкрутасы, бравурные речи и непременное радостное возбуждение таких разношерстных и таких добропорядочных граждан, не стихавшее часами. Так легко верилось, что в Лондоне сплотилась вся нация, чтобы заявить очевидное: грядущая война была несправедливой, бесчеловечной, алогичной, потенциально катастрофической. Мы даже не знали, насколько мы были правы. Или как сильно на нас ополчится парламент, а также таблоиды, военные и две трети самих британцев. Оказалось, мы вели себя непатриотично, мы защищали фашистский режим и противостояли торжеству международного права.
Где в тот день была Миранда? Мы тогда почти не знали друг друга. Она сидела в библиотеке, внося последние правки в статью о полудиких свиноматках. У нее имелись нетипичные для ее возраста мысли насчет Тактической группы, и она не доверяла духу того, что считала «самовлюбленной толпой», ее поверхностному единодушию, ее нелепой экзальтации. Она не разделяла моей склонности к протестам или сантиментам. Ей было неинтересно смотреть на отплытие кораблей так же, как и на бесславное возвращение остатков эскадры, названное позднее Затоплением, а служба в соборе Святого Павла волновала ее еще меньше. Если я несколько месяцев мусолил эту тему в разговорах с друзьями и читал все публикации на эту тему, то Миранду это совсем не занимало. Когда тонули корабли, она никак на это не реагировала. Когда появились черные ленты, она тоже повязала себе такую, но не участвовала ни в каких мероприятиях. Как она сама говорила об этом, все эти действа были «с душком».
Сейчас, когда я лежал рядом с ней в постели, держа за руку, оранжевый свет улицы за занавеской придавал спальне вид театральной декорации. Миранда приехала на последнем поезде и ждала в метро задержавшийся состав до станции Клэпем-Норт. Было почти три часа. Она рассказывала, как Максфилд сказал ей со страдальческим видом, что подагра в больших пальцах – это для него благословение, поскольку эта боль так чудовищна и отчетлива, что все другие страдания на ее фоне бледнеют.
Продолжая держать Миранду за руку, я сказал:
– Ты знаешь, как сильно мне хочется с ним познакомиться. Позволь, я поеду с тобой в следующий раз.
Прошло несколько секунд, она сонно ответила:
– Я бы хотела поехать в ближайшее время.
– Хорошо.
А затем, после недолгой паузы, добавила:
– Адам тоже должен поехать.
Она похлопала меня по предплечью, давая понять, что пора спать, и повернулась на бок, спиной ко мне. Скоро ее дыхание сделалось ровным и глубоким, а я со своими мыслями остался в ржавых монохромных сумерках. Адам поедет с нами. Она считала его общей собственностью, как я и надеялся. Но я с трудом представлял себе встречу Адама и такого старомодного брюзги, как Максфилд Блэйк. Я знал из его личной страницы, что он до сих пор писал от руки, пренебрегая компьютерами, мобильными телефонами, интернетом и прочими новшествами. Очевидно, он не собирался, как прочие, «охотно терпеть неразумных»[21]. Или роботов. Адама еще нужно было вернуть к жизни. Ему еще нужно было выйти из дома и подтвердить способность к адекватному культурному общению. Для себя я решил не показывать его друзьям, пока не увижу, что он стал полноценным социальным существом. То, что начинать социализацию предстояло с Максфилда, внушало мне опасения за дальнейшее развитие Адама. Возможно, Миранда надеялась таким образом развлечь отца или побудить к написанию очередной статьи. Или же это было как-то связано со мной и могло неведомым образом сыграть в мою пользу. Или – я не смог подавить в себе эту мысль – против?
Это была плохая идея, из тех, что посещают людей под утро. Как это бывает при бессоннице, разум заполняла вереница мыслей. Почему я должен знакомиться с ее отцом в присутствии Адама? Разумеется, я имел полное право настоять на том, чтобы оставить его здесь. Но тогда бы я отказал женщине, чей отец лежит при смерти. А он действительно при смерти? И бывает ли вообще подагра в большом пальце? В обеих сразу? И знаю ли я Миранду по-настоящему? Я лежал на боку, елозя головой по подушке в поисках прохладного места, потом перевернулся на спину, глядя на пестрый потолок, нависавший надо мной непривычно низко, уже не рыжий, а желтый. И задавал себе одни и те же вопросы, перефразируя их то так, то эдак. Я знал, что собирался сделать, но медлил, накручивая себя и почти целый час отрицая очевидное. Потом наконец я поднялся, натянул джинсы и футболку, вышел босиком из комнаты и спустился по лестнице в свою квартиру.
Войдя в кухню, я с ходу стянул одеяло с Адама. На вид в нем ничего не изменилось – глаза закрыты, то же бронзовое лицо, нос брутального парня. Я завел руку ему за шею, нащупал родинку и надавил. Пока он разогревался, я успел съесть миску овсянки.
Когда я дожевывал, Адам произнес:
– Никогда не будут разочарованы.
– Чего-чего?
– Я говорил, что те, кто верит в посмертную жизнь, никогда не будут разочарованы.
– В смысле, что даже если они ошибаются, они этого все равно не узнают?
– Да.
Я присмотрелся к нему поближе. Не изменился ли он? У него был выжидающий вид.
– Вполне логично. Но, Адам. Ты ведь не думаешь, что это исчерпывающий довод?
Он не ответил. Я взял пустую миску, вымыл в раковине и заварил себе чай. Потом сел за стол напротив Адама и, сделав пару глотков, спросил:
– Почему ты сказал, что мне не следует доверять Миранде?
– Ах, это…
– Выкладывай.
– Я выразился необдуманно, и, честное слово, я сожалею.
– Ответь на вопрос.
Его голос изменился, стал тверже, выразительнее в своих тональных переходах. Но что касалось его настроя – об этом я не мог сказать уверенно. Моим первым, неуверенным впечатлением было неизменное самообладание Адама.
– Я заботился только о твоих интересах.
– Но ты сказал, что сожалеешь.
– Именно так.
– Мне нужно знать, почему ты сказал то, что сказал.
– Есть маленькая, но существенная вероятность, что она может тебе навредить.
Стараясь скрыть беспокойство, я спросил:
– Насколько существенная?
– В понятиях Томаса Байеса, священнослужителя восемнадцатого века, я бы сказал один к пяти, при условии, что ты принимаешь мои значения априорной вероятности.
Мой отец, приверженец гармонического ряда бибопа, был откровенным технофобом. Он говорил, что любой неисправный электроприбор напрашивается на хороший пинок. Я пил чай и размышлял об этом. Колоссальное скопление разветвленных древовидных сетей, отвечавших за мышление Адама, должно предполагать сильную вероятность его правоты.
– Мне доподлинно известно, – сказал я, – что такая вероятность ничтожна, близка к нулю.
– Ясно. Я очень сожалею.
– Мы все допускаем ошибки.
– Это чистая правда.
– Сколько ошибок ты допустил в своей жизни, Адам?
– Только эту.
– Тогда она важна.
– Да.
– И важно ее не повторить.
– Разумеется.
– Поэтому нам нужно проанализировать, как ты смог допустить ее. Что скажешь?
– Я согласен.
– Что ж, какой же была твоя отправная точка в этом досадном недоразумении?
Он заговорил уверенно – было похоже, что ему нравится излагать свои методы:
– У меня имеется особый доступ ко всем судебным протоколам – как по уголовным, так и по семейным делам, даже при закрытых заседаниях. Имя Миранды не указывалось, но я сличил это дело с рядом второстепенных факторов, которые также находятся вне общего доступа.
– Умно.
– Спасибо.
– Расскажи мне об этом деле. Назови дату и место.
– Видишь ли, молодой человек точно знал, что в первый раз, когда он вступил с ней в интимные отношения…
Он осекся и уставился на меня, вылупив глаза с таким видом, будто только что заметил мое присутствие. Я решил, что расследование зашло в тупик. Адам как будто осознал важность такого качества, как скрытность.
– Ну же.
– М-м, она принесла с собой полбутылки водки.
– Назови мне дату, и место, и имя мужчины. Быстро!
– Октябрь, Солсбери. Но, постой…
И он вдруг захихикал дурацким натужным смехом. Мне было неловко смотреть на это, но я не мог отвести взгляд. Его лицо выражало сложную гамму эмоций: смущение, тревогу, мрачную веселость. Руководство пользователя утверждало, что Адам владел сорока выражениями лица. А Ева – пятьюдесятью. Большинство людей, насколько я мог судить, едва ли владели двадцатью пятью.
– Соберись, Адам. Мы договорились. Нам нужно разобрать твою ошибку.
Чтобы прийти в себя, ему понадобилось больше минуты. Я допивал чай и наблюдал за ним, понимая, что это сложный процесс. Я понимал, что его личность не заключена в раковину, ограничивающую способность к связному мышлению; что его уклончивость, если это можно было так назвать, не объяснялась разумными соображениями. Так же, как и у меня. Его рациональный импульс сотрудничать со мной мог лететь по его нейронным сетям хоть со скоростью света, но он не блокировался внезапно на логическом вентиле свежеобразованной индивидуальности. Напротив, эти элементы были сплетены изначально, точно две змеи на кадуцее Меркурия. Адам видел мир и понимал его через призму собственной личности; а его личность была обусловлена объективирующим мир рассудком с его постоянными обновлениями. С самого начала разговора он одновременно стремился избежать повторения ошибки и скрыть известную ему информацию. Когда два эти побуждения стали несовместимы, он потерял самоконтроль и стал хихикать, как ребенок в церкви. Какие бы личностные предпочтения мы ему ни выставили, они находились не так глубоко, как хитросплетения его нейронной сети, отвечающей за принятие решений. При другом характере он мог бы просто уйти в себя или, напротив, выложить мне все начистоту. Имелись доводы за любой из двух вариантов.
Теперь мне было известно чуть больше, чем ничего, – достаточно, чтобы волноваться, но недостаточно, чтобы предпринять собственное расследование, даже если бы я имел доступ к закрытым судебным заседаниям: Миранда в качестве свидетельницы, жертвы или обвиняемой в деле, в котором фигурировал секс с молодым человеком, водка, зал суда, октябрь неизвестного года и Солсбери.
Адам сидел молча. Его лицо, сделанное из особого материала, неотличимого от кожи, расслабилось, приняв выражение нейтральной бдительности. Я мог подняться наверх, разбудить Миранду, задать вопрос в лоб и выяснить все одним махом. Или подождать и все обдумать, держа при себе то, что стало известно, наделяя себя мнимой властью. Имелись доводы за любой из двух вариантов.
Но я не стал метаться. Я пошел в свою спальню, разделся, побросав одежду на стол, и забрался под летнее пуховое одеяло. Уже рассвело. Мне бы хотелось, чтобы кто-то меня утешил, и еще услышать, как под птичье пение позвякивает бутылками молочник, переходя от двери к двери. Но с наших улиц уже исчез последний электрический молоковоз. Как жаль. Так или иначе, я ощутил приятную усталость. В том, чтобы спать одному, есть особое чувственное удовольствие, по крайней мере какое-то время, пока сон в одиночестве не начнет обретать тихую грусть.







