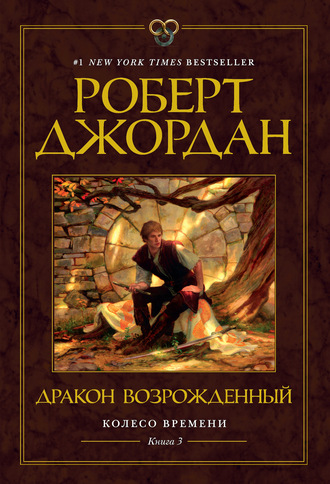
Роберт Джордан
Колесо Времени. Книга 3. Дракон Возрожденный
К кострам подходили другие обитатели лагеря, и, поднимаясь по склону, Перрин слышал долетавшие до него приглушенные обрывки их разговоров.
У него была своя хижина – сложенное из бревен небольшое жилище, высота которого едва позволяла юноше распрямиться во весь рост, а щели между бревнами были промазаны давно высохшей глиной. Почти половину хижины занимала грубо сколоченная кровать, матрасом служил сосновый лапник, накрытый одеялом. Расседлавший коня Перрина шайдарец также принес и поставил за дверь его лук. Повесив пояс с топором и колчаном на торчавший из стены колышек, Перрин разделся и поежился, отгоняя дрожь. Ночи в предгорьях оставались по-прежнему холодными, но холод не давал ему крепко спать. Глубокий сон приносил видения, отмахнуться от которых не получалось.
Забравшись под единственное одеяло, Перрин какое-то время лежал, разглядывая бревенчатый потолок и вздрагивая от холода. Потом уснул, и вместе с ночным забытьем пришли сны.
Глава 4. Тени и сны
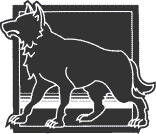
Холод наполнял общую залу гостиницы, несмотря на огонь, пылавший в большом каменном очаге. Сколько Перрин ни тер руки, протянув их поближе к пламени, ему никак не удавалось согреть их. И все же холод нес какое-то странное успокоение, словно он служил неким щитом. Но от чего ограждал этот щит – Перрин понять не мог. Какое-то бормотание раздавалось в глубине его сознания – и этот шепоток, неясный, едва различимый, на грани слышимости, старался прокрасться к нему.
– Итак, стало быть, ты от него откажешься. Для тебя так будет лучше всего. Подойди. Садись, побеседуем.
Перрин обернулся и посмотрел на говорившего. Круглые столики, беспорядочно расставленные по помещению, пустовали, за исключением одного в темном углу, за ним одиноко сидел мужчина. Вся прочая часть общей залы казалась какой-то нечеткой, скорее видением, чем явью, особенно то, что ускользало от прямого взора Перрина. Юноша оглянулся на пламя; теперь оно пылало в очаге, сложенном из кирпича. Почему-то ничто из того, что его окружало, Перрина не тревожило. «А ведь должно было». Хотя почему – он сказать не смог бы.
Человек сделал знак рукой, подзывая юношу к себе, и тот приблизился к столу незнакомца. Квадратному. Столы были квадратными. Хмурясь, юноша протянул руку, чтобы потрогать столешницу, но тут же отдернул. В этом углу общей залы ламп не было, и, хотя в остальной части помещения было светло, мужчина и стол, за которым он сидел, почти скрывались в тени, едва не сливаясь с полумраком.
У Перрина возникло ощущение, что он знал этого человека, но оно было таким же смутным, как то, что юноша видел краешком глаза. Незнакомец был средних лет, привлекателен внешне и одет слишком хорошо для деревенской гостиницы: в темный, почти черный бархат с белыми кружевами, ниспадающими с воротника и манжет. Он сидел прямо, словно одеревенелый, иногда прижимая ладонь к груди, словно любое движение причиняло ему боль. Собеседник не отрывал взгляда от лица Перрина; его темные глаза казались в тени сверкающими точками.
– Откажусь от чего? – спросил Перрин.
– От него, разумеется. – Мужчина кивком указал на топор, висевший у Перрина на поясе. В его голосе слышалось удивление, словно они уже вели разговор на эту тему, а сейчас снова продолжили старый спор.
Перрин не осознавал, что топор при нем, не чувствовал его веса, оттягивающего пояс. Он провел рукой по лезвию в форме полумесяца, по уравновешивающему его с другой стороны толстому шипу. И кожей ощутил сталь – добротную надежную сталь. Надежнее и реальнее, чем все, что его сейчас окружало. Возможно, даже реальнее его самого. Поэтому он не стал отнимать руку от топора – чтобы удержать связь с чем-то надежным и настоящим.
– Я думал об этом, – ответил Перрин, – но, сдается мне, не могу. Пока еще не могу.
«Пока еще?» Казалось, гостиница замерцала, и шепоток снова зазвучал у него в голове. «Нет!» Шепот пропал.
– Нет? – Мужчина холодно улыбнулся. – Ты кузнец, парень. И насколько я слышал, кузнец хороший. Твои руки созданы для молота, а не для топора. Чтобы создавать, а не убивать. Вернись к этому, пока не стало слишком поздно.
Перрин, к собственному своему изумлению, обнаружил, что согласно кивает.
– Да. Но я – та’верен. – Раньше он никогда не произносил этих слов вслух. «Но ему ведь уже известно». Перрин был в этом уверен, хотя и не знал почему.
Улыбка мужчины на миг превратилась в гримасу, но тут же он улыбнулся снова, еще шире. И еще холодней.
– Парень, есть способы все изменить. Способы избежать даже судьбы. Садись, и мы поговорим о них.
Тени как будто бы зашевелились, сгустились и придвинулись ближе.
Перрин отступил на шаг, стараясь оставаться на свету.
– Я так не думаю.
– Хотя бы выпей со мной. За годы минувшие и за годы, что еще впереди. Вот, выпей, и все станет ясней и понятней.
Мгновение назад кубка, что протягивал ему незнакомец через стол, не было. Кубок, до краев наполненный кроваво-красным вином, ярко сиял серебром.
Перрин всмотрелся в лицо собеседника. Даже его обостренное зрение не позволяло разглядеть черты лица мужчины – тени, казалось, совершенно скрадывали их, подобно плащу Стража. Тьма окутывала незнакомца, обнимала, словно ласкаясь. В его глазах Перрин что-то увидел – нечто такое, что он, как ему мнилось, сумеет вспомнить, если как следует постарается. Шепоток вновь вернулся.
– Нет, – сказал Перрин. Он отвечал тихому бормотанию у себя в голове, но, когда мужчина за столом зло поджал губы в приступе ярости, подавленном столь же быстро, как и начавшемся, юноша решил, что сказанное им сойдет также и за отказ от вина. – Я не хочу пить.
Он повернулся и направился к двери. Очаг был теперь из обкатанных рекой камней, и в зале стояло несколько длинных столов со скамьями вдоль них. Перрину вдруг захотелось оказаться снаружи, где угодно, лишь бы подальше от этого человека.
– Шансов у тебя будет немного, – раздался позади резкий голос незнакомца. – Три нити, сплетенные вместе, разделят общую участь. Перерезать одну – порвутся все. Судьба может убить тебя, если не уготовит чего-то худшего.
Спиной Перрин ощутил внезапно накатившую волну жара – она вдруг возникла, а потом так же быстро ушла, словно открылись и сразу захлопнулись дверцы громадной плавильной печи. Ошеломленный, он развернулся. Зала была пуста.
«Это всего лишь сон», – сообразил Перрин, вздрагивая от холода. И в этот миг все вокруг изменилось.
Он смотрел в зеркало, на свое отражение. Часть его существа никак не могла осознать то, что открылось взгляду, другая часть – принимала как должное. Позолоченный шлем, сработанный в виде львиной головы, сидел на нем как влитой. Золотые листья покрывали искусно выкованный нагрудник, золотая чеканка украшала детали пластинчато-кольчужного доспеха, закрывавшего его руки и ноги. Лишь топор на поясе был безыскусно прост. Голос – его собственный голос – мысленно прошептал ему, что лучше топора оружия не найдешь, ведь он был с ним тысячу раз и участвовал в сотнях битв. «Нет!» Перрину хотелось снять топор, отбросить прочь. «Я не могу!» В голове у него зазвучал голос – громче, чем невнятное бормотание, почти на уровне понимания:
– Человек, судьбой назначенный для славы.
Юноша крутанулся на пятках, отворачиваясь от зеркала, и обнаружил перед глазами прекраснейшую из женщин, виденных им когда-либо. Он не замечал более ничего вокруг, желая видеть одну только ее. Полночные озера глаз, молочно-белая кожа, наверняка нежнее и глаже белого шелка ее платья. Когда она шагнула к нему, у Перрина пересохло во рту. Он осознал, что любая из женщин, которых он когда-нибудь видел, по сравнению с ней будет неуклюжей и нескладной. Перрин задрожал и удивился – почему ему холодно?
– Мужчине нужно хватать судьбу обеими руками, – промолвила, улыбаясь, женщина. Этой улыбки почти хватило, чтобы согреть его. Женщина была высока: добавить ей росту чуть меньше ладони – и она вровень смотрела бы Перрину в глаза. Серебряные гребни удерживали ее прическу, а волосы были чернее воронова крыла. Широкий пояс из серебряных звеньев стягивал талию, которую Перрин мог бы, наверное, обхватить ладонями.
– Да, – прошептал он. Внутри его ошеломление боролось с согласием. Перрина слава не прельщала. Но после ее слов он уже не хотел ничего иного. – Я имею в виду… – Бормотание вновь зазвучало в голове, царапая череп. – Нет! – Шепоток пропал, и, всего на миг, согласие тоже исчезло. Почти. Он поднял руку к голове, коснулся золоченого шлема, снял его. – Я… Не думаю, что я хочу этого. Это не мое.
– Не хочешь? – Она рассмеялась. – Какой же мужчина, в чьих жилах играет кровь, не желает славы? Столько славы, будто ты протрубил в Рог Валир.
– Я не хочу, – сказал Перрин, не обращая внимания на ту часть себя, что кричала ему: «Ты лжешь!» Рог Валир. «Рог звонко прозвучал – и в неистовую атаку! Смерть у его плеча, но все же она ждет впереди. Его возлюбленная. Его губительница». – Нет! Я – кузнец.
В ее улыбке теперь было сожаление.
– Желать такую малость. Не слушай тех, кто пытается отвратить тебя от предначертанной судьбы. Они хотят умалить тебя, унизить. Они уничтожат тебя. Противостояние судьбе способно лишь принести боль. Зачем выбирать боль, когда можно обрести славу? Когда имя твое станут помнить наравне со всеми героями легенд?
– Я не герой.
– Ты и половины не знаешь о том, кто ты. О том, кем можешь стать. Давай раздели со мной кубок, во имя судьбы и славы. – В ее руках оказался сверкающий серебряный кубок, наполненный кроваво-красным вином. – Испей.
Перрин хмуро уставился на кубок. Было что-то… знакомое в этом. В его сознание ворвалось рычание.
– Нет! – Он боролся с этим рыком, отгоняя, отказываясь слушать. – Нет!
Она протянула ему золотой кубок:
– Выпей же.
«Золотой? По-моему, кубок был… он был…» Додумать он не сумел. Но в нахлынувшем замешательстве в его сознание вновь вернулся тот звук, вгрызаясь, требуя, чтобы его услышали.
– Нет, – сказал Перрин. – Нет! – Он взглянул на позолоченный шлем у себя в руках и отбросил его в сторону. – Я кузнец. Я…
Звучащий в голове рокот боролся с ним, стремясь быть услышанным. Перрин обхватил руками голову, чтобы отгородиться от него, но лишь запер его внутри.
– Я – человек! – прокричал Перрин.
Тьма окутала его, но женский голос следовал за ним, шепча:
– Здесь всегда ночь, и сны приходят ко всем людям. Особенно к тебе, мой дикарь. И я всегда буду в твоих снах.
Тишина.
Перрин опустил руки. На нем снова были его куртка и штаны, простые, но прочные и хорошо сшитые. Подходящая одежда для кузнеца или любого деревенского жителя. Однако сейчас он едва ее замечал.
Перрин стоял у низкого парапета каменного моста, что дугой выгибался между широкими каменными башнями с плоскими верхушками. Башни колоннами вздымались из таких глубин, куда его зоркий взгляд не мог проникнуть. Свет, идущий невесть откуда – даже он со своим зрением этого не понимал, свет просто был, – показался бы слишком тусклым глазам любого другого человека. Всюду, куда ни глянь, слева, справа, вверху, внизу – было множество мостов, башен, опор и нескончаемых скатов и переходов. В этом нагромождении, кажущемся бесконечным, не угадывалось никакой системы. Хуже того, некоторые из переходов взбирались к верхушкам опор, которые нависали прямо над теми же башнями, откуда эти переходы и начинались. Плеск воды эхом отражался отовсюду и, казалось, раздавался сразу со всех сторон. Перрин задрожал от холода.
Вдруг краем глаза он уловил какое-то движение и, не раздумывая, присел и скрючился за каменным парапетом. Быть замеченным – опасно. Он не знал почему, но был уверен, что это именно так, и никак иначе. Он просто знал.
Чуть приподнявшись и осторожно глядя поверх ограждения, Перрин выискивал замеченный им источник движения. Белый отсвет промелькнул на отдаленном переходе. Он был уверен, что это женщина, хоть и не смог явственно ее различить. Спешащая куда-то женщина в белом платье.
На мосту, расположенном чуть ниже его и гораздо ближе, чем тот переход, где Перрин заметил женщину, внезапно появился мужчина, смуглый, высокий и стройный. Бросалась в глаза серебристая прядь в его черных волосах. Темно-зеленый кафтан незнакомца был обильно расшит золотыми листьями, а пояс и кошелек украшены золотой канителью, ножны кинжала искрились драгоценными камнями, даже верх его сапог обрамляла золотая бахрома. Откуда он взялся?
Другой мужчина, возникший столь же внезапно, как и первый, зашагал по мосту с противоположной его стороны. Черные полосы сбегали по роскошным рукавам его красного кафтана, ворох бледных кружев свисал с манжет и воротника. Его сапоги так обильно были украшены серебром, что под узором с трудом удавалось увидеть кожу. Он был ниже ростом, чем тот, навстречу которому шел, и коренастей, с коротко подстриженными волосами, столь же белыми, что и кружева его наряда. Несмотря на возраст, человек не казался слабым. Он двигался вперед с той же надменной уверенностью, какую излучал первый мужчина.
Они осторожно приближались друг к другу. «Как два торговца лошадьми, каждый из которых знает, что у другого есть хромая кобыла на продажу», – подумал Перрин.
Мужчины начали разговор. Перрин напряг слух, но эхо, рождающееся от звуков плещущей воды, позволило разобрать лишь обрывки слов. Хмурые лица, недобрые взгляды в упор, резкие движения, на грани удара. Ни один из них другому не доверял. Перрин подумал, что они, возможно, терпеть не могут друг друга.
Он поднял взгляд, высматривая женщину, но она пропала из виду. Когда юноша вновь поглядел вниз, то обнаружил, что к двум мужчинам присоединился третий. И Перрин его вроде бы знал – но как-то смутно, словно полузабытое воспоминание. Средних лет, видный собой мужчина, облаченный в темный, почти черный бархат с белыми кружевами. «Гостиница, – подумал Перрин. – И что-то до нее. Что-то…» То, что было, казалось, давным-давно. Но вспомнить никак не удавалось.
Теперь первые двое мужчин стояли бок о бок, оказавшись перед новоприбывшим союзниками поневоле, отчего им явно было не по себе. А тот кричал и грозил им кулаком, в то время как они неуверенно топтались на месте, отворачивались, избегая встречаться с ним взглядом. Даже если эти двое и враждовали между собой, страх перед третьим был сильнее.
«Его глаза, – подумал Перрин. – Что же такого странного в его глазах?»
Тот, что был высокий и смуглый, принялся возражать, сначала вяло, затем со все большим пылом. Беловолосый присоединился к нему, и тут внезапно их временное союзничество распалось. Все трое орали друг на друга, каждый, в свою очередь, на двух других. Вдруг мужчина в черном бархате широко раскинул руки в стороны, словно требуя прекратить ссору. И разрастающийся огненный шар объял их, скрыл, ширясь и заполняя собой все вокруг.
Перрин обхватил голову руками и бросился за каменный парапет, съежившись у его подножия, пока его хлестали и дергали за одежду яростные порывы ветра – ветра, горячего, как огонь. Ветра, который сам был огнем. Даже крепко зажмурив глаза, Перрин мог видеть пламя, пожирающее весь мир, пронзающее само бытие. Пламенный ураган ревел и внутри его; он буквально чувствовал его – обжигающий, пылающий вихрь тащил его, стремясь поглотить и развеять пеплом. Перрин завопил, пытаясь найти опору в самом себе и понимая, что этого недостаточно.
И в мгновение между двумя ударами сердца ветер пропал. Он не ослабевал постепенно. Миг тому назад на юношу обрушивалась огненная буря, а уже в следующий – царило полнейшее безмолвие. Единственным звуком было эхо плещущейся воды.
Перрин медленно сел, осмотрел себя. На куртке не было и следа от огня, никаких прорех или подпалин, открытые участки кожи не получили ожогов. Только память об опаляющем жаре заставляла его верить в то, что все это действительно произошло. Память одного лишь разума; тело не сохранило воспоминаний о случившемся.
Перрин осторожно выглянул из-за краешка парапета. Часть моста на несколько шагов в обе стороны от того места, где стояли мужчины, пропала, осталось лишь оплавленное основание. И никаких следов этих троих.
Легкое покалывание, от которого будто зашевелились волосы на затылке, заставило Перрина поднять голову. На наклонном переходе, правее и выше от него, стоял косматый серый волк. Зверь смотрел на юношу.
– Нет! – Перрин вскочил на ноги и побежал. – Это сон! Ночной кошмар! Я хочу проснуться!
Он бежал, и все, что было вокруг, поплыло в его глазах. Задвигались переменчивые размытые пятна. Гул наполнил уши, затем пропал, и как только этот шум прекратился, перед глазами перестало мерцать, все обрело устойчивость.
Перрин вздрогнул от холода. Он осознавал, что это сон, уверенно и без сомнений, с самого первого мига. Ему смутно мерещились туманные воспоминания о снах, предшествующих этому, однако нынешний сон он знал. Он уже бывал в этом месте раньше, в предыдущие ночи, и, хотя не понимал ничего из происходящего, все же знал – это всего лишь сон. Но на сей раз знание ничего не меняло.
Открытое пространство, где он стоял, окружали громадные колонны из полированного краснокамня, а над головой, ярдах в пятидесяти, а то и более, высился сводчатый потолок. Попытайся Перрин даже на пару с таким же рослым, как он сам, человеком обхватить руками одну из колонн, у них бы не получилось. Пол был выложен крупными плитами из светло-серого камня, крепкого, однако истертого бесчисленными стопами минувших поколений.
И под сводом, в самом центре зала, блистала причина, которая и приводила сюда эти стопы. В воздухе стоймя, обращенный рукоятью вниз, парил ничем с виду не удерживаемый меч, – казалось, любой может дотянуться до него и взять в руку. Он неспешно поворачивался вокруг своей оси, словно увлекаемый во вращение неким дуновением воздуха. На самом деле меч был не настоящий. Он казался сделанным из стекла или, возможно, выточенным из кристалла, и клинок, рукоять и крестовина гарды улавливали весь свет, что был в зале, и, дробя его, разбрасывали вокруг тысячей отблесков и вспышек.
Перрин направился к мечу и протянул к нему руку, как делал это прежде не один раз. Он ясно помнил, что поступал именно так. Рукоять висела на уровне лица, дотянуться – проще простого. В футе от сверкающего меча его руку отклонило, отвело в сторону; хотя в воздухе ничего не было, но он словно бы наткнулся на камень. Насколько знал Перрин, так и должно было быть. Юноша предпринял еще попытку, с бо́льшим старанием, но с тем же успехом он мог бы просовывать руку в стену. Меч вращался и посверкивал в футе от него, но так же далеко, как если бы находился по ту сторону океана.
Калландор.
Перрин не сказал бы точно, услышал он этот шепот снаружи или тот прозвучал в его сознании; звук казался эхом, раскатившимся среди колонн, тихий, словно ветер, исходящий разом отовсюду, настойчивый.
Калландор. Кто владеет мною, владеет судьбой. Возьми меня и начни последнее странствие.
Внезапно испугавшись, Перрин отступил на шаг. Прежде этот шепот никогда не звучал. Раньше такой сон уже посещал его, четырежды, – он помнил это даже сейчас: четыре ночи, одна за другой, – но впервые в нем что-то поменялось.
Испорченные идут.
Это был иной шепот, и Перрин знал, от кого он исходит, поэтому вздрогнул, будто к нему прикоснулся мурддраал. Волк стоял среди кроваво-красных колонн, горный волк – косматый, серый с проседью, ростом Перрину почти по пояс. Он пристально смотрел на юношу, не сводя с него таких же желтых, как у самого Перрина, глаз.
Испорченные идут.
– Нет, – проскрежетал Перрин. – Нет! Я не впущу вас! Ни за что!
Он точно когтями процарапал себе путь к пробуждению и сел на ложе у себя в хижине. Юноша дрожал – от страха, холода и гнева.
– Не впущу, – хрипло прошептал он.
Испорченные идут.
Эта мысль отчетливо звучала в голове у Перрина, но принадлежала не ему.
Испорченные идут, брат.
Глава 5. Кошмары наяву
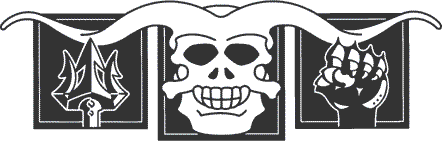
Вскочив с кровати, Перрин схватил топор и выбежал наружу, босой, в одном белье, не обращая внимания на холод. Облака купались в тускло-белом сиянии луны. Этого света с лихвой хватало для глаз, и он явственно видел, как со всех сторон тихо крадутся между деревьями фигуры, почти такие же рослые, как Лойал, но лица их уродовали хищные рыла и клювы, а получеловеческие головы были увенчаны рогами и гребнями из перьев. Из этих настороженно двигавшихся теней какие-то имели копыта и звериные лапы, и было их не меньше тех, которые ступали по земле обутыми в сапоги ногами.
Перрин открыл было рот, чтобы поднять тревогу, как внезапно с грохотом распахнулась дверь хижины Морейн и наружу выскочил Лан, сжимая в руке меч и крича:
– Троллоки! Просыпайтесь, коли жизнь дорога! Троллоки!
С ответными криками из хижин стали вываливаться люди, полураздетые, но нимало этим в большинстве своем не смущенные, и все – с мечами наготове. Со звериным ревом троллоки бросились вперед, и их встретили сталью и криками «Шайнар!» и «Дракон Возрожденный!».
Лан был полностью одет; Перрин побился бы об заклад, что Страж и не спал вовсе, – он бросился в гущу троллоков, словно шерстяная одежда на нем была доспехами. Казалось, он будто танцует среди врагов, человек и меч струились подобно воде или ветру, и там, где танцевал Страж, троллоки визжали и умирали.
Морейн тоже покинула свою избушку, в ночи она исполняла собственный танец среди троллоков. Единственным видимым ее оружием был хлыст, но когда она хлестала троллока, на его теле вспыхивала огненная линия. Другой рукой она метала призванные из воздуха огненные шары, и троллоки выли, колотясь оземь, когда пламя пожирало их.
Вспышка пламени объяла дерево целиком, от корней до кроны, затем факелом загорелось другое, полыхнуло еще одно. Троллоки завизжали от нежданного света, но не перестали размахивать своими шипастыми топорами и загнутыми, подобно косам, мечами.
Вдруг Перрин заметил Лею, нерешительно шагнувшую из домика Морейн, что стоял на другой стороне низины, и все прочие мысли разом оставили его. Женщина из Туата’ан привалилась спиной к бревенчатой стене, прижав руку к горлу. Свет, отбрасываемый горящими деревьями, позволил ему увидеть лицо Леи, на котором отражались ужас, боль и отвращение к бойне, представшей ее глазам.
– Спрячься! – закричал ей Перрин. – Уходи! Прячься в доме!
Нарастающий рев сражающихся и умирающих поглотил его слова. Юноша бегом бросился к ней:
– Прячься, Лея! Прячься, если тебе дорог Свет!
Над Перрином навис троллок с кровожадно изогнутым клювом на месте носа и рта. Черная кольчуга, усаженная шипами, облегала его от плеч до колен, а под нею виднелись когтистые ястребиные лапы. Взмахнув своим странно изогнутым мечом, чудовище шагнуло вперед. От него пахло по́том, грязью и кровью.
Перрин, уклоняясь от удара сплеча, поднырнул под черный клинок и, крича что-то нечленораздельное, ударил в ответ топором. Он понимал, что вроде бы должен бояться, но страх куда-то подевался, уступив место целеустремленности. Перрина сейчас волновало только одно: необходимо добраться до Леи и увести ее в безопасное место; а троллок стоит у него на пути.
Троллок упал, рыча и брыкаясь; Перрин не знал, куда он его поразил, умирал тот или всего лишь ранен. Он перепрыгнул дергавшуюся в конвульсиях тварь и побежал вверх по неровному склону.
Пылающие деревья отбрасывали зловещие тени на небольшую долину. Колеблющаяся тень возле избушки Морейн вдруг обернулась рогатым троллоком с козлиным рылом. Сжимая обеими руками шипастую секиру, он готов был, похоже, ринуться вниз, в гущу схватки, но тут его взгляд пал на Лею.
– Нет! – закричал Перрин. – Свет, нет!
Камни осыпались из-под его босых ступней, но он не замечал ссадин и ушибов. Троллок замахнулся секирой.
– Лея-а-а-а-а-а-а-а!
В последний момент троллок развернулся, секира метнулась к Перрину. Он бросился наземь, завопив от боли, – сталь рассекла ему спину. В отчаянном броске Перрин ухватился за козлиное копыто и рванул изо всех сил. Троллок потерял равновесие и с шумом упал, но, съезжая по склону, успел схватить юношу ручищами, что были вдвое толще Перриновых. Сцепившись, они кубарем катились под гору. Тошнотворная вонь от троллока ударила Перрину в ноздри – мешанина козлиного смрада и кислого человеческого пота. Могучие вражьи лапищи обвились вокруг груди, выдавив оттуда воздух, ребра заскрипели, угрожая сломаться. Падая, троллок упустил секиру, но тупые козлиные зубы впились Перрину в плечо, задвигались мощные челюсти. От боли, захлестнувшей левую руку сверху донизу, он застонал. Перрин силился вдохнуть воздух, перед глазами плыли черные круги, но краешком сознания он сообразил, что другая его рука свободна и в ней он сжимает чудом не оброненный топор. Юноша держал его за верхнюю часть рукояти, как молот, шипом вперед. С ревом, на последнем дыхании Перрин вбил шип в висок троллоку. Тот беззвучно содрогнулся и раскинул руки, выпустив и отбросив юношу. Повинуясь одному лишь инстинкту, рука Перрина крепче сжала топорище, оружие рывком высвободилось, а троллок, все еще подергиваясь, заскользил вниз по склону.
Секунду Перрин лежал, пытаясь отдышаться. Глубокая рана, проходящая через спину, будто горела, и он чувствовал влагу текущей крови. Плечо протестующе отозвалось болью, когда он заставил себя приподняться на локте.
– Лея?
Та все еще оставалась там, съежившись перед хижиной, не более чем в десяти шагах выше по склону. И смотрела на него с таким выражением на лице, что он с трудом смог встретить ее взгляд.
– Не надо меня жалеть! – прорычал ей Перрин. – Не…
Мурддраал прыгнул с крыши хижины, прыжок его длился, казалось, неестественно долго, и все то время, которое заняло это его затянувшееся падение, черный плащ саваном стекал с его плеч, будто Получеловек уже стоял на земле. Безглазый взор был прикован к Перрину. Пахло от чудовища как от самой смерти.
Мурддраал не сводил взгляда с Перрина, и руки и ноги юноши сковал растекшийся по ним холод, грудь превратилась в ледяную глыбу.
– Лея, – шептал он. Больше он ничего не мог сделать, и лишь одно это удерживало его от бегства. – Лея, прошу тебя, спрячься. Прошу тебя.
Получеловек направился к Перрину – медленно, преисполненный уверенности, что страх удержит жертву в силке. Он двигался подобно змее, держа наготове меч, черный настолько, что клинок виден был лишь в отблесках пламени от горящих деревьев.
– Отруби треноге одну ножку, – произнес тихо мурддраал, – и она упадет.
Шелест его голоса напоминал звук, с которым осыпается пораженная сухой гнилью кожа.
Лея вдруг шевельнулась и бросилась вперед, пытаясь руками обхватить ноги мурддраала. Тварь отмахнулась темным мечом за спину, почти что мимоходом, даже не оглянувшись, и женщина осела.
Слезы выступили в уголках глаз Перрина. «Я должен был помочь ей… спасти ее. Я должен был сделать… хоть что-то!» Но под гнетом безглазого взора мурддраала не то что двинуться – даже думать было неимоверно тяжко.
Мы идем, брат. Мы идем, Юный Бык.
Слова в глубине разума наполнили голову Перрина звоном, как от удара колокола; отзвуки дрожью прошлись по телу. Вместе со словами пришли волки, десятки волков наводнили его сознание, и в тот же миг Перрин увидел, что и сами они хлынули в чашу-низину. Горные волки, ростом почти по пояс человеку, белесо-серые с ног до головы, выбегали из ночи, к удивлению заметивших их двуногих, – потому что устремились волки на бой с Испорченными. Волки заполнили Перрина изнутри так, что он едва сознавал себя человеком. Глаза его собрали свет, засияв золотисто-желтым. И Получеловек прекратил свое наступление, словно вдруг усомнившись.
– Исчезающий, – яростно прохрипел Перрин, но тут иное имя пришло к нему – от волков. Троллоки, Испорченные, созданные в годы Войны Тени посредством смешения людей и животных, сами были немалым злом, но мурддраалы… – Нерожденный! – словно выплюнул Юный Бык. Рык искривил его губы, и он кинулся на мурддраала.
Тот двигался как гадюка, извивающаяся и смертоносная, черный меч мелькал словно молния, но Перрин был Юным Быком. Так прозвали его волки. Юный Бык, с рогами из стали. Он был един с волками. Он сам был волком, а любой волк готов умереть сотню раз, лишь бы увидеть, как падет еще один Нерожденный. Исчезающий отступал под неистовым натиском, и теперь стремительный клинок Получеловека успевал лишь отражать удары Перрина.
Подколенное сухожилие и горло – вот как убивают волки. Юный Бык внезапно бросился в сторону и упал на колено, топор резанул Получеловека по сухожилию. Тот завопил – в иное время от такого пронзающего кости крика у Перрина волосы встали бы дыбом – и упал, выставив руку. Получеловек – Нерожденный – все так же крепко держал меч, но прежде, чем он успел ответить, топор Юного Быка ударил снова. Наполовину отрубленная, голова мурддраала завалилась назад и повисла за спиной; однако, все еще опираясь на руку, Нерожденный остервенело полоснул мечом по воздуху. Нерожденные всегда умирали долго.
От волков – да и собственными глазами он это видел – Юный Бык воспринял образы троллоков, с воплями, в корчах рухнувших на землю, хотя их не тронул ни волк, ни человек. Связанные с поверженным мурддраалом, теперь, раз он умер, они умирали тоже – если не были убиты до того.
Сколь ни сильно было в Юном Быке страстное желание броситься вниз по склону, присоединиться к своим братьям, убивавшим Испорченных, присоединиться к охоте за оставшимися Нерожденными, человеческая его частица, пусть и глубоко погребенная, помнила: «Лея».
Он выронил топор и бережно перевернул ее. Кровь покрывала лицо Леи, а глаза смотрели на него снизу вверх, подернутые поволокой смерти. Казалось, этот взгляд обвинял его.
– Я пытался, – сказал ей Перрин. – Пытался спасти тебя. – (Ее взгляд ничуть не изменился.) – А что еще я мог сделать? Он бы убил тебя, если бы я не убил его!
Идем, Юный Бык. Идем убивать Испорченных.
Волк одолел его, овладел им. Опустив Лею, Перрин поднял топор, влажно блеснула сталь. Когда он мчался вниз по каменистому склону, глаза его светились. Он был Юным Быком.
Там и тут деревья в низине пылали как факелы; пламя охватило высокую сосну в тот момент, когда Юный Бык вступил в бой. В ночном воздухе вспыхивали фиолетово-синие зарницы, подобные непрестанной молнии, – это Лан сошелся в схватке еще с одним мурддраалом, и сталь, сработанная древними Айз Седай, встретилась с черной сталью, выкованной в Такан’даре, что в тени Шайол Гул. Лойал орудовал посохом размером с добрую жердину из забора, деревянный вихрь отмерял пространство, куда троллок мог попасть лишь сбитым с ног. Люди отчаянно сражались среди пляшущих теней, но Юный Бык – Перрин – приметил краешком сознания, что слишком многие из шайнарских двуногих пали.







