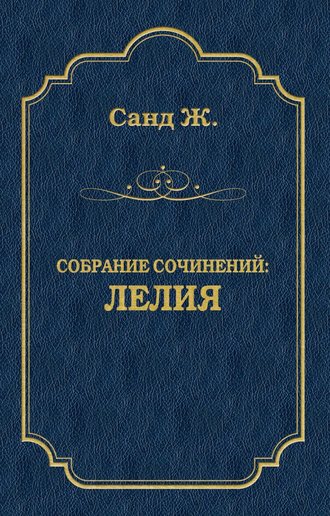
Жорж Санд
Лелия
Глава XIV
Несколько часов спустя они были на балу в доме богатого музыканта Спуэлы. Тренмор и Стенио вошли под своды круглой залы, где каждый звук отдавался трепетным эхом; взглядам их открылась целая анфилада других зал, полных движения и гула. Танцующие пары скользили затейливыми кругами при бледном свете свечей, цветы увядали в тяжелом воздухе, звуки оркестра замирали под мраморным сводом, и в горячем тумане бала двигались взад и вперед фигуры людей в праздничных нарядах, бледные и молчаливые. Но над всем этим пышным празднеством, над этими яркими красками, смягченными реющей в глубине дымкой и сгустившейся атмосферой, над диковинными масками, над сверкающими бриллиантами, над легкой кадрилью и группами молодых и веселых женщин, над движением и шумом – над всем возвышалась одинокая фигура Лелии. Стоя на ступеньках амфитеатра, опершись на бронзовую полуколонну, она смотрела на бал. На ней тоже был маскарадный костюм, но костюм этот был благороден и мрачен, как и она сама, строг и вместе с тем изыскан; лицо ее было бледно, серьезно, глубокие глаза напоминали юных поэтов былых времен, когда вся жизнь была пронизана поэзией и когда поэзия не спускалась в толпу. Откинутые назад черные волосы Лелии оставляли открытым ее лоб, на котором десница Всевышнего, казалось, запечатлела ее таинственную, несчастную судьбу; взгляд юного Стенио беспрерывно устремлялся к ней с тревожной настороженностью кормчего, который прислушивается к малейшему дуновению ветра и приглядывается к движению едва заметных облачков на совсем еще чистом небе.
Большие глаза Лелии, смотревшие из-под то и дело хмурившихся бровей, казались еще чернее, еще бархатистее, чем надетая на ней мантилья. Матовая бледность ее лица и шеи сливалась с широким белым воротником, а холодное дыхание ее словно застывшей груди, казалось, даже не шевелило ни черной атласной курточки, ни золотой цепочки, трижды обвивавшей ее шею.
– Взгляните на Лелию, – сказал Стенио восхищенно, – взгляните на этот высокий греческий стан, облаченный в одежды благочестивой и страстной Италии; на эту античную красоту, пропорции которой утратило нынешнее ваяние; на эту глубокую задумчивость, присущую философическим векам; на эти богатые формы и черты; на эту восхитительную стройность, воплощения которой, ныне утраченные, могли быть созданы только под гомеровским солнцем; взгляните, говорю вам, на эту физическую красоту: она одна могла бы быть всемогуща, а Господу было угодно вдохнуть в нее весь великий разум нашей эпохи!..
Можно ли представить себе что-либо более совершенное, чем Лелия в этом одеянии, в этой позе, погруженная в такое глубокое раздумье? Это безупречная мраморная Галатея с небесным взглядом Tacco[5] и с горькой улыбкою Алигьери. Это непринужденная и рыцарственная поза юных героев Шекспира: это поэтический любовник Ромео, это бледный аскет, это духовидец Гамлет; это Джульетта, полумертвая Джульетта, которая прячет на груди своей яд и воспоминание о разбитой любви. Можно начертать самые великие имена истории, театра, поэзии на этом лице, которое как бы подводит итог всему, ибо вмещает в себе все. Молодой Рафаэль, должно быть, пребывал в таком восторге, когда Господь явил ему прелестные видения целомудренной красоты. Так сурово и сосредоточенно умирающая Коринна слушала свои последние стихи[6], которые молодая девушка читала у стен Капитолия. Молчаливый и таинственный паж Лары замыкался так в уединении, презирая толпу.
Да, Лелия сочетала в себе все эти идеальные качества, ибо в ней слились воедино гении всех поэтов, величие всех героев. Вы можете наречь Лелию всеми этими именами; самым великим, самым гармоничным из всех перед Богом будет все-таки имя Лелии! Лелии – чье светлое и ясное чело, чье большое и щедрое сердце вмещает в себе все великие мысли, все благородные чувства: религию, энтузиазм, стоицизм, жалость, упорство, страдание, милосердие, прощение, чистоту, смелость, презрение к жизни, ум, энергию, надежду, терпение, все, вплоть до невинных слабостей, до прелестного женского легкомыслия, до переменчивости и беззаботности, которые являются, может быть, ее самым приятным преимуществом и самой могучей притягательной силой.
Все, кроме любви, – мрачно добавил Стенио после минутного молчания. – Тренмор, вы, который знаете Лелию, скажите мне, знала ли она любовь? Что же, если нет, то Лелию нельзя назвать человеческим существом. Это только мечта, такая, какую может создать себе человек, красивая или возвышенная, но ей всегда не хватает чего-то, чему нет имени и что скрыто от нас облаком, что превыше небес, к чему мы неустанно стремимся и чего не можем ни достичь, ни когда-либо увидать, нечто истинное, совершенное и неизменное; может быть, это и есть Бог, может быть, это зовется Богом! Но человеческому уму все это недоступно! Взамен Господь дал человеку любовь, слабое излучение небесного огня, душу вселенной, которую он способен ощутить, эту Божественную искру, этот отблеск Всевышнего, без которого самое прекрасное существо ничего не значит, без которого Христос только образ, лишенный жизни, – вот этой-то любви и нет в Лелии. Что же такое Лелия? Тень, мечта, самое большее – мысль. Там, где нет любви, нет и женщины.
– И вы думаете так же, – сказал Тренмор, не отвечая на то, что для Стенио было вопросом, – что там, где нет любви, нет и мужчины?
– Я верю в это всей душой! – воскликнул юноша.
– В таком случае я тоже мертв, – сказал Тренмор, улыбаясь, – ибо у меня нет любви к Лелии, а уж если Лелия не пробудила ее во мне, никакая другая женщина не сможет этого сделать. Мне только кажется, Стенио, что вы ошибаетесь и что с любовью происходит то же, что и с другими эгоистическими страстями. Я думаю, что там, где они кончаются, только и начинается человек.
В эту минуту Лелия спустилась со ступенек и подошла к ним. Величие, полное печали, окружавшее Лелию словно ореолом, почти всегда отчуждало ее от толпы. Женщина эта никогда не выказывала своих чувств на людях. Она замыкалась в себе, чтобы посмеяться над жизнью, но она шла по ней, исполненная ненависти и недоверия, и старалась казаться суровой, чтобы по возможности избавиться от всякого соприкосновения с обществом. Вместе с тем она любила празднества, шумные сборища. Для нее они были своего рода театром. Она приходила туда, чтобы предаваться раздумью, одинокая среди толпы. Толпа не сразу привыкла к тому, что она как бы парит над ней и все время старается почерпнуть новые впечатления, никогда не делясь своими. Между Лелией и толпой не было никакого общения. Если у Лелии и возникали некие тайные пристрастия, она не позволяла себе возбуждать их в других – ей это было не нужно. Толпа могла не понять этой странности, но она была зачарована и, стараясь, чтобы это неведомое ей существо, независимость которого ее оскорбляла, спускалось к ней, разверзлась перед этой удивительной женщиной с каким-то безотчетным почтением, к которому примешивался и страх.
Бедный молодой поэт, который любил ее, несколько лучше понимал причины ее власти над людьми, хотя и не решался еще себе в этом признаться. Временами он был так близок к печальной истине, которую искал и в то же время отталкивал от себя, что испытывал к Лелии нечто вроде ужаса. Ему казалось тогда, что Лелия – его бич, его злой гений, самый опасный для него на свете враг. Видя, как она теперь приближается к нему, одинокая и задумчивая, он почувствовал какую-то ненависть к этому существу, которое ничто как будто не связывало с остальным миром. Этому безумцу не пришло даже в голову, что, если бы он видел, что она улыбается и говорит, страдания его были бы куда больше.
– Вы словно мертвец, приоткрывший свой гроб и явившийся сюда, чтобы разгуливать среди живых, – сказал он жестко и с горечью. – Смотрите, люди сторонятся вас, они боятся коснуться вашего савана, вам едва смеют взглянуть в лицо: зловещая тишина парит вокруг вас, как ночная птица. Рука ваша тоже холодна, как тот мрамор, которого вы только что касались.
Лелия ответила ему странным взглядом и холодной улыбкой; некоторое время она молчала.
– Мне только что приходили в голову другие мысли, – сказала она наконец. – Я принимала вас всех за мертвецов, а сама, живая, наблюдала за вами. Я говорила себе, что есть что-то необычайно мрачное во всех этих маскарадах. В самом деле, разве не печально воскрешать так канувшие в вечность эпохи и заставлять их развлекать наши дни? Все эти костюмы былых времен, являющие нам давно ушедшие поколения, здесь, в разгаре празднеств, какой это страшный пример, напоминающий нам о быстротечности человеческой жизни? Где они, горячие головы, кипевшие под этими беретами и тюрбанами? Где молодые и пламенные сердца, которые бились под этими атласными куртками, под этими корсажами, вышитыми золотом и жемчугом? Где все гордые красавицы, которые кутались в эти тяжелые ткани, которые украшали свои пышные волосы этими старинными диадемами? Увы! Где все эти калифы на час, которые блистали так же, как ныне мы? Они прошли по жизни, не думая ни о поколениях, которые проходили перед ними, ни о тех, которые за ними последуют, не думая о своей собственной жизни, украшая себя золотом, обливаясь духами, живя среди роскоши и звуков музыки, в ожидании могильного холода и забвения.
– Они отдыхают от жизни, – сказал Тренмор. – Счастливы те, которые покоятся в мире!
– Должно быть, ум человека очень уж ограничен, – ответила Лелия, – и удовольствия его очень пусты; должно быть, простые и легкие наслаждения быстро теряют для него свою прелесть, если среди радости и торжества он неизменно испытывает вновь и вновь это ужасающее чувство тоски и страха. Видите, человек богатый и веселый, один из счастливцев этой земли, чтобы одурманить себя и забыть, что дни его сочтены, не может придумать ничего лучшего, чем выкапывать остатки прошлого, одевать своих гостей в личины смерти и устраивать у себя во дворце танцы для теней своих предков!
– Душа твоя мрачна, Лелия, – сказал Тренмор, – можно подумать, что ты одна здесь боишься не умереть в свой черед.
Глава XV
«Этот молодой человек заслуживает больше сочувствия, Лелия. Я думал, что у вас от женщины только прелесть и обаяние. Неужели же в вас гнездятся и присущие ей бесстыдное тщеславие и жестокая неблагодарность? Нет, я готов скорее усомниться в существовании Бога, нежели в доброте вашего сердца. Лелия, скажите же мне, что вы хотите сделать с душой поэта, которая отдалась вам и которую вы приняли, поступив, может быть, неблагоразумно! Теперь вы уже не можете оттолкнуть ее – она разобьется, и берегитесь, Лелия, Господь спросит у вас за нее отчета, ибо от Него она к нам пришла, к Нему и должна вернуться. Нет сомнения в том, что юный Стенио – один из Его избранников. Разве Он не наделил его красотой своих ангелов? Есть ли на свете юноша чище и нежнее? Я никогда не видел более умиротворенного лица, никогда не видел неба, такого синего и прозрачного, как его глаза. Я никогда не слышал девического голоса более сладостного и гармоничного, чем его голос; произносимые им слова подобны слабым и чуть приглушенным звукам, которые издают струны арфы от дуновения ветерка. А его медленная походка, его движения, небрежные и грустные, его белые тонкие руки, его нежное и гибкое тело, его шелковистые белокурые волосы, цвет его лица, переменчивый как осеннее небо, этот яркий румянец, который заливает его щеки от одного вашего взгляда, эта голубоватая бледность, которую одно ваше слово разливает по его губам, – по всему видно, что это поэт, что это целомудренный юноша, душа, которую Господь послал в этот мир на страдание, чтобы испытать ее и тогда лишь возвести ее в ангельский чин.
А если вы оставите эту душу на ветру разъедающих страстей, если вы погасите ее подо льдами отчаяния, если покинете ее в глубине пропасти, как найдет она тогда путь к небесам? О женщина! Обдумайте ваши поступки! Не раздавите это нежное дитя тяжестью вашего страшного разума! Берегите его от ветра, и от солнца, и от света, и от холода, и от ударов молнии – от всего, что нас обессиливает, опрокидывает, сушит и убивает. Помогите ему ходить по земле, укройте его полою вашего плаща, проведите его меж рифов. Разве вы не можете быть ему подругой, сестрой или матерью?
Я знаю все то, что вы мне уже успели сказать, я понимаю вас, я вас поздравляю, но раз вы счастливы (в той мере, в какой вам дано быть счастливой), я забочусь уже не о вас, а о нем, о том, кто страдает; я его жалею. Послушайте, женщина! Неужели у вас, которой известно столько всего, неведомого мужчине, – неужели у вас нет средства помочь его горю? Неужели вы не можете поделиться с другими частицей той мудрости, которую вам даровал Господь? Неужели вы можете творить только зло и бессильны содеять добро?
Ну что же, Лелия, если это действительно так, надо удалить от вас Стенио или вам самой бежать от него».
Глава XVI
«Удалить Стенио или бежать от него! О, пока еще нет. Вы так холодны, сердце ваше так старо, друг мой, что вы говорите о том, чтобы бежать от Стенио, будто речь идет о том, чтобы покинуть этот город ради другого, людей сегодняшнего дня ради людей завтрашнего, будто речь идет о том, чтобы вы, Тренмор, покинули меня, Лелию!
Я знаю, вы достигли своей цели, вы спаслись от кораблекрушения, и вот вы в гавани. Никакое чувство не возвышается в вас до настоящей страсти, вам уже ничего не нужно, никто не может ни создать, ни разрушить ваше счастье, вы сами и творец его, и его хранитель. Я тоже, Тренмор, поздравляю вас, но я не могу подражать вам. Я восхищаюсь вашей упорной и основательной работой, но все созданное вашими усилиями – это крепость, а я женщина, я художник, и мне нужен дворец: я не буду в нем счастлива, но, во всяком случае, не умру. А в ваших ледяных и каменных стенах я не проживу и дня. Нет, пока еще нет! Господь этого не хочет! А можно ли опережать Его веление? Если мне дано достичь той ступени, на которой вы находитесь сейчас, я по крайней мере хочу быть достаточно зрелой, чтобы воспринять всю мудрость, и достаточно уверенной в себе, чтобы с грустью не оборачиваться назад.
Мне уже слышатся ваши слова. „Слабая и жалкая женщина, – скажете вы, – ты боишься получить то, о чем часто просишь, я ведь видел, как ты добивалась победы, которую отталкиваешь теперь от себя!..” Ну что же! Я слаба, я труслива, но во мне нет ни неблагодарности, ни тщеславия, я лишена этих женских пороков. Нет, друг мой, я не хочу разбивать сердце человека, не хочу гасить душу поэта. Успокойся, я люблю Стенио».
Глава XVII
«Вы любите Стенио! Женщина, вы лжете. Подумайте о том, кто мы – вы, он и я. Вы любите Стенио! Этого нет и не может быть. Подумайте только о столетиях, которые вас разделяют! Вы увядший, измятый, сломанный ветром цветок; вас без конца качали волны всех морей сомнения и разбивали потом о берег отчаяния! А вы решаетесь пуститься еще в одно путешествие? Нет, не может этого быть, Лелия! Что надобно теперь таким, как мы с вами? Покой могилы. Вы прожили жизнь! Так дайте же жить и другим. Не кидайтесь, печальная и всегда ускользающая тень, на путь тех, которые не завершили своей задачи и не потеряли надежды. Лелия, Лелия! Могила зовет тебя. Разве ты недостаточно страдала, несчастная, от всей своей философии? Так закутайся в саван, спи наконец в тишине, усталая душа, которую Господь больше не осуждает уже ни на труд, ни на страдание.
Это верно, вы достигли меньшего, чем я. У вас остались еще какие-то воспоминания о прошлом. Вы еще боретесь иногда с врагом человека – с надеждой на земные блага. Но верьте мне, сестра моя, всего лишь несколько шагов отделяют вас от цели. Состариться легко, но никому еще никогда не случалось помолодеть.
Повторяю, дайте ребенку спокойно расти и жить, не губите еще не распустившийся цветок. Не овевайте вашим ледяным дыханием чудесные, залитые солнцем дни его весны. Не надейтесь дать ему жизнь, Лелия: жизни в вас больше нет, вам остается лишь сожаление о ней; вскоре, как и у меня, у вас останется только воспоминание».
Глава XVIII
«Ты мне это обещал, ты будешь нежно любить меня, и мы с тобой будем счастливы. Не пытайся опередить время, Стенио, не старайся во что бы то ни стало добраться до тайн жизни. Дай ей подхватить тебя и унести туда, куда все мы идем. Ты боишься меня? Самого себя тебе надо бояться, самого себя надо сдерживать, ибо в твои годы воображение портит самые сочные плоды, принижает все радости. В твои годы люди не умеют пользоваться ничем, они всё хотят знать, всем владеть, все исчерпать, а потом удивляются, что блага человека так ограничены, в то время как удивляться следовало бы только сердцу человека и его потребностям. Послушай меня, иди тихонько, упивайся по очереди всеми этими невыразимыми радостями слова, взгляда, мысли, всеми этими столь много значащими мелочами рождающейся любви. Разве мы не были счастливы вчера под сенью этих деревьев, когда сидели рядом и одежды наши соприкасались, а взгляды находили друг друга во мраке? Было совсем темно, и все же я видела вас, Стенио; я видела вас таким, какой вы есть, – прекрасным, и мне казалось, что передо мною сильф этих лесов, душа этого ветра, ангел этого таинственного и нежного часа. Заметили ли вы, Стенио, что есть часы, когда мы вынуждены любить, часы, когда нас охватывает вдохновение, когда сердце бьется чаще, когда душа вырывается на свободу и разбивает все оковы воли, чтобы найти другую душу и слиться с нею?
Сколько раз с наступлением ночи, когда всходит луна, или с первыми лучами дня, сколько раз в полуночной тишине и в тишине другой, полуденной, такой подавляющей, такой мучительной и тревожной, я чувствовала, как сердце мое устремляется куда-то к неведомой цели, к неясному, безымянному счастью, рассеянному повсюду в воздухе, в небе, будто незримый возлюбленный, будто сама любовь! И все-таки, Стенио, это не любовь. Вы слепо верите, вы ничего не знаете и на все надеетесь, а я знаю все, знаю, что по ту сторону любви есть желания, потребности, надежды, которые никогда не гаснут. Чем был бы без них человек? Для любви ему дано на земле так мало дней!
Но в эти часы то, что мы чувствуем, настолько живо, настолько властно, что мы распространяем его на все, что нас окружает; в эти часы, когда Господь владеет нами и нас наполняет собою, мы изливаем на все его творения сияние озарившего нас луча.
Разве вы никогда не плакали от любви к этим светлым звездам, которыми усеян синий покров ночи? Разве вы никогда не становились перед ними на колени, не простирали к ним руки и не называли их вашими сестрами? А потом – человек ведь привык к тому, чтобы его привязанности сосредоточивались на чем-то одном: для больших чувств он слишком слаб, – разве вам не случалось воспламениться страстью к одной из них? Разве вы в любви своей не выбирали из всех то ту, что мерцает красным светом над полосою темных лесов у самого горизонта, то другую, бледную и кроткую, которая прячется, словно стыдливая дева, за влажными, густыми отблесками луны; то эти три сестры, одинаково белые, одинаково прекрасные, которые светятся таинственным треугольником; то эти две сияющие подруги, которые спят, прижавшись одна к другой, в чистом небе, среди мириад менее ярких звезд. А все эти каббалистические знаки, все эти неведомые письмена, все эти странные фигуры, огромные и исполненные величия, которые они чертят над нашими головами, – неужели у вас никогда не являлось желание объяснить их и прочесть в них великие тайны нашего предназначения, летосчисления мира, имени Всевышнего, будущее души. Да, вы вопрошали эти светила с горячим восторгом, и в дрожащем блеске их лучей вам чудились влюбленные взгляды; вам чудился голос, звучавший с высоты, чтобы приласкать вас, чтобы сказать вам: „Надейся, от нас ты ушел, к нам ты и вернешься! Я твоя отчизна, это я зову тебя, я иду за тобой, рано или поздно я буду тебе принадлежать!”
Любовь, Стенио, это не то, что вы думаете, это отнюдь не тяготение всех наших сил к одному существу: это священное тяготение самых возвышенных сфер нашей души к неизведанному. Будучи существами ограниченными, мы беспрерывно хотим утолить терзающие нас ненасытные желания; мы ищем некую цель вокруг нас и, по несчастной нашей расточительности, наделяем наших недолговечных идолов всеми духовными красотами, виденными нами во сне. Одних чувств нам мало. В сокровищнице наивных радостей, которыми нас тешит природа, нет ничего достаточно изысканного, чтобы утолить снедающую нас жажду счастья. Нам нужно небо, а у нас его нет!
Вот почему мы ищем неба в подобном себе создании и тратим на него всю ту высокую энергию, которая была нам дана для более благородного употребления. Мы отказываем Господу Богу в благоговении, чувстве, которое было вложено в нас, чтобы возвратиться вновь только к Богу. Мы перенесли это чувство на несовершенное и слабое существо, которое для нас, идолопоклонников, становится Богом. В дни молодости мира, когда человек не грешил перед своей природой и не изменял зову сердца, любовь одного пола к другому в нашем теперешнем понимании этого слова не существовала. Единственным связующим звеном было наслаждение; страсть духовная со всеми возникающими на ее пути препятствиями, страданиями, всей ее напряженностью – зло, которого прежние поколения не знали. Ибо в то время существовали божества, а теперь их нет.
В наши дни души поэтические переносят свой благоговейный восторг даже на физическую любовь. Странная ошибка жадного и бессильного поколения! Вот почему, когда ниспадает Божественный покров и когда из-за клубов ладана, в ореоле любви появляется на свет творение слабое и несовершенное, мы в испуге от нашего обмана, мы краснеем и опрокидываем идола и попираем его ногами.
А вслед за тем мы ищем другой! Нам ведь надо любить, а мы еще часто ошибаемся, до того самого дня, когда, образумившиеся, очищенные, просветленные, мы наконец расстаемся с надеждой надолго привязаться к чему-то земному и обращаем к Богу восторженную и чистую хвалу, которую нам всегда следовало бы воссылать только Ему одному».







