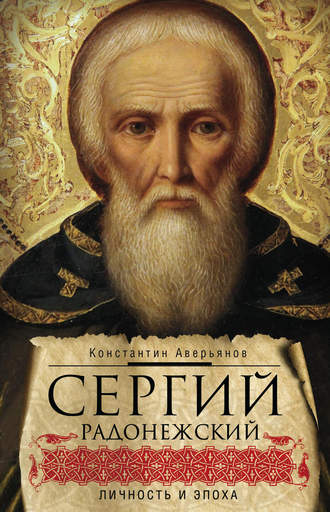
К. А. Аверьянов
Сергий Радонежский. Личность и эпоха
Эти слова преподобного, переданные Епифанием, заставляют поставить вопрос: составлял ли Сергий правила иноческой жизни для насельников своего скита? Известно, что традиция составления особого устава («правил»), предназначенного только для одной обители, издавна существовала в Православной церкви. На Руси она прослеживается с XIV в. Упомянем, в частности, о грамоте 1382 г. суздальского архиепископа Дионисия монахам Псковского Снетогорского монастыря.[220]
И хотя, ввиду состояния источников, этот вопрос применительно к Троицкому монастырю представляется чрезвычайно сложным, все же можно говорить, что при Сергии подобного устава не было. Указание на это видим в словах Епифания, что собравшаяся на Маковце братия «живяху о Бозе, смотряше житиа преподобнаго Сергиа и тому по силе равнообразующеся».[221] Судя по этому высказыванию, руководством для монахов являлся не писаный устав, а личный пример фактического руководителя обители.
Это подтверждается и тем, что первый из написанных уставов Радонежской школы – Устав преподобного Иосифа Волоцкого – был зафиксирован на бумаге более чем через сто лет после жизни Сергия Радонежского. Он вобрал в себя уставы Пафнутия Боровского и Кирилла Белозерского – последователей троицкого игумена.[222]
Помимо отсутствия устава, у обители не было даже формального настоятеля. Именно так следует понимать сообщение Епифания, что церковные службы (надо думать, еженедельные и по «двунадесятым» праздникам) отправлялись призываемыми со стороны священником или игуменом: «а на обедню призываше некоего попа суща саном или игумена сътарца, и того приимаше и повелеваше ему творити святую литургию». Из дальнейшего рассказа агиографа следует, что им был постригший Сергия игумен Митрофан.[223]
В этот период, по мнению одних историков, Митрофан по-прежнему являлся игуменом Хотьковского монастыря и лишь окормлял пустынников. На взгляд других, Митрофан оставил игуменство в Хотьковском монастыре и перешел настоятельствовать в Троицу. Однако с последним утверждением согласиться нельзя. Как справедливо отмечают третьи, Маковецкая обитель, в основу которой были положены независимость и самообеспечение каждого инока, в своей повседневной жизни вообще не нуждалась в игумене в том смысле, какой обычно вкладывается в это понятие. Игумен Троицкой обители этого времени – чисто номинальная должность. Своим знаком власти – посохом – он пользовался лишь в храме да еще во время единственной в году общей братской трапезы. Все вопросы внутренней жизни обители решались общим собранием всех ее полноправных обитателей.[224]
Из десятка с небольшим насельников Троицкой обители в начальный период ее существования Епифаний Премудрый называет, как мы помним, всего троих: Василия Сухого, Якова Якута и Онисима. Возможно, это были те самые «древние старцы», которых Епифаний еще застал при своем появлении в монастыре и о которых он упоминает в предисловии к «Житию» Сергия.[225]
Имеющиеся в нашем распоряжении источники позволяют выяснить имя по крайней мере еще одного из насельников Троицкого монастыря в тот период, когда он представлял собой монашеский скит. Им являлся Мефодий Пешношский, впоследствии ставший основателем Николо-Пешношского монастыря. К сожалению, наши сведения о нем крайне скудны. По свидетельству историка К. Ф. Калайдовича, занимавшегося в 1820-х гг. историей Николо-Пешношского монастыря, в этой обители имелось житие Мефодия Пешношского, но во второй половине XVIII в. оно было утрачено. Поэтому, воссоздавая его биографию, мы можем опираться лишь на отдельные его крупицы, дошедшие в составе монастырского предания. Согласно ему, преподобный Мефодий, презрев суету мира, еще в юношеских годах удалился в Троицкую обитель, а через некоторое время ушел на Яхрому, где позднее основал свой монастырь в 25 верстах от Дмитрова. В литературе, посвященной Сергию Радонежскому, Мефодий Пешношский обычно именуется учеником Сергия. Однако тропарь, сочиненный в конце XVII в. монахом Мисаилом в честь Мефодия, называет последнего «собеседником и спостником» Сергия.[226] Некоторая необычность этого выражения позволяет с большой долей вероятности предположить, что оно было позаимствовано из жития Мефодия, с которым автор тропаря был, несомненно, знаком. Тот факт, что тропарь именует Мефодия не учеником, а «собеседником и спостником» Сергия, явственно указывает на время пребывания Мефодия в начальный период становления Троицкой обители, когда Сергий официально еще не был игуменом монастыря.
Нам остается выяснить время появления собравшихся вокруг Сергия первых насельников на Маковце. Современные исследователи, исходя из предположения, что Сергий провел в одиночестве около двух лет, склонны датировать это событие периодом около 1343–1344 гг. Но в реальности преподобный еще в 1349 г. жил отшельником. Все это заставляет отнести возникновение общины к началу 1350-х гг., скорее всего – к 1350–1352 гг.
В начальный период, как уже говорилось, Троицкая обитель еще не представляла собой монастырь в привычном для нас понимании, а являлась монашеским поселением – скитом, членов которого окормлял игумен Митрофан, настоятель ближайшего Хотьковского монастыря. Но такое положение продолжалось относительно недолго. По свидетельству Епифания, «по лете же единем (после возникновения монашеского поселения. – Авт.) прежереченный игуменъ (Митрофан. – Авт.)… разболеся, и неколико время поболевъ, от сего житиа преставися и къ Господу отъиде».[227] Перед братией встал вопрос: кто его заменит?
Глава 2
Первые годы игуменства
Вопрос о главе обители. Поставление Сергия в игумены. Определение даты этого события. Приход в монастырь Симона, архимандрита Смоленского. Возвращение в обитель старшего брата Сергия – Стефана. Причины возвращения. Пострижение сына Стефана. Освоение земель вокруг монастыря. Нехватка продовольствия в обители, определение причин этого и датировки. Поездка в Ростов – первая миротворческая миссия Сергия Радонежского. Участие в основании Борисоглебского монастыря. Уточнение времени его создания
После смерти Митрофана среди насельников монастыря возникли споры, кому его возглавить. Епифаний Премудрый говорит об этом довольно обтекаемо: «въниде же некое размышлние въ братию его».[228] Собравшись между собой, все сошлись на кандидатуре Сергия. Не последней причиной стало и то, что обитель располагалась на земле, принадлежавшей его роду. Но на предложение игуменства Сергий отвечал отказом, мотивируя его тем, что «аз и помышлениа не имех еже хотети игуменьства, но тако желаеть душа моа скончатися и в чрънецех на месте семъ». В ответ на это братья поставили перед ним дилемму: «Мы же речем ти: или самъ буди игуменъ, или шед спроси нам игумена у святителя».[229]
Только в результате долгих уговоров, когда братья даже пригрозили Сергию в случае его отказа уйти с Маковца, он согласился на компромисс: пойти вместе с двумя старцами к епископу Афанасию просить его дать им нового игумена. То, что преподобный направился именно к Афанасию, было не случайно. Поставление в игумены требовало санкции высшей церковной власти. Поскольку Радонеж территориально входил в митрополичью церковную область, где в качестве епископа выступал сам митрополит, Сергий должен был просить игумена для Троицкой обители именно у него. Но митрополита Алексея в этот момент на Руси не было (по словам Епифания, «тогда бывшу ему въ Цариграде»), и Сергию пришлось обратиться к замещавшему его епископу Афанасию.
Выслушав просьбу пришедших и «распытав» Сергия, о котором уже был наслышан, Афанасий объявил, что именно он достоин стать настоятелем Троицкой обители. В один день он поставил Сергия сначала в иподьяконы (то есть в помощники дьякона), а затем в дьяконы. «Наутриа же съвръши его иерейскым саном»,[230] который давал ему право занять должность игумена. Став священником и получив право отправлять церковные службы, Сергий возглавил обитель.
Епифаний не сообщает точной даты поставления Сергия в игумены. Но ее легко вывести из «Жития», где указано, что это произошло, когда «митрополиту же Алексею всеа Руси тогда бывшу ему въ Цариграде, въ граде же Переславли повеле быти въ свое место епископу Афонасию Велыньскому».[231] Таким образом, Сергий стал игуменом в отсутствие на Руси митрополита Алексея. По нашему расчету, это произошло в промежуток между 25 марта и осенью 1354 г., когда Алексей возвратился на Русь. По времени это совпало с утверждением последнего главой Русской церкви.
В литературе существуют разногласия о времени постав-ления Сергия в игумены. Н. С. Борисов и Б. М. Клосс датируют это событие 1354 г.[232] При этом последний дал развернутую аргументацию в пользу выбора названной даты. В частности, он указал, что «по сбивчивым летописным указаниям, Алексей ездил в Константинополь дважды – в 1353–1354 и 1355–1356 гг. Время второй поездки исключается, так как, согласно «Житию», Сергий уже в качестве игумена постриг 12-летнего сына своего старшего брата Стефана», родившегося, по расчету Б. М. Клосса, не позже 1342 г. Отсюда исследователь делает вывод, что «Сергий был поставлен в игумены в 1353–1354 гг.». Исторические реалии определенно указывают на 1354 г. Во-первых, документально засвидетельствовано пребывание Алексея в Византии как раз в 1354 г.: подорожная грамота ордынской ханши Тайдулы на проезд в Константинополь выдана Алексею 11 февраля 1354 г.,[233] а поставлен Алексей в митрополиты патриархом Филофеем 30 июня 1354 г.[234] Далее, по русским источникам отмечено пребывание епископа Афанасия в Переславле также в 1354 г.: в этом году («в лето 6862») чернецом Иоанном Телешем было написано Евангелие «при великом князе Иоанне Ивановиче, при епископе Афонасии Прияславьскомь».[235]
В. А. Кучкин, соглашаясь с Б. М. Клоссом, что речь должна идти о первой из указанных поездок Алексея в Константинополь, относит поставление Сергия к лету – осени 1353 г.[236] Его аргументация в пользу 1353 г. сводится к следующим обоснованиям. В настольной грамоте, выданной Алексею патриархом Филофеем 30 июня 1354 г., указывается, что Алексей находился в Константинополе «в продолжении почти целого года».[237] Сергия ставил переяславский епископ Афанасий, который занимал эту кафедру уже в апреле 1353 г., о чем свидетельствует духовная грамота Семена Гордого.[238] Поскольку Сергий стал преемником игумена Митрофана, скончавшегося, по мнению В. А. Кучкина, во время эпидемии 1353 г., то назначение Сергия игуменом надо относить не к 1354, а к 1353 г. Правда, этой датировке противоречит наличие ярлыка Тайдулы, выданного Алексею для проезда в Константинополь в феврале 1354 г. Но на взгляд В. А. Кучкина, указание Б. М. Клосса на него «не имеет смысла, поскольку за несколько месяцев до написания этой грамоты Алексей находился в Константинополе».[239]
Подобная датировка, основанная на довольно странном пренебрежении источником, заставляет вновь обратиться к обстоятельствам первой поездки Алексея в Константинополь и его поставления в митрополиты. Из летописных сообщений выясняется, что в конце 1352 г. митрополит Феогност, очевидно предчувствуя свою близкую кончину, стал думать о своем преемнике на митрополичьей кафедре. 6 декабря 1352 г. он поставил Алексея владимирским епископом, «а по своемъ животе благословилъ его въ свое место на митрополию».[240] Столь необычный на первый взгляд шаг предстоятеля Русской церкви объяснялся весьма просто: единая Русская митрополия готова была расколоться на две – владимиро-московскую и литовско-польскую, включавшую православные епархии Юго-Западной Руси. Борьба с этой тенденцией стала, пожалуй, главной задачей митрополита Феогноста. При этом он понимал необходимость опоры на светскую власть. Поэтому Феогност, по рассказу Рогожского летописца, «погадавъ съ сыномъ своимъ съ княземъ великимъ Семеномъ и съ его братиею: съ княземь Иваномъ и Андреемъ и съ бояры и съ велможами», решил направить «послы въ Царьгородъ – отъ великаго князя Дементий Давидовичь да Юрьи Воробьевъ, а от митрополита – Артемий Коробьинъ да Михаило Гречинъ Щерба-тои».[241] Московский летописный свод конца XV в. уточняет главную цель посольства к патриарху: «яко да не поставит иного митрополита на Русь, кроме сего Алексия митрополита». Из последующего рассказа летописца выясняется, что главную надежду на исполнение своей просьбы, противоречившей церковной практике, московское правительство возлагало не столько на патриарха, сколько на византийского императора Иоанна VI Кантакузина. Под следующим, 1353 г. летописец сообщает: «Того же лета приидоша из Царягорода послове, посылании къ царю и къ патриарху великимъ княземъ Семеномъ и митрополитомъ Фегностомъ, и принесоша грамоты царевы и патриарши къ владыце Алексею, повелеша бо ему ити ко Царюгороду ставитися на митрополью. Он же поиде въ Царьгород».[242] На основании этого свидетельства принято считать, что Алексей отправился в Константинополь летом 1353 г.
Однако целый ряд фактов свидетельствует о том, что это произошло несколькими месяцами позже. Лето 1353 г. стало одним из самых сложных периодов в истории Московского княжества. Эпидемия чумы в первой половине этого года, как уже говорилось, практически выкосила московский княжеский дом: после кончины великого князя Семена (26 апреля) и его брата Андрея (6 июня) из сыновей Калиты в живых остался лишь один – удельный звенигородский князь Иван Красный. Будучи достаточно бесцветной личностью, он и по воспитанию, и по своему характеру мало подходил для занятия великокняжеского стола. Неудивительно, что в этой обстановке русские князья «сперлись» о великом княжении и для разрешения своего спора отправились в Орду. Накал борьбы был настолько велик, что даже новгородцы, обычно не участвовавшие в подобных мероприятиях, «послаша в Орду посла своего Семена Судокова ко царю, просяще великого княженья князю Коньстантину Васильевичу Суздальскому».[243] Сложившейся ситуацией старался воспользоваться каждый – 22 июня 1353 г. рязанцы, благодаря отсутствию Ивана Красного на Руси, захватили принадлежавшую москвичам волость Лопасну и пленили тамошнего наместника Михаила Александровича, одного из виднейших московских бояр.[244] Понятно, что в этих непростых условиях владыка Алексей никак не мог покинуть Москву.
Некоторый спад напряженности произошел лишь осенью 1353 г., когда хан утвердил великим князем Ивана Красного. Тот вернулся в Москву после Крещения, уже в самом начале 1354 г.,[245] и Алексей стал готовиться к поездке в Константинополь.
Помимо указанных обстоятельств Алексея задерживали и события, происходившие в самой Византии. Именно в этот период там начинается острая борьба за власть между двумя императорами-соправителями. Подросший и чувствовавший себя ущемленным Иоанн V Палеолог начал открытую борьбу со своим тестем Иоанном VI Кантакузином. Тогда последний решил сделать вместо Палеолога младшим соправителем своего сына Матфея. Этому плану воспротивился патриарх Каллист. Отказавшись короновать Матфея, он бежал из столицы к Иоанну V на остров Тенедос. Вместо него на трон «вселенского» патриарха был возведен Филофей.[246] Эта смена высшей церковной власти в столице Византийской империи произошла в ноябре 1353 г.[247] На Руси, несомненно, внимательно следили за перипетиями этой борьбы, и Алексей мог направиться в Византию для своего утверждения только после того, когда окончательно стало ясно, какая из враждебных партий победила в Константинополе.
Добраться из Москвы в Царьград можно было двумя путями: либо через литовские владения, либо через земли Золотой Орды. Но первый путь категорически исключался. После смерти митрополита Феогноста литовский князь Ольгерд задумал поставить на освободившуюся Русскую митрополию своего ставленника Романа, и ехать через литовские владения для Алексея означало бы попасть прямо в руки противников. Единственно возможной оставалась дорога через золотоордынские земли. Путь был неблизким, а главное – небезопасным. Поскольку Алексей для успеха дела брал с собой значительные ценности и денежные средства, он должен был озаботиться получением охранной грамоты от властей Золотой Орды. В безлюдной степи лишь угроза ханского гнева могла хоть как-то защитить от нередких любителей поживиться за чужой счет. 10 февраля 1354 г. ханшей Тайдулой на имя Алексея был выдан соответствующий ярлык.[248]
Грамота была выдана Тайдулой в Гюлистане. В литературе его местоположение определяется по-разному. Одни утверждают, что Гюлистан находился в низовьях Волги, близ Сарая, другие помещают его где-то в пределах города Булгара. Не берясь за столь сложный вопрос, отметим важное для нас обстоятельство – должно было пройти какое-то время, пока ярлык был доставлен в Москву.[249] К тому же у нас есть четкое указание источника, что Алексей двинулся в Константинополь не ранее 25 марта 1354 г., когда во Владимире Иван Красный торжественно взошел на великокняжеский стол. Об этом свидетельствует настольная грамота патриарха Филофея, сообщающая, что одним из аргументов, сыгравших положительную роль в назначении Алексея митрополитом, стал отзыв о нем Ивана Красного: «теперь же и благороднейший великий князь кир Иоанн, по Господу возлюбленный и нарочитый сын нашей мерности, писал об нем к высочайшему и святому моему самодержцу и к святой Великой Церкви Божией».[250] Указание на Ивана Красного как великого князя со всей очевидностью свидетельствует, что Алексей отправился в Константинополь лишь после того, как московский князь 25 марта 1354 г. официально получил великокняжеский титул. Только после этого события, обеспечив себе надежный тыл и поддержку великокняжеской власти, Алексей смог покинуть Русь.
Но как в данном случае быть с утверждением В. А. Кучкина, что Алексей к 30 июня 1354 г. проживал в Константинополе на протяжении «почти целого года»? Здесь мы снова вынуждены упрекнуть историка в неполном цитировании. В упомянутой выше настольной грамоте патриарха Филофея, откуда якобы взято данное утверждение, дословно говорится: «…мы (то есть патриарх. – Авт.), после надлежащего, самого тщательного испытания в продолжение почти целого года, вполне удостоверились и нашли, что он (то есть Алексей. – Авт.) во всем оправдывает свидетельства о нем как бывших там ромеев и общей доброй и похвальной славы его имени, так и самих русских, из разных мест и в разное время сюда приходивших с добрыми о нем отзывами…»[251] Из этой цитаты видно, что речь идет отнюдь не о почти годичном пребывании Алексея в Константинополе, а лишь о том, что «в продолжение почти целого года» патриарх собирал из различных источников сведения о кандидате на русскую митрополию. Это было вполне оправданно, ибо, говоря о просьбе покойного митрополита Феогноста назначить выбранного им самим преемника, Филофей характеризует ее как совершенно необычную и не вполне безопасную для Церкви. Тем не менее он соглашается выполнить ее «только ради столь достоверных похвальных свидетельств о нем и по уважению к его добродетельной и богоугодной жизни, и притом – только относительно одного кир Алексия».[252]
Отсюда вытекает и наш основной вывод – Сергий был поставлен в игумены в 1354 г. (точнее, в промежуток между 25 марта и осенью 1354 г., когда Алексей возвратился на Русь). По времени это совпало с утверждением митрополита Алексея главой Русской церкви.[253]
И в дальнейшем, на протяжении двух с лишним десятилетий, судьбы этих двух церковных деятелей XIV в. – Сергия Радонежского и митрополита Алексея – будут постоянно пересекаться.
Первые годы игуменства Сергия не богаты внешними событиями. Особых изменений в жизни обители не произошло – ее насельники по-прежнему жили отдельно друг от друга, собираясь лишь на общую молитву. Епифаний сообщает, что в начале игуменства Сергия «беаше братиа числом два на десяте мних, кроме самого игумена, третиаго на десяте». Это число насельников оставалось неизменным на протяжении двух-трех лет, несмотря на то что их персональный состав постоянно менялся. Очевидно, некоторые из монахов умирали, другие не выдерживали трудностей монашеского быта, третьи уходили в новые места, чтобы самостоятельно продолжать отшельническую жизнь. На смену им приходили новые, и в обители по-прежнему жили 12 монахов, не считая игумена.[254]
Немногочисленный состав братии сохранялся в Троицком монастыре вплоть до прихода в 1356 г. нового насельника – Симона, архимандрита Смоленского. О нем Епифаний сообщает следующее: «Сей убо дивный мужь Симонъ бяше архимандритъ старейши, славный, нарочитый, паче же рещи добродетельный, живый въ граде Смоленьске. И оттуду слышавъ яже о житии преподобнаго отца нашего Сергиа и ражьжегъся душею и сердцемь: оставляет архимандритию, оставляет честь и славу, оставляет славный град Смоленескъ, вкупе же с ним оставляет отечестьтво и другы, ужики (родных. – Авт.), ближникы, и вся знаемыа и сръдоболя; и въспримлет смирениа образ, и произволяеть странничьствовати. И оттуду въздвижеся, от таковыа от далняа страны земля, от Смоленьска, в Московскыа пределы, еже есть в Радонежь. Прииде в монастырь къ преподобному отцу нашему игумену Сергию, и съ мнозем смирением моляше его, дабы его приалъ жити у него под крепкою рукою его в повиновании и въ послушании. Еще же и имение принесе съ собою и предасть то игумену на строение монастырю».[255]
Приход архимандрита Симона в Троицкую обитель – факт не совсем обычный. В связи с этим В. А. Кучкин задает вполне оправданный вопрос: «Почему принесший с собой „имение“ Симон, явно занимавший высокое положение в смоленской церковной иерархии, не захотел оставаться в Смоленске, а предпочел скромный подмосковный монастырь?» В поисках ответа исследователь указал на возросший военный натиск литовцев на Смоленскую землю. Под 1356 г. летописец сообщает, что «тое же осени воевалъ Олгердъ Брянескъ и Смоленескъ». Спустя три года он же «во-евалъ Смольнескъ, а Мьстиславль взялъ», а в 1365 г. снова «осень всю стоялъ оу Смоленска ратию и много зла сътворивъ».[256] Все это делало пребывание в Смоленском княжестве опасным, и Симон (по предположению Е. Е. Голубинского, он был архимандритом смоленского Борисоглебского монастыря на Смядыни[257]) предпочел удалиться в более безопасные места. Его появление в Троицком монастыре, по мнению В. А. Кучкина, следует датировать временем после 1356 или 1359 г.[258]
Соглашаясь с В. А. Кучкиным, что приход в Троицкий монастырь Симона был связан с военными действиями на Смоленщине, мы относим это событие к 1356 г. Основанием для этого служит то, что сразу после рассказа о Симоне Епифаний помещает сообщение о появлении в Троицком монастыре старшего брата преподобного – Стефана. Это событие произошло в том же 1356 г.
Епифаний сообщает, что в обители Стефан появился вместе со своим младшим сыном Иваном. «И въшед въ церковь, имъ за руку десную сына своего, предасть его игумену Сергию, веля его пострищи въ иночьский образ». Тот не стал перечить брату и постриг племянника, «нарече имя ему въ мнишеском чину Феодоръ».[259]
Историки, обращая внимание на то, что, согласно «Житию» Сергия, племяннику преподобного в момент его поселения с отцом в Троицком монастыре было 12 лет, высказывали различные версии о причинах его пострижения в столь юном возрасте и дате этого события.
Понятно, что он не мог родиться после принятия Стефаном монашеской схимы. Если сын Стефана родился в 1341 г., делает предположение В. А. Кучкин, «то прийти вместе с отцом к Сергию он должен был не позднее 1353 г.». Причиной того, что Стефан оставил Москву и вместе с младшим сыном ушел к брату, исследователь называет моровое поветрие 1353 г.[260]
Разумеется, печально знаменитую эпидемию чумы 1353 г. можно было бы счесть вполне веским поводом для того, чтобы Стефан, спасая младшего сына, попытался укрыться от нее в лесной глуши Радонежа. Но остается совершенно непонятно – зачем при этом необходимо было постригать в монахи 12-летнего ребенка. Принять доводы В. А. Кучкина мешает и другое обстоятельство, на которое указал Б. М. Клосс: согласно «Житию», Сергий постриг племянника, будучи уже игуменом.[261] Выше было показано, что настоятелем обители преподобный стал в 1354 г., когда эпидемия уже сошла на нет. Отсюда становится ясно, почему В. А. Кучкин, пытаясь преодолеть это противоречие, так настойчиво стремился отнести поставление Сергия в игумены к лету – осени 1353 г.
Поскольку, по мнению Б. М. Клосса, Феодор родился не позже 1342 г. (именно в этом году, по расчетам историка, Стефан овдовел и постригся в монахи), выходит, что Сергий постриг племянника, которому шел тринадцатый год, в 1354–1355 гг.[262] В этот период Сергий уже стал игуменом. Но, решив эту проблему, Б. М. Клосс столкнулся с другой – по прямому указанию Епифания, между поставлением Сергия в настоятели и приходом к нему Стефана прошло не менее двух-трех лет,[263] а следовательно, предложенную им датировку также следует отвергнуть.
С другой стороны, историк не ответил на вопрос, что толкнуло Стефана постричь своего сына в монахи в столь юном возрасте.
Не случайно поэтому Н. С. Борисов выдвинул другую версию событий, связанных с уходом Стефана из Москвы. Отыскивая более серьезную причину для решительного шага Стефана, нежели предложенное В. А. Кучкиным бегство от морового поветрия, Н. С. Борисов полагает, что «бывший великокняжеский духовник и богоявленский игумен, по-видимому, лишился своих постов в 1347 г., после совершенного втайне от митрополита третьего брака Семена Гордого. Как духовный отец князя, он нес ответственность за его поступок. Возможно, Стефан был виноват и в том, что не сообщил митрополиту о намерении великого князя». Что же касается его сына Феодора, то, по расчету Н. С. Борисова, «сын Стефана родился где-то в середине 30-х годов XIV в.».[264] Таким образом, оказывается, что племянник Сергия принял постриг не в столь юном возрасте, а уже достаточно сформировавшимся человеком.
В подтверждение своих взглядов Н. С. Борисов указывает, что «в биографии Федора Симоновского, как она представлена в Житии Сергия, вообще много неясного». В первую очередь он обратил внимание, что у Епифания о возрасте пострижения Феодора сказано довольно неопределенно: «Не-ции же реша, яко десяти лет постриженъ бысть, и инии же двою на десяте лет».[265] (От себя заметим: это свидетельствует о том, что Епифаний не был очевидцем этого события, а появился в Троицкой обители уже после ухода оттуда Феодора и основания последним Симонова монастыря. Точное же определение возраста Феодора в момент пострижения – 12 лет – впервые появляется у продолжателя Епифания – Пахомия Логофета.[266])
Откуда же тогда Епифаний взял известие, что Феодор был пострижен в 10 лет? По мнению Н. С. Борисова, «первый возраст (10 лет), скорее всего, назван по „теоретическим“ соображениям. Согласно церковным канонам (40-е правило VI Вселенского собора), именно с этого возраста разрешалось давать монашеский постриг. Агиограф, не зная точной даты пострижения Феодора, явно хотел таким образом подчеркнуть благочестие Сергиева племянника, с самых ранних лет обратившегося к иночеству. Однако так ли это было на самом деле? Еще церковные авторы прошлого (XIX. – Авт.) столетия высказывали сомнение в точности этого необычного известия. Очевидно, здесь, как и в ряде других сюжетов, агиограф, подобно иконописцу, соединил в одной композиции два совершенно разных события. Одно событие – появление племянника Сергия на Маковце. Возможно, Стефан привел сына на воспитание в Троицу в возрасте 12 лет, но пострижен он был лишь спустя несколько лет, после необходимого испытательного срока».[267]
Отсюда вырисовывается достаточно стройная схема: после того как Стефан лишился игуменства в Богоявленском монастыре (в 1347 г.), он привел своего сына, которому в этот момент как раз исполнилось 12 лет, на воспитание к Сергию, который спустя несколько лет, уже став игуменом, постриг племянника в монахи. Правда, полностью исследователь в ней не уверен: «Впрочем, и такое решение Стефана выглядит довольно странно. Отцы монашества (как и древнерусские подвижники) не одобряли совместного проживания взрослых монахов с детьми или отроками. Для них предписано было создавать особые приюты вне стен монастыря. (Афанасий Афонский, например, не допускал отроков не только в своем монастыре, но и на всей Святой горе. Для их воспитания и подготовки к монашеству он отвел уединенный остров в море.) Но таких приютов Троицкий монастырь, насколько известно, не имел».[268]
Несмотря на оригинальность некоторых из этих версий, вопрос о времени возвращения Стефана в Троицкий монастырь остается до сих пор невыясненным. Между тем, следуя указаниям Епифания, эту дату все же можно определить. В первой главе нашей книги мы выяснили, что жена Стефана скончалась, очевидно, от той эпидемии, о которой упоминает Рогожский летописец под 1344 г.[269] Поскольку Иван (в монашестве Феодор) был младшим сыном Стефана, можно предположить, что он родился именно в этом году, а следовательно, 12 лет ему должно было исполниться в 1356 г.
Какие же события произошли в этом году? Под этой датой («въ лето 6864») Рогожский летописец помещает следующее известие: «Тое же зимы на Москве вложишеть дьяволъ межи бояръ зависть и непокорьство, дьяволимъ наоучениемь и завистью оубьенъ бысть Алексий Петровичь тысятьскии месяца февраля въ 3 день, на память святаго отца Семеона Богоприемьца и Анны пророчици, въ то время егда заоутренюю благовестять, оубиение же его дивно некако и незнаемо, аки ни отъ кого же, никимь же, токмо обретеся лежа на площади».[270]
Речь в данном отрывке идет о видном московском боярине Алексее Петровиче Хвосте. Историки связывают его убийство с борьбой внутри столичного боярства за пост московского тысяцкого, являвшегося по сути начальником городского ополчения. Как известно, при Иване Калите московским тысяцким был Протасий Вельяминов, которого сменил на этом посту его сын Василий. Последний умер в промежуток между 1347 и 1356 гг. и должность тысяцкого стала предметом соперничества, в котором Вельяминовых одолел Алексей Петрович Хвост. Однако эта победа стоила ему жизни.
«Летописцы, – отмечает академик С. Б. Веселовский, – рассказывают об этом крупном московском событии как-то сбивчиво, загадочно, с недомолвками. Одни говорят, что Алексей Петрович был убит „боярскою думою“, то есть боярским заговором, другие выражаются менее определенно: „всех общею думою… яко же Андрей Боголюбивый от Кучко-вичь, тако и сий от своея дружины пострада“.[271] Убийство было действительно „дивно“, т. к. вообще у бояр было обыкновение никуда не выходить без сопровождения вооруженных слуг, а здесь был покинут своей дружиной и убит не кто иной, как главнокомандующий Москвы и Московского княжения. Явно, что Алексей Петрович был предан и убит своими слугами, подкупленными его врагами из боярской среды. Последующие события показывают, что убийство было совершено не „всех общею думою“, а боярской партией, которая встретила отпор со стороны третьей партии, настолько сильной, что эта последняя не позволила заговорщикам воспользоваться плодами своего преступления и поставила их под угрозу возмездия. Если они не были наказаны немедленно, то только потому, что великий князь был в это время в Орде».[272]







