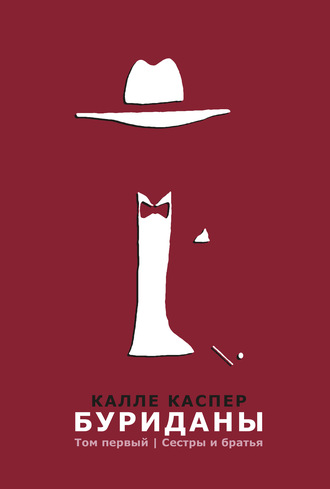
Калле Каспер
Буриданы. Сестры и братья
Глава третья
София
В коридоре царила тишина – для Софии, как всегда и везде. В палате могли хоть орать, хоть бить стекла, до нее это донеслось бы лишь в виде легкого звукового фона, словно кто-то в другом крыле санатория играет на органе. В городе, на улице, было даже приятно лишь теоретически представлять себе, какой жуткий шум издают огромные самосвалы и прочие машины, как скрипят трамваи и грохочут компрессоры, в радость было также не слышать гама пьяниц и визга дурно воспитанных девушек, но когда в санаторий ложился новый больной, и надо было собирать анамнез, глухота становилась для нее причиной душевных мук. Конечно, у нее был присланный из Германии слуховой аппарат, который она берегла, как самое дорогое свое сокровище, но, пользуясь им, она в полной мере ощущала неестественность этого моста между нею и остальным миром. Насколько все-таки хрупкое существо человек, как несовершенен его организм – отбери у него одно из чувств, и он уже становится беспомощным. Тебя словно заключают в твой же внутренний мир – ты думаешь, понимаешь, страдаешь, но не можешь поделиться своими переживаниями с другими, ибо какой смысл обращаться к окружающим, если ты не слышишь, что они говорят тебе в ответ. Остается беседовать с самой собой, тоже, кстати, не худший вариант, по крайней мере, не надо постоянно смущаться из-за людской глупости. Конечно, музыка! В качестве небольшой компенсации именно музыка была единственным, что по какому-то странному пути, словно сквозь кости черепа, попадало во внутреннее ухо, правда, только живая музыка, и почему-то, в основном, фортепианная. Прошлой зимой она ходила на концерт Рихтера и слышала почти все звуки, кроме piano pianissimo – радость, которую можно было сравнить разве что с видом на озеро Боден. Ох, иметь бы и самой, как когда-то, рояль! Почти двадцать лет ей пришлось жить без этого инструмента, позапрошлой осенью она взглянула на свой счет в сберкассе и подумала, что теперь может позволить себе роскошь обзавестись им, но случилось несчастье с Эрвином, и пришлось помогать Тамаре, а потом у Эдуарда возникла идея построить дом. Дело это выглядело многотрудным, и София предпочла бы отговорить мужа, но с Эдичкой тоже надо было считаться, муж в последнее время стал нервным, наверно, бессознательно чувствовал, что годы уходят, а ничего не сделано. У нее, у Софии, все-таки была профессия, она лечила, возвращала людям здоровье, иногда даже вытаскивала из пасти смерти, но разве можно было считать серьезной мужской работой Эдичкину должность физкультинструктора? Дом предоставил мужу шанс создать что-то своими руками, но давалось это им нелегко, Эдичка не привык решать хоть что-нибудь самостоятельно, советовался с Софией по любому поводу, так что ей пришлось вникать в даже совсем чуждые ей проблемы, вроде того, как копать котлован для фундамента или какие выбрать кирпичи, белые или красные. Еще она думала с огорчением, что теперь застрянет в деревне до конца жизни, в душе она тайно лелеяла мечту после выхода на пенсию обзавестись какой-то жилплощадью в Таллине, чтобы, с одной стороны, быть ближе к братьям и сестрам, а с другой, чувствовать себя опять той, кем она была по рождению, горожанкой – как-никак в детстве она слушала в Большом театре Шаляпина и видела в Художественном «Вишневый сад» – но, видимо, такова была ее судьба, как и глухота, неизбежная, поскольку построить дом было возможно только здесь, где их все знали, где у нее было много пациентов, и кто-то вечно помогал транспортом или материалами…
На пороге кабинета старшей сестры беззвучно, словно призрак, возникла Роза – София никак не могла привыкнуть к тому, что другие слышат ее шаги, для нее все люди ходили, как по вате. В коридор Розу наверняка выманило любопытство, это она ответила на звонок междугородней станции и побежала через двор звать Софию, теперь ей, конечно, хотелось выяснить, что случилось, Софии звонили редко, только по крайней необходимости, все знали, как трудно ей говорить по телефону. Сама София никогда себя так, как Роза, не повела бы, ее воспитывали иначе, одна из максим мамы гласила: не вмешивайся в чужие дела; мама и не вмешивалась, она была человеком гордым, однако сердиться на Розу София не стала, чего можно требовать от простой деревенской женщины, тем более, что старшая медсестра обладала другими достоинствами, например, вечером можно было с легкой душой оставить санаторий под ее присмотром, с небольшими сложностями Роза справлялась сама, за врачом посылала, только если случалось что-то серьезное. Исчезновение Эрвина наверняка заинтересовало бы Розу, она неплохо знала брата, так как уже работала здесь, когда Эрвин после лагеря лечился от туберкулеза, брат, благодаря своим прекрасным манерам, был любимцем персонала, особенно женщин, он обращался ко всем, к санитаркам и уборщицам в том числе, на «вы», называл их «госпожами» и «барышнями», встречаясь с кем-то в парке мызы приподнимал шляпу и всегда открывал перед «дамами» дверь, однако София не хотела говорить Розе о бегстве Эрвина и потому промолчала, тем более, что спросить ее прямо Роза постеснялась, промолчала, только поинтересовалась, все ли в порядке, покачала головой, когда узнала, что один из новых пациентов уже попался на курении, и сообщила наконец, что должна съездить на станцию, не возражает ли Роза?
– Езжайте спокойно, сегодня здесь уже ничего не случится! – сказала та, София увидела, как ее глаза загорелись от любопытства, и вышла.
По-прежнему капало, завтра можно идти по грибы, сейчас же София открыла зонтик, по пандусу прошла во двор и засеменила довольно быстрым по своим меркам шагом – обычно она «бежать» не любила, к двухэтажному деревянному зданию, в котором когда-то обитал многочисленный служилый люд мызы, экономки, кучера и горничные, теперь же ютился персонал санатория. Шестнадцать лет назад они с отцом совершенно случайно, по дороге из Лейбаку в Таллин, заехали сюда, главврач только что бежал вместе с немцами, и больные, услышав, что София тоже доктор, спросили, не владеет ли она случайно техникой пневмоторакса? Задать подобный вопрос ей – да ведь это сама София много лет назад привезла усовершенствованный вариант этого лечебного метода из Германии в Эстонию, до того здесь никто не знал, что двусторонний пневмоторакс возможен, чем же пациент дышит, удивлялся, помнится, один коллега. Из Тарту метод попал в Таллин, потом в провинцию, чему она радовалась, но в радости этой была и доля горечи, поскольку ей самой именно тогда пришлось переквалифицироваться в зубные врачи, скучная профессия, как будто медицина, но только как будто, унылое ремесло без творческого начала, однако деваться было некуда, кому нужен глухой пульмонолог? Потом выяснилось, кому – советской власти. Те несколько пневмотораксов София в тот раз сделала, ни на что не надеясь, просто из добросовестности, но когда они несколькими днями позже, когда Таллин был уже освобожден, заспешили туда, папа боялся, что красноармейцы займут пустую квартиру Виктории, как это уже однажды, до войны, произошло, и она пошла в министерство сообщить о ситуации: «Санаторию срочно нужен врач!», замминистра, которого она знала, тут же сунул ей в руки ручку: «Пишите заявление. Сами и поедете!» Вот тогда сердце действительно екнуло, как никогда раньше, выйдя из начальственного кабинета, она даже прослезилась, что в те времена было ее характеру совершенно не присуще, в следующий раз такое с ней случилось уже девятью годами позднее: когда по радио передали сообщение о смерти Сталина, она не удержалась и заплакала, присутствовавший при сем пациент удивленно спросил: «Доктор Буридан, неужели вы приняли это так близко к сердцу?», а она не могла сказать вслух, что плачет от счастья.
Открыв, словно в немом фильме, дверь, она вошла в полутемный коридор и стала карабкаться вверх по крутой лестнице. Просто удивительно, как условия жизни с годами могут все ухудшаться и ухудшаться! Разве ту единственную комнату, к которой она сейчас поднималась, можно было сравнить с просторным жильем отца в центре Тарту? А насколько узок и низок был даже тартуский дом по сравнению с их еще более ранней московской квартирой, где можно было часами играть в прятки, так, что не становилось скучно? Кстати, намного больше, чем по той квартире, она скучала по самой Москве, по особому свободному духу, который встречается только в метрополии, по огромным книжным магазинам, по вечно куда-то спешившей толпе, в которой было так просто раствориться, и, конечно, по театрам, по десяткам театров. Для Софии было полным потрясением, когда они, приехав после оптации в Тарту, вышли из поезда и потрусили на извозчике к своему временнему обиталищу, каждый раз потом, когда ей попадалось в книгах предложение, которое писатели, кажется, очень любили, «В тот день кончилось его детство», она думала, что именно это с ней тогда и случилось.
Эдичка сидел за столом, углубленный в «вычисления», как он это называл, – зрелище, Софии хорошо знакомое, папа всю жизнь прибавлял и вычитал, умножал и делил, рассчитывал продажу и прибыль, но для Эдички ситуация оказалась новой, он после школы арифметикой не занимался и сейчас с удовольствием увильнул бы, если бы София не купила ему в райцентре толстую тетрадь в клетку и не велела отмечать все расходы, связанные с постройкой дома, чтобы «не потерять ориентацию». Вот и потел Эдичка каждый вечер за кухонным столом, потел больше, чем когда копал котлован, не говоря об уроках лечебной физкультуры. Хилый в юности, недокормленный муж с годами стал покрепче, да и разумом в общении с образованной женой трезвее, но математический талант все же нечто другое.
– Кто звонил?
Голос Эдички доносился словно из-под земли, хотя София знала, что муж почти кричит. Пользуясь привилегиями глухой, она не спешила ответить, подошла сначала к стене, где, рядом с барометром висел пришпиленный булавкой лист бумаги с расписанием поездов.
– Эдичка, нам надо ехать на станцию. Звонила Виктория, Эрвин пропал. Они думают, что он мог отправиться сюда.
– Он ведь сообщил бы!
София притворилась, что не услышала контраргумента, открыла гардероб и стала искать, что надеть – вечера были уже холодные. Ничего не улавливая ушами, спиной она все-таки интуитивно почувствовала, как Эдичка послушно закрывает тетрадь и встает, возможно, мужу даже было по душе, что удастся хоть ненадолго отодвинуть неприятную работу.
– Пойду выведу машину из гаража, спускайся через пять минут! Слышишь?
Да, София слышала, но реагировать опять-таки не стала – чего ради говорить, если все понятно. Она выбрала одежду: толстые чулки, юбку, свитер, сплошь подарки больных, только туфли она купила сама, добротные немецкие туфли, которые носила уже двадцать пять лет – наверно, рекорд, подумала она с умилением, но она и ухаживала за ними, как за пациентами, много лет надевала только по праздникам, потом – когда собиралась в город, и только теперь, когда с кожи совсем уже слезла краска – в районе дома. Ни раньше, ни позже ее кошелек не позволил бы сделать хоть одну покупку в столь шикарном магазине, как тогда в Берлине, когда договор закончился, и она возвращалась на родину, чувствуя себя богачкой. В санатории Шейдегга не на что было тратить деньги, комната и еда были бесплатными, вот она откладывала и откладывала несколько лет подряд – и правильно делала, поскольку на родине царила безработица, и ей еще долго пришлось жить на сбережения. Ох, и бедной была та Эстонская республика, сколько народу вообще не получало никакой медицинской помощи, денег на визит к частному врачу у людей не было, а государственные доктора были наперечет, то ли государство не имело средств, то ли оно предпочитало расходовать их на другое, короче говоря, с тем, что сейчас, не сравнишь – если бы только в промежутке не было Сталина…
Погасив свет и выйдя в коридор, София, на всякий случай, заперла дверь, поездка, правда, предстояла недолгая, но осторожность никогда не помешает, воры водились, хоть и не в таком количестве, как сразу после войны, тогда однажды увели даже лошадей из конюшни санатория, а у них из хлева две свиньи, папа им подарил поросят, и они с Эдичкой добросовестно их выкармливали; голодать им все-таки не пришлось, в то время в радиусе десяти километров не было больше ни одного врача, и все жители окружающей местности ходили к ней, какие только манипуляции Софии не приходилось делать, даже искусственное дыхание утопающим, не говоря об акушерской помощи и накладывании гипса при переломах, самый трудный случай она помнила до сих пор, маленький мальчик уже пять дней мучился с дифтерией, когда мама наконец ее вызвала – ребенка удалось спасти, она сделала укол сыворотки в шейную вену и отправила его в больницу. Конечно, за помощь она никогда ничего не требовала, но, если предлагали, например, копченый окорок или яйца, не отказывалась, принимала, чтобы доставить удовольствие благодарному пациенту – да, это были интересные годы, наверно, самые интересные в ее жизни, каждый врач должен бы однажды пройти через такое.
«Москвич» уже стоял в дверях, вторая игрушка Эдички после скрипки, и обе мужу подарила она. Удивительные все-таки бывают люди, вот и Эдичка как будто не всегда понимал, что подобает и что нет, в начале их знакомства он как-то попросил Софию сходить в больницу и отнести его брату передачу, сам он, видите ли, «не может смотреть, как брат страдает». София, конечно, выполнила просьбу молодого квартиранта, ее воспитывали в духе отзывчивости, не христианского милосердия, верующих в их семье не было, мама терпеть не могла священников, а обычной человеческой взаимопомощи, однако поведение Эдуарда все-таки расценила, как странное. Совсем же потрясла ее следующая его просьба, пару лет спустя, купить ему немецкую скрипку. Правда, тогда они уже знали друг друга получше, София в то время ночевала в поликлинике, поскольку от их дома остался один фундамент, а квартирант, тоже оказавшийся без крыши над головой, умолил пустить его спать в комнату медсестры, на кушетку, но ничего «такого» между ними не было, и потому желание заиметь вроде не самый необходимый предмет показалось ей, мягко говоря, не совсем ординарным. Но какая-то непонятная жалость, которую она испытывала по отношению к этому маленькому, худому и вечно голодному деревенскому парню, помешала ей сказать «нет», и она дала Эдуарду деньги на скрипку. Могла ли она тогда знать, что несколько лет спустя они поженятся? Наверно, война соединяла людей, учила выручать друг друга, снаряды падали дождем, в первый раз, когда наступали немцы и отступали русские, и во второй, когда роли поменялись, мужчин мобилизовывали то в одну, то в другую армию, от русских Эдуарду удалось дезертировать, эшелон, которым их транспортировали в Псков, был разбомблен, и он вернулся лесами обратно в Тарту, но от немцев спастись не удалось, пришли за ним домой и забрали больного гриппом юношу прямо из постели. К счастью, тевтонским офицерам, привыкшим иметь дело с крепкими стройными парнями, не понравилось телосложение Эдички, его не послали даже на аэродром, во вспомогательный отряд, а отправили на один из островов Чудского озера охранять склад вина – отправили и забыли об его существовании, вот откуда была та бутылка шампанского, которым они отмечали свою помолвку. «Раз уж помереть, то под мухой, и с девушкой на коленях!» – бахвалился тогда Эдичка, в душе надеясь, что русские не узнают про его службу – зря надеялся, и Софии пришлось, разыгрывая неутешную невесту, спасать его из карельского лагеря для военнопленных.
– Что ты стоишь, садись!
София не спешила следовать совету мужа, дождь перестал, а она знала, что кабина сырая, и в ней воняет бензином. Разумнее было подождать, пока Эдичка не совершит обычный ритуал, то бишь протрет тряпкой оба стекла, переднее и заднее, днем к этому добавлялись еще капот и крылья, но сейчас, в сумерках, можно было надеяться, что муж немного умерит свой пыл. На самом деле, Софии аккуратность нравилась, пожалуй, что Эдичка перенял ее у нее, София всегда имела привычку ухаживать за вещами, не потому, что поклонялась им, а поскольку знала: все стоит денег. Была ли она скрягой? Если да, то лишь чуть-чуть, но она была уверена, что одну черту никогда не переступит – люди для нее должны были оставаться важнее вещей. Она до сих помнила, как папа приехал спустя несколько дней после бомбежки Тарту и обнаружил ее на руинах дома, где она пыталась найти хотя бы столовое серебро. «Не огорчайся, у тебя есть голова на плечах, это твое главное имущество!» – утешил ее папа, и Софии сразу стало легче – если уж отец смог быть выше потери еще одного дома, то что жаловаться ей, молодой женщине?
Снова стало капать, и София, не имея желания возиться с зонтиком, все-таки влезла в кабину, где в нос ей, как и можно было ожидать, ударил запах бензина. После того, как она оглохла, ее обоняние улучшилось, даже чересчур, нарушители режима боялись ее, как огня, София из любой части санатория улавливала, когда кто-то ходил тайком покурить в парк или – упаси боже! – опустошить с приятелями бутылку на троих. Запахи медикаментов ей нравились, ароматы некоторых блюд тоже, но когда Эдуард весной удобрял картофельный участок навозом, она зажимала нос, да и запаха пота терпеть не могла, к счастью, Эдуард следил за чистотой своих рубашек, тут Софии трудно было бы его упрекнуть, если по чести, это должно было входить в ее обязанности, разве папа хоть раз в жизни стирал свои носки, но папа с утра до вечера работал, содержал большую семью, так и она была загружена выше головы, ее рабочий день длился двенадцать часов, кроме лечащего врача она числилась еще и радиологом, потому и многие домашние хлопоты словно сами собой легли на Эдичку, муж как будто был даже этим доволен, вот и он приносит пользу, зарплату-то он получал маленькую – нет, Эдичка все-таки был ей хорошим другом.
«Друг» тем временем, убедившись, что сколько стекла не вытирай, очередные капли снова оставят на них пятна, отказался от дальнейших попыток и тоже сел в кабину. Чистка машины, его, кажется, согрела, он сразу стащил куртку, оставшись в тренировочном костюме, и даже бросил кепку на заднее сидение, обнажив череп, который блестел, как скамейка в большой круглой аудитории тартуского университета; впрочем, сарказм ее неуместен, с ее красивыми темными пышными локонами тоже произошли бесповоротные изменения, правда, волосы не выпали, однако поседели. Вид у мужа был, как всегда, когда он садился за руль, сосредоточенно-озабоченный, Эдичка боялся всего, засухи и потопа, русских и немцев, аварии и грязи. В дождливую погоду, как сегодня, опасность исходила от луж, в сухую – от дорожной пыли, и только, когда удавалось добраться до асфальта, Эдичка успокаивался, и на его лице появлялась широкая улыбка, как в те моменты, когда он вытаскивал из реки килограммовую щуку, иногда он даже начинал петь: «Мы ребята шелковые, та-руй-ра-ра…» Да, в какой-то степени он действительно был «шелковым», не зря же выбрал такую жену, которую не надо кормить, наоборот, она и тебя накормит – но, возможно, в этом и состояла его миссия, поддерживать столь образованную женщину, как София?
Пока до песни было далеко, Эдуард с серьезным видом совершил еще целый ряд ритуальных действий, сначала задвигались «дворники», потом кабину заполнил тихий звук, напоминающий жужжание мухи – Эдичка включил мотор. Теперь следовало быть повнимательней, но София, как зачарованная, наблюдала за тем, как «дворники» стирают все новые и новые капли – это, по ее мнению, было большим чудом техники, чем сама машина, потому не заметила, как автомобиль сдвинулся с места, и чуть не ударилась лбом о переднее стекло.
– Осторожней! – закричал Эдичка, не выпуская, к счастью, руля, – разве ты не видишь, что мы едем!
София и на этот раз не стала отвечать, только на всякий случай схватилась за ручку двери: муж был нервным и тормозил при малейшем шевелении впереди или на обочинах. И сейчас он вертел головой то в одну, то в другую сторону, опасаясь, что некий возвращающийся от «девиц» пациент может выскочить на дорогу перед машиной, а особенно бдительным стал, когда они доехали до ворот и пришлось поворачивать налево – вытянув шею, он пытался увидеть, не выезжает ли из-за угла автобус санатория, и, только убедившись, что путь свободен, вывел машину по широкой дуге на ухабистую деревенскую дорогу.
– Поезжай медленнее, чтобы мы увидели Эрвина, если он вдруг выйдет навстречу!
– Увидим, увидим, не бойся! – проорал Эдичка в ответ, но послушно снизил скорость, возможно, и для того, чтобы бросить взгляд на участок – все ли в порядке, не вторгся ли вор в сарай для инструментов? – в муже уже проснулся инстинкт собственника.
Они миновали будущий дом, первый этаж которого был почти достроен, переехали деревянный мост и повернули еще раз налево, на липовую аллею. До шоссе оставалось километра полтора, по нему до станции еще два с половиной, итого четыре, прямо по тропинке было не больше двух с половиной, но прямой путь для того, чтобы ковылять по нему на костылях в темноте, не годился.
– А что случилось с Эрвином, опять приступ? – поинтересовался Эдичка, теперь, когда они оказались на ровной дороге и при свете фонарей можно было легко объезжать лужи, он чувствовал себя увереннее и был способен разговаривать.
– Он исчез. Взял с собой всю свою одежду и оставил записку, что едет в Ригу начинать новую жизнь. Этому я не верю, что ему там делать, он был в Риге всего дважды в жизни, первый раз в юности, на соревнованиях по волейболу, и второй в командировке, лет двадцать назад.
– Может, у него там какой-то старинный приятель, с тех времен, волейбольных? Или даже бывшая невеста?
Бывшая невеста… Эдичка мог иногда повести себя весьма неделикатно – инвалид, и вдруг едет к женщине. Конечно, София понимала, что муж балагурит, но он мог бы и подумать, подходящий ли для этого момент. Замечания ему она все-таки делать не стала, просто промолчала.
– Виктория полагает, что он мог поехать к нам, больше он в последние годы ведь никуда не ездил, конечно, наверняка сказать нельзя, но проверим, чтобы на душе было спокойно.
– Конечно, проверим! – кричал Эдичка. – Уже едем! К счастью, это недалеко, а то я подумал, что ты решила махнуть в Ригу.
Муж был все-таки немного обижен, что его вытащили вечером из теплой комнаты, но прямо высказывать обиду не стал, некоторые вещи и он понимал без слов, например, то, что все просьбы Софии, касающиеся братьев и сестер, подлежат безоговорочному выполнению. Ведь разве с его родственниками не обращались так же, разве Виктория не приютила, когда Моника училась в Москве, племянниц Эдички? Сперва одну, потом другую, приютит и племянника, когда тот в будущем году окончит восьмой класс и поступит в Таллине в техникум. Насколько муж это гостеприимство умел ценить на самом деле, София толком не знала, за тринадцать лет совместной жизни она неплохо изучила Эдичку, но что-то в человеке все равно остается скрытым, а вернее, были некоторые качества, которых она у мужа до сих пор не обнаруживала, например, сочувствие и великодушие, однако это не означало, что таковыми он не обладает вообще, возможно, в самом дальнем, неведомом и самому Эдичке уголке души нашли пристанище и они – но поскольку трезвый ум мешал Софии чересчур уж фантазировать, она предпочитала оставить вопрос открытым; но даже если муж рассматривал помощь родственников, как некоторого рода бартер, и то ладно, ведь Эдичка обладал другими достоинствами, он был домоседом, не гулял, выпивал редко, только на днях рождения, и то умеренно, никогда не напивался, а теперь, когда они купили машину, и вовсе ограничивался рюмочкой во здравие, курил тоже только за праздничным столом да еще когда ловил рыбу из лодки – словом, был весьма предсказуемым и легко управляемым мужем. Авторитет Софии Эдичка признавал полностью, это тоже можно было считать достоинством, поскольку Тамара, например, отнюдь не относилась к познаниям Эрвина с почтением, иногда спорила с ним даже по вопросам права – Эдичка никогда не посмел бы усомниться в медицинских знаниях Софии, единственное, что его выводило из себя, это когда София начинала учить его водить машину, вот тогда он мог действительно сказать что-нибудь резкое. София, правда, старалась помалкивать на этот счет, но иногда, когда Эдичка поворачивал не туда или нечаянно нарушал правила движения, все-таки не могла удержаться от лишних замечаний. Пылкой любви между ними никогда не было, они ведь обручились, когда Софии было уже сорок, и она в душе смирилась с одиночеством, предложение Эдички грянуло, как гром с чистого неба, и некоторое время она действительно чувствовала, по крайней мере, умиление или даже влюбленность, хотя понимала, что Эдичка видит в ней, в первую очередь, человека старше и умнее, на которого можно опереться – но что такое любовь, если не взаимная опора? Вот и их брак больше всего напоминал хорошо отлаженную машину, примерно такую, как «Москвич», на котором они сейчас ехали. Эдичка в этом контексте выполнял функции мотора, а София – рулевого механизма, в ее обязанности входила и смазка, поскольку Эдичке нравилось, когда с ним разговаривали тепло и сердечно. Был ли этот тон искусственным? Возможно, как в некотором смысле искусственна вся человеческая цивилизация, однако усилия, расходуемые на поддержание этой цивилизации, стоят того, ибо без них общество впадет в дикость. Единственное, о чем София жалела, что Эдичка не был тем собеседником, в котором она нуждалась, то есть, пока обсуждались экономические проблемы семьи, он мог иногда сказать и что-то дельное, но в искусстве, жизни и людях понимал мало, игра на скрипке вроде должна была доказывать, что и в Эдичке таится тяга к прекрасному, однако София знала, что это, скорее, маленький «театр», ибо из-под смычка Эдички выходило слишком много фальшивых нот.
Они доехали до станции, не встретив ни одного пешехода. София выбралась из кабины и прошла в деревянное здание, окошечко кассы было закрыто, она постучала, подождала какое-то время, постучала еще раз, и тут из заднего помещения выглянула Маали и, увидев Софию, радостно вскрикнула – София как-то извлекла у нее камень из мочеиспускательного канала, да так, что самой брызнуло в лицо. Эрвина Маали знала, но сегодня его не видела, правда, через десять минут должен был прийти последний поезд – может, брат приедет на нем? София кивнула и вышла на перрон, дождь перестал, было прохладно, но она не стала садиться в машину, Эдичка тоже вылез из кабины и присоединился к ней, они стояли под темным, в тучах, небом, вокруг поле, за полем лес, и только две пары рельсов у их ног напоминали, что они живут в двадцатом веке. Эрвин любил гадать, близко ли поезд, он даже опускался на колени, прикладывал ухо к шпалам и прислушивался, очень поэтично, а вот Эдичка был человеком прозаичным, просто стоял и переминался с ноги на ногу до тех пор, пока вдали не стал виден фонарь паровоза. Беззвучно подъехал состав, притормозил, так же беззвучно открылись двери, и вышло три пассажира, первого из двух мужчин и женщину София знала, они жили на ближних хуторах, второй был еще далеко, у последнего вагона, но София уже поняла, что это не Эрвин, поскольку у него было две ноги. Потом поезд все так же беззвучно тронулся с места и вскоре превратился в удаляющееся насекомое.
– Пойдем, что ты мерзнешь! – прокричал Эдичка, видя, что София не двигается с места, и словно от его голоса она вдруг почувствовала, что глаза увлажнились, вынула из кармана пальто платок, вытерла слезы и засеменила рядом с Эдичкой к машине.
– Я почему-то вспомнила рассказ Эрвина о том, как он пошел в первый раз в суд, выступать, и вахтерша не хотела пускать его в зал, спросила, что тебе здесь нужно, мальчик, а когда Эрвин показал ей адвокатское удостоверение, обалдела. «Вы же такой молодой, когда вы успели закончить университет?» Эрвин за один год сдал экзамены за два, да еще будучи в это время на действительной службе в армии, он был такой талантливый!
Она опять прослезилась и достала платок.
– Ладно, успокойся, он же не умер! – крикнул Эдичка и по-товарищески хлопнул ее по плечу – во всем, что касалось выражения чувств, муж был человеком неотесанным.
За всю обратную дорогу они не обменялись ни словечком, раз или два Эдичка чуть было тихо не запел, на самом деле, он водил машину с упоением даже в темноте и по грязной дороге, чуть не запел, но в последний момент удержался. Когда они подъехали к санаторию, дверь открылась, и на крыльце усадьбы появилась Роза в пальто, наброшенном на белый халат.
– Эдичка, остановись, наверно, что-то случилось!
Вспыхнула отчаянная надежда, а вдруг Эрвин все-таки пришел по тропинке, но ее тотчас же сменил еще больший страх – а что, если Виктория снова позвонила и… Но все оказалось проще, на одного юношу из третьей палаты напал сильный приступ кашля, и Роза, человек ответственный, решила, что лучше проконсультироваться с врачом. София тут же вылезла из машины и вошла в здание санатория, к счастью, кашель уже утих.
– Наверно, шалили с приятелями? Или даже курили?
Нет, курение Ульяс отрицал, такой симпатичный сааремааский парень, очень развитый, с ним можно было обмениваться мнениями даже о литературе, но сегодня у Софии охоты на разговоры не было, она пожелала всем спокойной ночи и пошла домой. Там она неожиданно получила взбучку от Эдички, оказалось, что она оставила ключ в замке – это было типично для мужа, выходить из себя из-за мелочей, а вещи серьезные, вроде ареста, убийств и вообще смерти, воспринимать как нечто само собой разумеющееся. София не стала реагировать на его вопли, только посмеялась своей рассеянности – от страха перед ворами запереть дверь, но вынуть ключ забыть. Чайник Эдичка, тем не менее, уже поставил, она принялась накрывать на стол, да и Эдичка утихомирился быстро, как только набил брюхо картошкой и грибным соусом – то есть муж был просто-напросто голоден, отметила София машинально, вот откуда эта истерика. Сама она съела лишь два бутерброда, аппетита не было, они выпили чаю, потом Эдичка снова вроде собрался сесть за свои вычисления, но передумал, сказал, что устал и ложится, завтра утром рано должны были привезти цемент. София тоже легла, какое-то время они читали, Эдичка газету, она «Bel-Ami» – она любила перечитывать давно прочитанные книги, французский ей, конечно, вряд ли мог когда-нибудь еще понадобиться, но в качестве гимнастики для мозгов читать на нем было полезно, потом Эдичка стал зевать и погасил бра со своей стороны кровати, и София, чтобы не мешать мужу, последовала его примеру. Но спать ей не хотелось, обычное дело, она уже привыкла к этому, бессонница означала, что она достигла определенного физиологического возраста. Лежа на спине, с несколькими подушками под головой, она думала обо всех своих, о папе и маме, которых уже не было, о несчастном Рудольфе, чья жизнь оказалась такой короткой, о Германе, Эрвине, Виктории и Лидии, которые пока были, но которых однажды тоже не будет, как и ее самой, а потом о молодом поколении, о Вальдеке, Монике, Пээтере, Пауле и Тимо – пять детей на пятерых братьев-сестер, немного. Затем ей вроде пришло в голову что-то еще, но что это было, она уже не запомнила, поскольку уснула.







