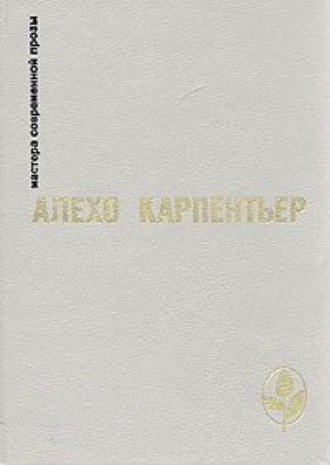
Алехо Карпентьер
Концерт барокко
– Да кому до этого дело! – воскликнул Вивальди и сразу заторопился, услышав нетерпеливый зов прекрасной Анны Джиро, которая появилась, на этот раз без блеска освещения и театральных эффектов, в глубине сцены.
– Чувствую, вам не понравилась моя опера… В следующий раз подыщу сюжет из римской истории…
На площади мавры Часовой башни пробили молотками шесть раз, а вокруг них уже спали голуби, и от каналов поднимался влажный туман, застилая эмаль и золотые украшения часов.
VIII
Труба вострубит…
Первое Послание к коринфянам, 52
Промокшие под упорным мелким дождем суконные плащи отдавали запахом хлева; мексиканец шагал мрачный, погруженный в свои мысли, не поднимая глаз, словно пересчитывал мраморные плиты площади, казавшиеся голубыми в свете городских огней; слышно было только его невнятное бормотание, в котором мысли так и не выражались словами.
– Что это, вы как будто удручены этим музыкальным представлением? – спросил его Филомено.
– Сам не знаю, – сказал наконец мексиканец, прервав свой невразумительный монолог. – Маэстро Антонио задал моим мозгам работу этой сумасбродной мексиканской оперой. Я – внук людей, родившихся в Кольменар-де-Ореха и Вильяманрике-дель-Тахо, сын эстремадурца, крещенного в Медельине, где крещен был и Эрнан Кортес. И тем не менее сегодня, сейчас вот, со мной произошло нечто весьма странное: когда лилась музыка Вивальди и развивалось сопровождавшее ее действие, я горячо хотел, чтобы восторжествовали ацтеки, я жадно ожидал развязки, совершенно невозможной: ведь я-то родился там и лучше всех знаю, как происходили события. Я сам себя поймал на нелепой надежде, что Монтесума победит спесивого испанца, а его дочь, подобно библейской героине, обезглавит выдуманного Рамиро. И я вдруг почувствовал, как, стоя среди индейцев, натягиваю лук и страстно желаю погибели тем, кто даровал мне имя и кровь. Будь я Дон Кихотом из «Балаганчика маэсе Педро» [41], я бросился бы с копьем и щитом против своих единоверцев в шлемах и кольчугах. – А разве не в том и состоит назначение театральной иллюзии, чтобы вырвать нас из обычной обстановки и перенести туда, куда по собственной воле нам не попасть? – спросил Филомено. – Благодаря театру мы можем вернуться назад и жить, независимо от теперешней нашей телесной оболочки, в те времена, что ушли навсегда.
– Назначение театра, как об этом писал один древний философ, состоит также и в том, чтобы очищать нас от тревог, скрытых в тайных глубинах нашей души… При виде искусственной Америки этого жалкого поэта Джусти я почувствовал себя не зрителем, а актером. Я позавидовал Массимилиано Милеру, надевшему одежду Монтесумы, она с пугающей достоверностью вдруг стала моей. Мне почудилось, будто певец играет роль, предназначенную для меня, а я по трусости и неумению оказался неспособен исполнить ее. Я вдруг почувствовал себя как бы вне окружающей жизни, неуместным здесь, далеким от самого себя и от того, что действительно было моим… Иногда необходимо уехать вдаль, уплыть за моря, чтобы все понять по-настоящему.
Тут мавры Часовой башни отбили время, как делали это испокон веков.
– Осточертел мне этот город с его каналами и гондольерами. Плевал я на Анчиллу, Камиллу, Джульетту, Анжелетту, Катину, Фаустоллу, Спину, Агатину и всех остальных, чьи имена даже не запомнил. Хватит! Сегодня же ночью возвращаюсь домой. Мне нужен другой воздух, чтобы вновь стать самим собой.
– Если верить маэстро Антонио, все тамошнее – одни сказки.
– Сказками питается великая история, не забывай об этом.
Сказкой кажутся наши дела здешним людям, потому что они утратили понимание сказочного. Они называют сказочным все давно прошедшее, непостижимое, оставшееся позади, – помолчав, заметил мексиканец. – Они не понимают, что сказочное ждет нас в будущем. Будущее всегда сказочно.
…Теперь они шли по веселой улице Мерчериа, менее оживленной, чем обычно, из-за дождя, моросившего так упорно, что вода начала капать с полей шляп. Мексиканец вспомнил о поручениях, которыми наградили его накануне отъезда там, в Койоакане, друзья и сотрапезники. Он, конечно, не собирался разыскивать образцы мрамора, яшмовую трость и редкие фолианты или добавлять к своей поклаже бочонок мараскина и римские монеты. Что же касается инкрустированной перламутром мандолины… пускай вместо ее струн дочка инспектора мер и весов щиплет собственные телеса, они вполне для этого подходят! Но вот здесь, в музыкальной лавке, наверняка можно найти сонаты, концерты и оратории, о которых так скромно просил учитель бедного Франсискильо. Они вошли. Для начала продавец предложил им несколько сонат Доменико Скарлатти.
– Великолепный парень, – сказал Филомено, вспомнив знаменательную ночь.
– Говорят, этот повеса сейчас в Испании и там добросердечная, любвеобильная инфанта Мария Барбара уплатила все его карточные долги, а они ведь знай растут, пока остается хоть одна колода карт в игорном доме.
– У каждого свои слабости. Этого всегда больше привлекали женщины, – сказал Филомено, кивнув на концерты маэстро Антонио. Они назывались «Весна», «Лето», «Осень», «Зима», и каждому предшествовал – в объяснение – прекрасный сонет.
– Он-то всегда будет жить весной, даже если его настигнет зима, – сказал мексиканец.
Но продавец уже восхвалял достоинства замечательной оратории «Мессия».
– Ни больше, ни меньше! – воскликнул Филомено. – Саксонец на мелочи не разменивается.
Он раскрыл партитуру.
– Черт! Вот это называется писать для трубы! Ах, если бы сыграть это!
И он с восторгом читал и перечитывал арию баса, написанную Георгом Фридрихом на слова «Послания к коринфянам». Над нотами, которые мог сыграть на своем инструменте только самый искусный исполнитель, были написаны слова, чем-то напоминающие spiritual [42]:
The trumpet shall sound
And the dead shall be raised
Incorruptible, incorruptible,
And we shall be changed,
And we shall be changed!
The trumpet shall sound,
The trumpet shall sound! [43]
Уложив багаж, спрятав ноты в чемодан из толстой кожи с украшением в виде ацтекского календаря, мексиканец и негр отправились на железнодорожную станцию. Когда до отхода экспресса оставалось несколько минут, Хозяин выглянул из окна своего купе в Wagons-Lits Cook [44].
– Чувствую, ты остаешься, – сказал он Филомено, который, ежась от холода, топтался на перроне.
– Останусь еще на денек. Сегодняшний вечер для меня особенно важен.
– Представляю себе… Когда же ты вернешься на родину?
– Сам не знаю. Раньше поеду в Париж.
– Женщины? Эйфелева башня?
– Нет. Женщин всюду хватает. А Эйфелева башня давно уже не чудо. Разве что фигурка для пресс-папье.
– В чем же дело?
– В Париже меня будут называть monsieur Philomиne, вот так, через «Ph» и с красивым акцентом на «е». А в Гаване я навсегда останусь всего лишь негритенком Филомено.
– Все может когда-нибудь измениться.
– Для этого понадобится революция.
– Боюсь я революций.
– Потому что у вас много серебра там, в Койоакане. У кого есть серебро, те не любят революций… А мы – нас много, и скоро мы станем массами…
Еще раз – который раз за века? – пробили молотками время мавры на Часовой башне.
– Может, быть, я слышу их в последний раз, – сказал мексиканец. – Многому научили они меня за время путешествия.
– Вообще, путешествуя, многому можно научиться.
– Басилио, великий каппадокиец, святой и ученый муж церкви, утверждал в интереснейшем трактате, что Моисей приобрел немало знаний, пока жил в Египте, а Даниил превосходно разгадывал сны – сейчас это так модно! – потому что его научили этому халдейские прорицатели.
– Постарайтесь извлечь пользу из вашего путешествия, – сказал Филомено. – Я же займусь своей трубой.
– Ты остаешься в хорошей компании: труба напориста и решительна. Инструмент грозного и возвышенного звучания.
– Потому и трубит она в час Страшного суда, когда приходит время свести счеты со всеми негодяями и сукиными детьми, – сказал негр.
– Ну, чтобы покончить с ними, придется ждать конца света, – сказал мексиканец.
– Странно, – сказал негр. – Всегда я слышу о Конце Времен. Не лучше ли говорить о Начале Времен?
– Оно начнется в день воскресения мертвых, – сказал мексиканец.
– Нет у меня времени ждать столько времени, – сказал негр.
Большая стрелка вокзальных часов перескочила через минуту, отделявшую ее от восьми вечера. Поезд начал почти незаметно скользить в темноту.
– Прощай!
– Надолго ли расстаемся?
– До завтрашнего дня?
– Или до вчерашнего… – сказал негр, но слово «вчерашнего» заглушил долгий свисток локомотива…
Филомено вернулся на освещенную площадь, и ему вдруг показалось, что город невероятно постарел. На обветшалых стенах проступили морщины, трещины, расщелины, появились пятна плесени и древнего грибка, разъедающего непрочные творения человека. Колокольни, мозаики, купола и эмблемы, красующиеся на плакатах по всему белому свету, чтобы привлекать обладателей travellers cheques [45], утратили из-за этих бесчисленных изображений волшебную силу святых мест, которые требуют, чтобы тот, кто хочет созерцать их воочию, преодолел в пути преграды и опасности. Казалось, будто уровень воды поднялся. Быстро проносились моторные лодки, бурлили мелкие, но упорные, неустанные волны, разбиваясь о сваи и деревянные столбы, на которых высились дома, кое-где обманчиво подновленные при помощи строительной косметики и пластических операций, произведенных рукой современного архитектора. Венеция как будто с каждым часом все глубже погружалась в мутные, взбаламученные воды. Глубокая печаль нависла этим вечером над больным дряхлеющим городом. Но Филомено не был печален. Никогда он не был печален. Сегодня вечером, через полчаса, состоится концерт – столь долгожданный концерт того, кто всех призывает своей трубой, как бог Захарии, господь Исайи, или как велит самый радостный псалом Священного писания. И, зная, что ему предстоит выполнить еще немало задач там, где музыка подчиняется четкому ритму, Филомено легким шагом направился к концертному залу: афиши извещали, что через минуту зазвучит труба несравненного Луи Армстронга. И Филомено показалось, будто единственное, что осталось для него в этом свайном городе живым, современным, стремительным, летящим, словно стрела, в будущее, был ритм, ритмы простейшие и вместе с тем полные глубокого смысла, существующие только здесь, на земле, и нигде более, ибо люди доказали – совсем недавно, конечно, – что в сферах есть только музыка самих сферических тел, однообразный контрапункт их круговращений, ведь, даже поднявшись на Луну, обожествленную в Египте, Шумере и Вавилонии, жители Земли с огорчением обнаружили там лишь свалку никчемных камней, звездную пыль и обломки других, летящих по более отдаленным орбитам светил, уже показанных нам в астрономических атласах и показавших, что наша иной раз довольно мерзкая Земля, в конце концов, не такое уж дерьмо и не так недостойна благодарности, как кое-кто утверждает – ведь что бы ни говорили, это самый жилой Дом во всем Мироздании, – а у проклятого и испорченного человека, которого нам не с кем сравнивать за неимением других людей в Солнечной системе (быть может, потому он и оказался Избранником, ничто не доказывает противного), нет более высокой цели, чем постичь смысл собственной жизни. Пусть ищет решения своих проблем в оружии Огуна или на путях Элегуа [46], в Ковчеге завета или в Изгнании торгующих из храма, в платоновском базаре идей и предметов потребления или в знаменитом «аргументе-пари» Паскаля и иже с ним, в Слове или в Вере – это уже не его дело. Филомено пока что собирался решить их при помощи музыки земной, ибо музыка сфер его ничуть не волновала. Он показал свой ticket [47] у входа в театр, капельдинерша с невероятно толстым задом – негру все представлялось особенно явственным, почти осязаемым – проводила его на место, и под гром, оглушительный гром рукоплесканий и приветствий появился чудодей Луи. И, поднеся трубу к губам, вдохновенно, как умел только он один, начал мелодию «Go down, Moses» [48], затем перешел к «Jonah and the Whale» [49], и звуки неслись из медного раструба к театральным небесам, где замерли в полете розовые музыканты ангельского хора, возможно обязанные своим рождением светлой кисти Тьеполо. И снова Библия претворялась в ритм и жила меж нами вместе с «Ezekiel and the Wheel» [50], пока не вырвалась на простор в звуках «Hallelujah, hallelujah» [51], которые неожиданно напомнили Филомено образ Того – Георга Фридриха той ночи; теперь он покоился под барочной статуей Рубильяка в большом мраморном приделе Вестминстерского аббатства рядом с Пёрселлом, который тоже знал толк в грозных и торжественных трубах. Но вот вслед за виртуозом заиграли новое произведение инструменты, собранные на сцене: саксофоны, кларнеты, контрабас, электрическая гитара, кубинские барабаны, мараки (а может, это и есть «типинагуа», упомянутые когда-то поэтом Бальбоа?), цимбалы, деревянные брусочки, постукивающие в руках музыканта, словно молотки по серебру, барабаны с приглушенным звуком, щетки, треугольники-систры и рояль с поднятой крышкой, который в давние времена, помнится, назывался как-то вроде «хорошо темперированный клавир».
«Пророк Даниил, тот, что многому научился в Халдее, рассказал об оркестре, который состоял из медных, цимбал, цитры, арф и самбук и, наверно, очень походил на этот», – подумал Филомено.
Но тут все инструменты, следуя за трубой Луи Армстронга, грянули энергичное strike-up [52] ослепительных импровизаций на тему «I can't give You Anything but Love, Baby» [53] – нового концерта барокко, к которому, как нежданное чудо, присоединился залетевший через слуховое окно звон часов: мавры отбивали время на Часовой башне.
Гавана-Париж, 1974





