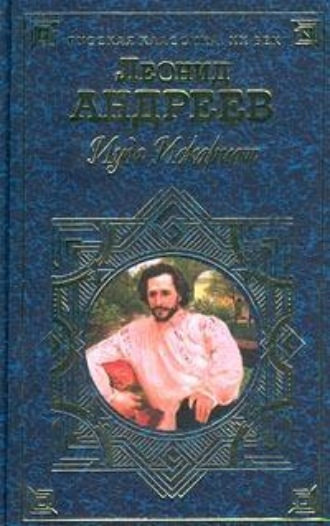
Леонид Андреев
Ослы
– Это – победа!..
– Si, signor…[2] – ответил аккомпаниатор восторженно и покорно.
Надо думать, что молчание ослов обусловливалось скорее какими-то их собственными соображениями, нежели прелестью и очарованием звуков, ибо при четвертом, как раз наиболее трогательном романсе, два осла сразу взревели, – в начале, как всегда, беспомощно захлебываясь и стеная, в середине возвышая голос почти до раскатов пророческого крика и кончая теми же беспомощными и страдальческими выдыхами. Крик этот был настолько неожиданный, что задние ряды, забывшись, закричали: «Тише!», а Энрико, бледный, но вежливый, сделал аккомпаниатору знак переждать и дать г. г. ослам откричаться.
Но лишь только Энрико снова открыл рот, уже не два, а десять, двадцать ослов нестройно взревели, путаясь в голосах друг друга и своими громовыми раскатами покрывая не только нежнейшее пианиссимо певца, но и самые его отчаянные форте. Напрасно расстроенный Энрико повышал голос и вкладывал всю силу выразительности в свою изящную мимику – лишь моментами, в случайные порывы ослиного крика улавливало ухо его божественные трели, рыдания и слезы: уже все четыре дюжины ослов, взаимно заражаясь, мрачно ревели, как в последний день земли.
Так при гробовом молчании оскорбленных поклонников и замирающем ослином вопле закончилось первое неудачное отделение.
– Это же невозможно! – говорил в уборной Энрико, в слезах припадая на грудь также потрясенного Гонория. – У меня чуть не лопнули голосовые связки! Хоть ты-то слышал меня? Я себя не слыхал!..
– Конечно, я слышал тебя, мой бедный друг. Но я говорил же тебе, что ослы…
– Ах, оставь! – воскликнул Энрико. – Но почему они начинают выть как раз тогда, когда я открываю рот, и умолкают вместе со мною? Ты слышишь: сейчас они тихи, как ангелы. Отчего это?
Гонорий нерешительно ответил:
– Да, молчат. По-видимому, на них все-таки действует твое пение, и как только ты…
– Но ведь это же глупо! Ведь так они ничего не могут слышать! Ах, Гонорий, а ведь над этой песенкой рыдал сам император бразильский! – горестно восклицал певец, роняя крупные алмазные слезы. – А как я для них старался! Я сам – сам! – плакал для этих ослов, чего не делал даже для английской королевы… Нет, я их проберу: долой лирику – я дам им драму, и тогда мы увидим. Я их перекричу!
– Пожалей голос, Энрико, я умоляю тебя! – плакал Гонорий, поддерживаемый рыдающим аккомпаниатором:
– Пожалейте, синьор!
– А Орфей жалел? Нет, я их перекричу! Я их перереву, если с ними нельзя иначе. Звонок!
При могильном молчании людей и ослов началось второе отделение: и люди казались взволнованными и утомленными, а ослы свежими и спокойными, как будто они только что искупались. Но и в этот раз все усилия Энрико оказались бесплодными; дружно взревев при первых же нотах, ослы поднялись почти до пафоса, и трудно было понять, откуда столько дикой мощи в этих маленьких ангелоподобных животных! Они ревели, как горная лавина, и напрасно, бегая по сцене, поднимаясь на носки и краснея от натуги, старался перекричать их божественный певец – слушателям был виден только его открытый рот, безмолвный, как колодец. Пользуясь минутным затишьем, Энрико прокричал аккомпаниатору:
– Посмотри на того, с левого края: он все время молчит!
– Si, signor.
– Он будет моим первым учеником! Начинай!
– Si, signor.
И снова дружно заревели ослы и, – о ужас! – к ним присоединился и тот, кого Энрико в тщетной надежде приуготовал в свои первые ученики; более того: именно он оказался тем воистину несравненным по мощности горлодером, который сделал дальнейшее состязание невозможным без опасности для жизни и здоровья присутствующих. Полный свежих сил и бодрости, он, шутя, покрывал голос уже охрипшего Энрико в то время, как остальной хор мучительно терзался и захлебывался, а через цветы и кресла уже пробирались погонщики с палками и дубинами, ведомые что-то кричащим Гонорием.
Так печально окончилось состязание Энрико Спаргетти с Орфеем, и молчаливо разъехались приглашенные, когда Энрико сказал едва слышно ужаснувшемуся секретарю:







