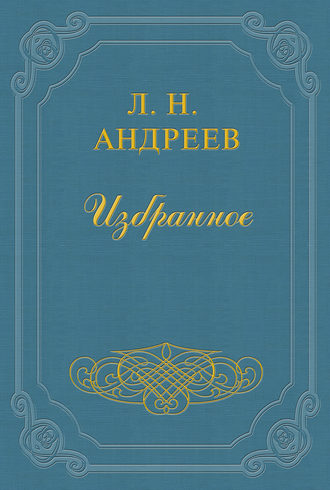
Леонид Андреев
Не убий
Действие первое
Темный осенний день. Дождь. На сцене одна из комнат кулабуховского проклятого дома: пустая, грязная, мерзкая. Рамы в больших барских окнах перекосились, видно, что от окон дует; два стекла в нижних долях рамы разбиты и заменены досточкой; гнилые обои местами отлипли и угрожающе нависают. Обстановки никакой, если не считать большого кухонного стола, как бы брошенного посреди комнаты, и нескольких случайных стульев. За окнами – окон всего три – в сетке дождя смутно различаются почерневшие углы и крыши надворных построек, за ними – голые стволы и ветви большого и старого сада.
При открытии занавеса, на сцене одна Василиса Петровна, кулабуховская экономка, – женщина с приятным лицом. Одета неряшливо и плохо, но волосы причесаны и подвиты. Сидит на кончике стола, глубоко задумалась о чем-то. Возле на столе под опущенной рукой лежит черное шерстяное платье.
Входит дворник Яков.
Яков. Что задумались, Василиса Петровна? Я пришел.
Василиса Петровна (не поднимая головы и не меняя позы). Да вот думаю все.
Яков. Ну, думайте.
Василиса Петровна. Холодно. Да, вот думаю все. Ты знаешь, Яков, сколько у меня денег было, сбережений моих?
Яков. Я частокольчик доломал, теперь дня на два топлива хватит. Затопить, что ли? Холодно тут.
Василиса Петровна. Потом. В сберегательной кассе лежало у меня триста пятнадцать рублей, да на руках было пятьдесят или сорок, не помню точно. Да заложила я платьев, браслетку золотую, ризу с иконы серебряную, машину швейную, две подушки настоящие пуховые и разного другого – всего на сто двадцать рублей. Да половину квитанций продала за сорок рублей: вот ты и сосчитай, Яша, сколько за два года вышло.
Яков. Здорово.
Василиса Петровна. Да уж так здорово, что завтра хоть на паперть идти! Ни копейки, Яша, нет. Думала это платье отнести, да в чем же я его понесу, самой надеть нечего, одно только приличное и есть… Ах, батюшки, а у знакомых-то я побрала денег, совсем забыла: рублей шестьдесят, не меньше. Вот забыла, вот забыла!
Яков. Да моих семнадцать рублей считайте.
Василиса Петровна. Совестно вспомнить, какая я глупая была! Я ведь вначале по первому разряду его содержала, думала, что он просто шутит или притворяется, чтобы испытать меня. Они ведь разные бывают, и особенно миллионеры: просто, думаю, фантазия, обижен родственниками, вот и придумывает. А оказалось-то и совсем серьезно: до последней нитки объел, как саранча! Холодно, Яша. О, Господи, шпалеры-то как обвисли. Каждый день на них гляжу, а все никак привыкнуть не могу… да и нельзя к этому привыкнуть. Что, дождь идет?
Яков. Идет. Надо рюмочку выпить, Василиса Петровна.
Василиса Петровна. Нет, Яков, не надо. А ты где достал?
Яков. У Феофана двугривенный выпросил. Надо рюмочку выпить, Василиса Петровна.
Василиса Петровна. Ведь я даже вина не пила, Яша: тебе трудно представить, а я чище всякой барыни ходила. Но вот тебе клятва моя, Богом клянусь: если мне это удастся и будут у меня деньги, ни одной капли в рот не возьму! Это такое унижение, Яков, когда женщина пьет, это так недостойно ее пола.
Яков. Налить?
Василиса Петровна (вздыхает). Ну, давай. Думала ли я когда-нибудь, Яшенька, что буду вот так сидеть… с Яшей-дворником и водку пить. Много мне гадалки гадали, а такого случая ни одна угадать не могла. Ух, как холодно, руки, ноги болят.
Яков. Согреешься!
Вынимает из кармана полбутылки водки и небольшой кабацкий и исщербленный по краям стаканчик, наливает и подносит Василисе Петровне.
Выкушайте на здоровье, Василиса Петровна.
Василиса Петровна. За твое здоровье, Яша. (Пьет и кашляет, покачивает головой.) Вот и выпила, Яша!
Яков. Что?
Василиса Петровна. И в кого ты, Яша, такой рыженький уродился?
Яков. В отца, Василиса Петровна. У нас в роду все с краснинкой, а есть так и совсем красные. А что, не нравится?
Василиса Петровна. Нет, нравится, Яша! А я ведь не о платьях думала – сидела.
Яков. А о чем?
Василиса Петровна. А все о том. Надо кончать, Яков.
Яков. Что ж, кончим.
Василиса Петровна. Надо… завтра, Яша.
Молчание.
Яков. Что ж, можно и завтра. Какой завтра день?
Василиса Петровна. Кажется, – пятница, не помню. Дело в том, голубчик, что мы очень легко можем опоздать.
Яков. Митька-наследник опять мимо ворот прохаживался.
Василиса Петровна. Ну, да. Объявят они его сумасшедшим, тогда все пропало.
Яков. Хитрый он – не поддастся. (Смеется.) Нет, ты скажи, бабочка, что за чудеса: и сколько у нас в саду собак, со всей Москвы сбежались, рады мертвому месту – и мне-то страшно ходить. А он тебе целую ночь между собак бродит, и хоть бы одна его тронула. Царь собачий!
Василиса Петровна. Это правда, он очень хитрый. Он ужасный человек, Яков. И я думаю, что он вовсе не сумасшедший, но ведь не могут же наследники терпеть такое неприличие. Наконец и им деньги нужны: Дмитрий Николаевич очень, очень небогатый человек и в то же время очень расчетливый.
Яков. Жадный народ! И как можно деньги так любить, не понимаю я этого.
Василиса Петровна. Ну, ты многого не понимаешь, Яша. А что, Яша, еще рюмочка найдется? – Дай, пожалуйста. Одним словом, ты этого не понимаешь, Яков, это уж тонкая политика, но если бы они не боялись скандала, они б его давно ж желтый дом запрятали. Но вот что ужасно: видела я там в шкапу, действительно, деньги лежат, но если это все именные бумаги? Тогда прямо ужас! Есть такие бумаги, Яков, которых ни пустить в оборот, ни разменять нельзя и что тогда делать?
Яков. Увидим.
Василиса Петровна. И вот еще, что думала я: сонного его никак не застигнешь. Совесть ли у него беспокойная, или боится он, но только еще не видала я, чтобы он ночью спал.
Яков. А сейчас спит?
Василиса Петровна. А сейчас спит.
Яков. Что ж, можно и на ходу. Какая у него сила!
Василиса Петровна. Кричать будет.
Яков. А кто услышит? Собаки целую ночь грызутся, такая война идет, что и мимо ходить боятся. Нашего кулабуховского дома все боятся, Василиса Петровна – да и проклятый же дом, сказать по правде. Кругом столица Москва, а мы, как в черной яме сидим, ни голосу, ни свету, одни собаки воюют. Пустырь!
Василиса Петровна. Да, да, живем, как погребенные. Яша, а крови не будет?
Яков. Какая кровь!
Василиса Петровна. Крови ни в каком случае не должно быть, ни единой царапинки – слышишь, Яков. Тогда все пропадет. Каторга, Яша, не забудь.
Яков. Что ж, и на каторге люди живут! Да ты не беспокойся, бабочка, я все сделаю.
Василиса Петровна. Яна тебя уж так полагаюсь… Яша, а аду ты боишься?
Яков. Аду? Что ж, и в аду люди живут, да еще побольше, чем в Москве. Там не соскучишься! Эх, бабочка, милая, никакого места я не боюсь, где люди есть.
Василиса Петровна. Простой ты человек, Яша; с тебя, я думаю, и грех не взыщется, или не так строго. Яша! А Маргарита – горничная тебе очень нравится?
Яков. Мне все нравятся.
Василиса Петровна. Она тебя любит.
Яков. Меня все любят, Василиса Петровна. Да как меня и не любить? Лицо у меня чистое, душа беззаботная, никому я не делаю обиды, а только угождаю. Очень я хороший человек, Василиса Петровна, – всю Москву обыщите, а другого такого не найдете. Другие что? – походил я, повидал я: грубияны, насильники, чертово племя волосатое. А я, как лен мягкий – обовьюсь, так и не услышишь, только, только тепло восчувствуешь. Верно, бабочка?
Василиса Петровна. Ах верно, Яшенька!
Яков. Я же и говорю, что верно. И зато мне все бабы, как сестры родные.
Василиса Петровна. Ох, Яшенька, сестры ли?
Яков. А мне все равно, Василиса Петровна, я различий не делаю: сестра ли, жена ли, невеста ли. Мне б только угодить, Василиса Петровна, ласку сделать, а там называй как хочешь, я не рассержусь. Нашего Яшу хоть в пирог, хоть в кашу – вот какой я удивительный человек, Василиса Петровна! Вы думаете, большая мне надобность Кулабухова душить…
Василиса Петровна. Ну, что за пустяки, Яков. И вовсе я не хочу, чтобы ты из-за меня, – ты также получишь свою долю.
Яков. А на что мне деньги? Все равно бабам на подсолнухи раздам. Мне ничего не надо. Да и не из-за вас я, а просто так – придушить так придушить. А не надо так и не надо.
Василиса Петровна. Нельзя же так, Яша, ни для чего.
Яков. Да я не так: даром, как говорится, и веред не вскочит. Но как вы человек приятный, так отчего же мне, например, и не сделать вам ласку? Как скоро, так сейчас! Вам угождение, ему карачун, а мне – Яшке и любопытно: что за дорога, коли нет поворота? Прямо только галки летают.
Василиса Петровна. Не надо, Яков, не смейся. Неприятно!
Яков. А и заплакал бы – да слез нету, Василиса Петровна. Смотрю это я, бабочка, как иной человек мокнет, и даже завидки берут, скажи пожалуйста! А сам не могу. Морозом ли меня высушило, или солнцем повыжгло, а только нет во мне ни единой слезиночки. Мать родная попроси: дай мне, Яков, слезиночку, дай, сыночек, разъединую, – так и то…
Василиса Петровна. Тише! Идет наш, туфлями шаркает. Боже мой, и до чего он мне опротивел: в дрожь бросает, как его услышу. Зажги лампочку, Яков: темнеет.
Яков зажигает маленькую кухонную лампочку с полуобгоревшей бумагой вместо колпака. Дверь из комнат медленно и осторожно приоткрывается, и в отверстие высовывается старая облезлая голова с быстро бегающими глазами. Присматривается и выходит – с ужимками, приседаниями, как бы танцуя какой-то нелепый танец. Потирает руки, хикикает, насмешливо цмокает.
Кулабухов. Ага! Так, так! Салон и разговоры, свет и общество, что? Очень, очень приятное зрелище! А где сказано, чтобы дворник в барском доме заседал, где такое правило, где такой указ сената? Ага!
Василиса Петровна (раздраженно). Стекла в кухне вставьте, вы хозяин, тогда и требуйте.
Кулабухов. Сама вставишь. Обедать давай, экономка!
Василиса Петровна. Миллионер!
Кулабухов. Ну и миллионер – а что? Завидно, а? А миллиончики-то мои, а не твои, что? Право собственности, да. Хё-хе, не нравится? И Яшеньке не нравится? – ах, как печально, а ничего не поделаешь: право собственности, да. Яшка, ступай вон!
Яков. Сейчас пойду. А вы мне зачем, Петр Кузьмич, ружье без курка дали? Сами сторожить велите, а сами ружье без курка даете. (Смеется.) Как же я из него стрелять буду?
Кулабухов. А! А ты и курок хочешь?
Яков. Хочу.
Кулабухов. Хочу, хе-хе! Ну и ступай вон, дурак. Дурак, дурак! Обедать давай, экономка.
Яков неторопливо выходит, смеется.
Ну?
Василиса Петровна. А что обедать?
Кулабухов. Не знаю, не знаю. Я барин, ты экономка, – ты и должна знать. Хе-хе, так оно и всегда, да.
Василиса Петровна. Ну и мучитель же вы! Ну и бессовестный же вы человек! Во многих домах я служила, много я видела дурного, а такого, как вы, клянусь Богом, первый раз встречаю. Клянусь Богом, первый раз.
Кулабухов. Что, хорош, хе-хе?
Василиса Петровна. Так хорош, что вас в желтый дом надо.
Кулабухов. Нельзя! Меня в желтый дом нельзя. Я сюртучок надену. Хе-хе, у меня орденочек есть, я и орденочек надену. Хе-хе, что, ага?
Василиса Петровна. И сюртучок не поможет. Вот приедет ваш Митька-наследник и посадит, и будете в халате ходить, и будут вам воду на голову капать, что?
Кулабухов. Ну, ну, – дура! Ты в желтый дом ступай, а меня нельзя. – У-у, Митька-наследник, злой, вор, волчьи глаза – рад бы посадить, а что, нельзя, ага! У меня завещаньице есть, что! – находясь в здравом уме и твердой памяти… что? И свидетели есть… находясь в здравом уме и твердой памяти… вот и посади! Я умный.
Василиса Петровна. А где завещание, вы его хоть бы раз показали.
Кулабухов. Спрятано.
Василиса Петровна. Да и лгун же вы. Ну зачем вы лжете, ведь нет же завещания, ведь нет?
Кулабухов. Хе-хе.
Василиса Петровна. Ну и обеда нет. Была дура, кормила вас, а теперь не хочу! И не на что! Да вы понимаете это – не на что? Вот оно, платье-то: последнее ведь. И что же мне: голой по улице ходить?
Кулабухов. Начала. Баба.
Василиса Петровна. Или на панель собой торговать?
Кулабухов. Иди. Закон не запрещает. А нет ужина, нет денег, так ступай вон, да. Договор есть, договор помнишь: ты меня, Кулабухова, до смерти моей содержи, денег с меня не требуй, а я тебе, дуре, за это в завещании оставлю и Яшке оставлю. Всем оставлю, хе-хе, что? Теперь плачешь, а тогда думала: стар старичок, завтра умрет, а я вот живу и завтра жить буду, и сто лет еще проживу! Я молодец. Думала, говори?
Василиса Петровна. Ну и думала. Отвяжитесь.
Кулабухов. А я кашлял-то нарочно, что? Дура, дура баба, форменная дура – надо было доктора позвать, освидетельствование по форме, сколько проживу, а ты что? Возьму и сто проживу. Отчего же? Возьму и полтораста проживу, хе-хе: вон пророки двести лет жили, что, дура? А не хочешь по уговору, ступай, ступай, я не держу, мне все равно, – другая дура будет. Обедать давай.
Василиса Петровна. И как вас такого не убьют?
Кулабухов. Не смеют! Рады бы, а не смеют. Закон, хе-хе, что? Закон, да. Двадцать лет каторжных работ, а если по законам военного времени, то – смертная казнь. Что, много взяла, а? То-то!
Василиса Петровна. Придут ночью, да так сонного в постели подушкой и задушат. И крикнуть не успеете, так и удушат; да и кто услышит, если кричать-то будете?
Кулабухов. Кто придут? Не смеют. Рады бы, а не смеют. Митька-наследник каждый день в ворота в щелочку глядит – я его подметил! – ты думаешь, он не рад бы? Ах, как рад, но не смеет. Закон, да! Хе-хе.
Василиса Петровна. Возьмут, да завтра же и придут. И как вы не боитесь, и как вы можете спать!
Кулабухов. Сплю. Совершенно спокойно. Зачем мне беспокоиться? – Я стар, чтобы беспокоиться, я двести лет прожить хочу. Что? Ты зачем мышьяку купила, а? – мышей травить?
Василиса Петровна. Мышей.
Кулабухов. Хе-хе! Знаю я, какие это мыши! Да – рада бы, а не смеешь. Двадцать лет, да! И не боюсь, никого не боюсь, все приходи, не боюсь. Один ложу, дверь не запираю, зачем? Не смеет, никто не смеет.
Василиса Петровна. Да ну вас. Я за обедом пойду.
Кулабухов. Иди! Меня нельзя трогать, я человек. Не боюсь! Не смеешь! Все хотят, зубы скалят, а нельзя, хе-хе, нет. Человек! За меня все законы, за меня Бог – Вседержитель, да.
Василиса Петровна. Не человек вы, а поганка, зверь кровопиющий.
Кулабухов. Врешь! Зверь на четвереньках ходит, а я человек. Вот две ноги, эге, что? У-у, Митька-наследник злой, проклятый, вор, глаза как у волка, – у, Митька-наследник: не смеешь! Ты меня убьешь, а тебе каторга, двадцать лет, да! Ты меня убьешь, а я тебе по ночам являться буду. Явлюсь! По закону явлюсь, по праву моему явлюсь, над сердцем твоим стану, кровь высосу!
Василиса Петровна, слушавшая со страхом, быстро выходит. Кулабухов один. Трясет яростно сухими кулаками, вызывающе хихикает и в то же время почти плачет.
Ага, испугалась, дрянь! И тебе явлюсь, что? Я убиенный, да. Хе-хе, я знаю как: ты в ледник за молочком пойдешь, а я за дверкой стану, за дверкой стану, – убиенный, да. Ты на постельку ляжешь, а тебя ручкой по одеяльцу, по одеяльцу. У, Господи, заступись, заступись! Все хотят, все хотят убить, все хотят, о Господи Боже мой, не оставь, я старенький. Заступись, заступись, за убиенного Петра, за убиенного Петра…
Невнятно бормочет. Василиса Петровна выносит из кухни глубокую тарелку с картошкой и ломоть черного хлеба; очень бледна, говорит презрительно.
Василиса Петровна. Вот вам. Больше ничего нет.
Кулабухов (угрюмо ест). Говядинки дай.
Василиса Петровна. Нету говядины.
Кулабухов. Смотри! Чтоб завтра говядинка была, а то выгоню. И чтоб огурчик был, слышишь? И Яшку, твоего любовника, тоже выгоню.
Василиса Петровна. Да? А что, ежели за такие слова, Петр Кузьмич, я вам пощечину дам?
Кулабухов. Не смеешь.
Василиса Петровна. Свидетелей-то нет.
Кулабухов (менее уверенно). Не смеешь. Я старик, у меня волосы седые.
Василиса Петровна. А я женщина! Вот возьму и ударю.
Кулабухов (вставая). Ты, дура баба, ты здоровая, а у меня волосы седые. Я старичок; ты меня только пальцем тронешь, а я умереть могу. Ты, дура, не подумай…
Быстро входит соседская горничная Маргарита, высокая, красивая, черноволосая девушка. На ней платок от дождя.
Маргарита. Вот и я к вам. Да милая ж вы моя Василиса Петровна… (останавливается, увидев Кулабухова.) Ох, напугал – вот кто здесь!
Василиса Петровна. Снимай платок. Маргариточка, не бойся.
Маргарита. Я и не боюсь. Это вы его боитесь, а я вольная. Что глаза вытаращил, тетеря?
Василиса Петровна. Оставь его, Маргарита. Он сейчас уйдет. Идите, Петр Кузьмич.
Кулабухов. У-у, какая сердитая! Мой дом, а не твой, что? Возьму и выгоню: зачем пришла в чужой дом? Ага. Вот ты и пойдешь.
Маргарита. И не смеешь выгонять.
Кулабухов. Нет, выгоню.
Василиса Петровна. Да оставь! Он два часа препираться будет, только бы с людьми посидеть! Ступайте, ступайте, Петр Кузьмич. Поели и идите. Такого уговора у нас нет, чтобы с вами беседовать.
Маргарита (притворно топая ногами). Ты уйдешь или нет?
Кулабухов испуганно открывает дверь, но еще на минуту оглядывается, хихикает.
Кулабухов. Салон, хе-хе! Музыка и разговоры, так, так! А я все равно послушаю, стану за дверкой и послушаю. Что?
Уходит.
Василиса Петровна. Напрасно ты так грубо, Маргарита, нехорошо, мне не нравится. Он все же человек не твоего круга…
Маргарита. Да, милая ж вы моя! Да как же можно такого терпеть!
Василиса Петровна. Нет, нет, Маргариточка, нет! Я и Якову тоже говорю. Сейчас Петр Кузьмич в несчастном положении, а когда-то он открытый дом держал, в нем даже губернатор заискивал. У него, душечка, и сейчас такие капиталы, что от одного воображения можно сойти с ума. Злой он, это правда, но мало ли злых?
Маргарита. Нет, дорогая Василиса Петровна, не могу я с вами согласиться. Капиталы его мне не нужны, а только скажите вы мне – ах, да и милая ж вы моя, да скажите вы мне! до каких пор они мудровать будут, а мы плакать да травиться? Или так без конца и пойдет? Мой-то, подлец-то мой, мучитель-то мой – так ведь и лепит: травись, Маргарита, тебя ангелы на небо возьмут.
Василиса Петровна. Грозила ему?
Маргарита. Грозила.
Василиса Петровна. Упрекала?
Маргарита. Упрекала.
Василиса Петровна. А он что?
Маргарита (плачет). Смеется. Да милая ж вы моя – смеется!
Василиса Петровна. Разговор был?
Маргарита. Был. Сегодня утром. Как же, говорит, я могу на тебе жениться, когда ты тварь, а я чиновник! Так и лепит, так всеми словами и печатает: тварь! А сам дрянненький, нечистый, похабник, разные картинки покупает, – ах, да и милая же вы моя Василиса Петровна, я царица перед ним! На него утром посмотреть, как он еще галстучка не надевал, уж такая он гадость, уж такая гадость.
Василиса Петровна. Ушла бы от него! Что мучиться!
Маргарита. Не хочу! Ведь не тварь же я на самом деле, ведь я царица перед ним! В тысячу глаз на меня гляди, пятнышка на моем теле не найдешь – ах, да как березынька я белая…
Василиса Петровна, Да что он хоть говорит? Язык-то у него есть?
Маргарита (плача и смеясь). Да только и говорит, что тварь… и голубушка вы моя, так он меня этим словом очаровал, что как очарованная я. Ослепил меня, оглушил меня, все дороги-пути загородил. Иду – куда, тварь, идешь? – так и стану как вкопанная. Стану и руки опущу. Так и стою. Вся голова у него с луковку, а как скажет он: тварь, так и поразит меня громом, слова в ответ не найду. Сегодня, будто, и нашла слово, да и не слово, а так…
Василиса Петровна. Что?
Маргарита (улыбаясь, мечтательно). Да так. Пузыречек с серной кислотой ему показала.
Василиса Петровна (испуганно). Ну, ну, ну – брось! Что ты, девка, с ума сошла. Да как же это можно! Ах, ты девка несчастная.
Маргарита (задумчиво). Я уж бросила. Показала я ему и жду, что будет. Ну – побледнел он, сморщился весь, затрясся, прыщавый, а у двери-то я стою и уж пробку вынула. Ну – и вот все уж тут, податься-то некуда, а он говорит: вот видишь, какая ты тварь! (Берется за голову, рассеянно.) Ох, правда, отравиться, что ли?
Молчание.
Да как подумаю, что он на то место плюнет, где я буду лежать, и скажет: вот и издохла, тварь, – так и травиться не стоит. Пожаловаться я к вам пришла, Василиса Петровна.
Василиса Петровна. Мне кажется, Маргариточка, что здесь вообще происходит какое-то недоразумение. Ах, голубчик, ну и почему так холодно и вот шпалеры обвисли – видеть не могу этих шпалер. И почему так холодно? Дурой ли я стала такой, ну вот не могу понять: почему холодно, да и только. Да я и дни-то позабыла – что у нас сегодня, четверг?
Маргарита. Четверг. Не топлено, оттого и холодно.
Василиса Петровна. Ну, конечно, от этого. Но почему не топлено? Послушай, душечка: однажды едем мы с графиней Назаровой в автомобиле – я тогда у нее уж второй год в экономках служила – и, знаешь, я так хорошо одета, к лицу, а сижу я на переднем месте. А рядом с графиней собачка ее сидит – и долго я этого, друг мой, не замечала, да как-то и заметила! Да, не замечала, да вдруг и заметила!
Маргарита. Ну хорошо. Ну пойду я – сонного его зарежу, а какой толк? Явится еще да и скажет: зарезала, тварь! Тогда уж не докажешь.
Василиса Петровна. Да, тогда уж не докажешь.
Маргарита. Я и говорю: не докажешь. Яшина балалайка?
Василиса Петровна. Яшина.
Маргарита. Повидать бы мне его хотелось… Ах, уж не знаю я, куда мне ткнуться. Будь бы лес, в лес убежала бы. Или вышла бы я за заставу, да так в темноту и пошла бы. И шла бы я, и все шла бы я долгие годы, так и шла бы, руки к груди прижавши, глаза устремивши…
Молчание.
Пожаловаться я к вам пришла, Василиса Петровна. Будьте мне матерью родною.
Василиса Петровна (с неудовольствием). Ну, для матери, положим, я и молода, а жалеть-то я тебя очень жалею, Маргарита, очень. Ты в лес убежала бы, говоришь, а я леса ужасно не люблю: парк – вот это совсем другое дело. Ах, Боже мой, да как можно сравнивать! Идешь по дорожке или через какой-нибудь фигурный мостик – и какие мысли, Маргариточка, какие возвышенные чувства!.. Это еще кто?
Вваливается странник Феофан, и за ним следом идет усмехающийся Яков.
Феофан. Мир вам, братие и сестры. Где тут сидение покрепше? – а то стулья меня не держат.
Яков (смеется). Вот табуретка, да не раздави, смотри. Кулабухов в суд подаст. Здравствуйте, Маргарита Ивановна.
Маргарита. Здравствуй, Яша.
Василиса Петровна. Напрасно ты его привел, Яков, тут ему не место.
Яков. Нет, с ним весело.
Василиса Петровна. Тут тебе нет водки, Феофан, – даром пожаловал, голубчик.
Яков. А вот она, водка-то!
Вытаскивает из широчайшего кармана странника только что начатую бутылку. Феофан смотрит равнодушно.
Феофан. Грешник дал. Мне водки не надо, я уж пьян. Меня купец Воронин с обеден в Охотнорядском трактире поил. И сам чуть не лопнул, поросенком хрюкал, а я в баню хотел, да расхотел: жарко! Кто желает со мной прю иметь, начинай!
Василиса Петровна. Да никто и не желает. Спать бы ты шел, голубчик, вот тебе и пря. Образину-то нагулял – смотреть страшно!
Феофан. Спать я и сам засну, а кто вас обличать будет? Я его, Воронина, до седьмого Пота обличал, аж поросенком визжать начал, уж молодцы пришли, меня умолили, я и сжалился. Я как грешника обличать начну, так не отстану. Один купец в Подольске уж и собаками породистыми меня травил, уж и архирею жаловался, уж и в полицию подавал – а мне? полиция что! – вот паспорт. Я по всем правилам, меня не подколупнешь, я сам тебя подколупну… (Вынимает паспорт.) Вот он, покровитель мой и заступник во все дни живота моего, аминь.







