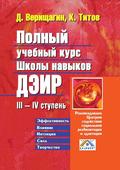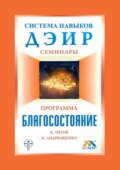Кирилл Титов
Субъект-центрированная модель: интенцирующее, интенциальное, эмоции, чувства, мотивация, субъект
© Кирилл Титов, 2025
ISBN 978-5-0065-6399-5
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
От автора
В монографии исследуется природа и устройство пристрастной стороны психики: возникновение явлений значимости, значений, эмоций, состояний, эмоциональных трендов, чувств.
Возникновение эмоционально-чувственных явлений рассматривается как процесс взаимодействия иррационального стремления и элементов опыта, играющих роль интенциирующего и интенционального, соответственно.
Предложена сущностная модель возникновения феномена значи- мостей и формирования на их основе базовых эмоций. С функциональной точки зрения рассмотрено явление психических состояний и предложена их обоснованная классификация.
Проанализированы информационные аспекты и природа формирования чувств, их роль в конгнитивной деятельности и процессинге аффекта. Описана система мотивации как система процессинга потенциального аффекта.
Приведен взгляд на сознание как информационный объект, состав- ленный отношениями эмоционально-чувственных и перцептивных явлений.
Материалы монографии предназначены для научно-исследовательской и практической работы в области психологической и философской антропологии, а также экспериментальной и практической психологии. В прикладном отношении она может представлять интерес для создания и апробирования психотерпевтических моделей. В области информати- ки она может быть использована как теоретическая основа для иссле- дования вопроса создания субъективно-достоверного интерфейса чело- век-компьютер.
Работа может быть рекомендована широкому классу специалистов в области философии и психологии.
© Титов К. В., 2023
Введение
Субъект-центрированная модель была бы неполна без по- пытки описания эмоционально-чувственной и мотивационной стороны возникновения и организации субъективной психической деятельности.
Действительно, вся жизнь сознания связана со взаимодействием с теми или иными внутренними предметами, которые со- знание ощущает, исследует, к которым сознание испытывает то или иное отношение, и которые создают весь наш внутренний мир. Однако как появляются эти значимости, оттенки, как разнородные явления могут взаимодействовать в сознании и существовать на одном плане, наконец, что движет сознанием при взаимодействия- ми с предметами мышления и что определяет сами их значимости? Пристрастная основа существования сознания, вероятно, служит вторым по значимости вопросом в изучении субъективного, располагаясь сразу после психофизической проблемы.
Этот предмет традиционно является крайне сложным и противоречивым, чему имеется целая совокупность причин, в силу чего на настоящий момент отсутствует модель, позволяющая рассматривать его феномены сколько-нибудь системным образом, вследствие чего они изучаются феноменологически, скорее как устойчивые кластеры взаимодействующих явлений, оставляя за рамками изучения возможно существующие более глубокие закономерности.
Однако в то же время уклониться от его рассмотрения нельзя, так как в эмоционально-чувственной области расположена причина психической деятельности: субъективное не создаёт эмоции, но испытывает их, распределяет их и направляется ими
– и само является информационной поверхностью процесса взаимного наложения влияний организма и влияний внешнего мира в пространстве составляемых этими сигналами образов.
В ходе нашего исследования мы намерены предложить модель, не противоречиво описывающую взаимосвязи, причины и обстоятельства возникновения основных эмоционально-чувственных явлений, их взаимовлияние и роль в психической деятельности человека.
Для создания модели эмоционально-чувственные феномены будут рассматриваться, с одной стороны, как основные факторы, участвующие в регуляции психической деятельности, направленной на установление заданного нервной системой гомеостаза, а, с другой стороны, как явления, придающие внутренним фактурным феноменам психики – образам – свойство организм-релятивной значимости, без которого вовлечение их в психическую деятельность невозможно.
Фактически, с точки зрения субъекта целостная направляющая роль психики заключается в том, чтобы произвести крайне сложный, согласованный с объективной реальностью глобальный градиент (нужно) \приятно и (не нужно) \не приятно, под влиянием которого протекает вся жизнь человека и внутри которого находятся все частные градиенты и явления психической реальности.
Психическая реальность сознания является пограничной регулятивной зоной между источником внешнего сигнала объективного мира и сигнала внутреннего, транслирующего в психику иррациональные организменные влияния, в том числе физиологические, которые служат точками отсчета значимостей внутренних явлений и канвой, направляющей психическую деятельность.
Таким образом формируется уникальный индивидуальный ландшафт картины мира, обладающий специализированной, ин- дивидуальной практической полезностью для данного конкрет- ного субъекта с его актуальными необходимостями.
Осмысление мира есть ни что иное, как попытка воспроизве- сти мир как слепок из распознанных интенциирующим качеств.
Фактически квалиа перцептивной части образа выражают отношение внешнего сигнала к состояниям анализаторов, а значимости смысловой части образа выражают его отношение к иррациональным для психики побуждениям индивидуума, создавая для субъекта картину явлений мира как мозаику его индивидуальных переплетенных значимостей и представляя ему внешний мир в субъективных красках, как объект-субъектную билингву.
О интенциирующем и интенциональном
В рамках субъект-центрированной модели для описания поляризующих психическое содержание факторов, приводящих к появлению интенции, как направленности психической деятельности, используются фундаментальные понятия интенциирующего позыва и комплементарного ему интенционального смысла.
Под интенциональным подразумеваются следы опыта вза- имодействия стремлений субъекта с предметом мышления, запечатленные памятью и реконструируемые в последующем в процессе восприятия или воспоминания данного предмета, фактически хранящие все его познанные субъектом свойства и являющиеся его субъективным смыслом, автоматически до- полняющим перцепт в процессе его восприятия.
Другими словами, интенциональное является следом чув- ственного опыта, связанного с предметом мышления.
Для индивидуума ни один предмет или явление не обладают никакими свойствами – до отражения во внутреннем мире, в про- цессе которого свойства обретаются.
Первично начальные свойства предметов устанавливаются младенческим опытом, по-видимому, на уровне условного рефлекса, но по мере накопления опыта запечатлеваемые свойства становятся все более богатыми и разнообразными.
При этом «свойства предмета» являются его субъективными свойствами, проявленными предметом при его взаимодействии с внутренним чувственным содержанием субъекта – его позывом, чувством, влечением, ощущением – то есть никоим образом не не- кими бескачественными математическими свойствами, но пере- житыми отношениями предмета с актуальными стремлениями и переживаниями субъекта, выразившиеся в облегчении\усилении или препятствовании\ослаблении их.
Без воспроизведения предмета в таких свойствах он не становится предметом мышления – и поэтому, при первичном контакте с совершенно незнакомой вещью человек инстинктивно ощущает удивление и проявляет любопытство, стремясь получить сенсорную информацию о нем, рассмотреть, потрогать и т.д., получить опыт взаимодействия прямой и косвенный, невербально и вербально, и осмыслить, сформировав наиболее полный интенциональный смысл.
Тогда создается перцепт и формируется связь этого перцепта с релятивным опытом: «оса И боль», «лед И холод», «мед И сладко» преобразуются в образ, где перцепт соединен со смысловой интенциональной частью: «оса\опасно», «лед\холодный», «мед\ сладко» (разумеется «оса», «лёд» и «мёд» это не слова, а качества и форм перцепта), который запечатлевается в памяти.
Вторая сигнальная система, используя уже существующие элементы опыта, также вносит вклад в формирование интенционального, хотя и формализованный значениями слов. Так, например, известный человеку только по вербальному описанию предмет, например, «северный олень», зачастую содержит крайне мало таких субъективно явственных свойств, скажем, «серая шуба», «копыта», «рога», фактически мозаично составлен чувственными интенциональными элементами, связанным со слова- ми, и только в таком виде он будет использоваться в мышлении
– но, конечно, при опыте фактического контакта с северным оленем предмет мышления дополнится несравнимо большим объемом свойств чувственного познания.
Необходимо подчеркнуть отличие понятия «интенционального» от понятия «значения», поскольку термин «значение» является рациональным термином, обозначающим означивание, выражение одного через другое. Например, слово «кошка» является значением для предмета мышления «кошка», который, однако, сам по себе является совокупностью определенных субъективно переживаемых форм и качеств, частично перцептивных, частично апоцептивных, частично проективных. Они, собственно, и являются его уникальным субъективным интенциональным содержанием, детализированной комплексной значимостью, которое может быть символически выражено во многих значениях – «кошка», «животное», «Мурка» и так далее. Интенциональные содержания понятий «кошка», «животное», «Мурка» частично пересекаются, что позволяет в определенных ракурсах выразить одно через другое.
Можно сказать так, что значение предмета мышления это обозначение его посредством другого предмета, равного по тематической, ситуационной значимости. Поэтому, в зависимости от взятого аспекта рассмотрения, определяющего ситуационный профиль значимостей предмета, один и тот же предмет мышления может иметь множество значений, как утюг означает и инструмент для глажки, и примитивное оружие самозащиты.
Итак, значение это равенство по значимости, значимость же ситуационна и является основой для определения мышлением значений. Значимость это содержание, значение это выражение значимости. Значение это находимые мышлением эквиваленты по значимости.
Таким образом, значимость является фундаментальным для мышления иррациональным содержательным феноменом, возникающим при чувственной актуализации интенционального, фактически она является отношением.
Интенциональное предмета, будучи следом, чувственного опыта, включает в себя в свернутом виде «отношения к субъективным ощущениям» все практически познанные значимые свойства данного предмета и инвариантно всем его потенциальным значениям.
Однако все возможные интенциональные свойства любого предмета мышления не могут быть ни установлены, ни пережиты, ни использованы в мышлении одновременно. Каждое интенциональное свойство отдельно приобретается, переживается и используется в специфических внутренних обстоятельствах, актуализирующих то или иное чувственное переживание, для которого это свойство оказалось родственным, небезразличным и заметным.
Так, «тяжелым» предмет становится благодаря сопротивлению фактическому или воображаемому усилию (причем это усилие может быть привлечено мышлением в порядке актуализации интенционального, сопровождающего количественное представление о весе, например «сто килограмм»), «тёплым» относительно ощущения температуры, «неприятным» относительно некоего уровня приятности, «горьким», «кислым» или «соленым» относительно некоего ощущения вкуса, «страшным» относительно ощущения безопасности, и так далее.
Предмет обретает значимость благодаря способности влиять на внутреннее содержание субъекта, то есть облегчать или мешать реализовать соответствующие субъективно ощущаемые позывы.
Невозможно в переживании вкуса получить опыт «тяжёлого» или опыт «горячего» посредством усилия по подъему предмета. Невозможно также осознать слово «тяжёлый» или «горячий»
без воспроизведения в психике соответствующих чувственных свойств.
Соответственно, интенциональное не является чем-то абстрактно «внечувственно» существующим, в чистом виде не-чувственно-рациональным (вероятно таковое не существует в принципе), но является чувственно проявляемым отношением к чувственному иррациональному. Данное иррациональное, собственно, является и его предшественником, и его актуализатором, и его выражением, и его детектором.
Причем, поскольку невозможно одновременно воспроизвести в психике все познанные свойства предмета мышления – та же кошка одновременно и теплая, и тяжелая, и пушистая, и усатая, и серая, и жирная, и мурлычет, и соседкина, и породистая, и ценная, и вороватая, и может оцарапать, и блохастая, и млеко- питающая, и т.д., и т.п., – и в то же время все эти свойства содержатся в смысле данного предмета мышления и по отдельности доступны использованию, то необходимо признать, что для актуализации и осознания конкретного интенционального свойства предмета мышления его необходимо в каждом конкретном случае избирательно «высветить», проявить, преобразовав в чувственное переживание того рода, которое в нем запечатлено.
Без такой реконструкции свойство останется вне рамок внимания, мышления и осознания, и не будет процессироваться, да и не может процессироваться, поскольку не определена актуальная значимость свойства и не может быть выбрано полезное направление процессинга.
Для начального формирования, последующего воспроизведения и дальнейшего процессинга интенционального, таким образом, психике необходима пристрастность, изначальное наличие в субъекте того или иного чувственного, имеющего значимость, интенсивность и ощутимость небезразличного содержания, отражение предмета в котором и является опытом его познания как чувственно выявленного отношения внешнего с внутренним.
Вообще получение некоего абстрактного беспристрастного опыта логически невозможно: поскольку опыт является опытом взаимодействия со свойствами предмета, то эти свойства необходимо должны быть определенными и выявленными за счёт их взаимодействия с некими качественными свойствами получающего опыт.
Без наличия в объекте и субъекте взаимно интерферирующих, взаимно влияющих друг на друга свойств, невозможно само взаимодействие между ними.
Соответственно, получение опыта переживания объективного света возможно только посредничеством пограничного с организмом и светом светочувствительного элемента, влияющего на субъективное ощущение света – любой другой каскад не даст опыта света, но даст лишь знание о нем, выраженного как значение в других чувственных величинах, что используется второй сигнальной системой, например. И в этом отношении отражение воспринятого в качествах воспринимающего является необходи- мым, то есть даже квалиа уже является отношением.
Индивидуум не может ощущать все потенциально существующие свойства предмета, поскольку он воспринимает его как изменение своих собственных свойств, спектр которых в любой данный момент времени ограничен.
Аналогичным образом индивидуальные значимости предмета, говорящие о его отношении к побуждениям человека – например, отношение пищи к сытости, знака «опасность» к страху, оружия к защите, не установимы без взаимодействия их свойств с чувственно выраженным побуждением соответствующей направленности. Без этого свойство остается не выявленным: перцепт оружия никак не связан безопасностью до того, как он
в (в восприятии или представлении) причинит вред источнику опасности. Не умеющий испытывать чувства опасности исходящее от других, и облегчение при устранении таковой, человек испытает трудности с выявлением этого свойства оружия и будет недоумевать, зачем вредить другим.
Очевидно, что чувственное побуждение, устанавливающее значимости предмета мышления посредством отражения его в себе, может быть стимулировано рефлекторно этим предметом, наподобие жжения от перца, может быть стимулировано ситуационно за счёт другого уже имеющего значимость стимула, наподобие пугающей ситуации, или просто спонтанно присутствовать на некоем уровне, наподобие чувства равновесия, – однако оно необходимо для установления значимости и в каждом случае приведет к появлению в опыте и в интенциональном значимости, соответствующей себе.
Ни один предмет мышления не обладает свойствами «самими по себе» – все его свойства есть его презентации во внутренних чувственных феноменах субъекта. Предмет сам по себе не «красивый», не «вкусный», не «интересный» и вообще не «какой-то»: он воссоздан в субъективном поле из «красивого», «вкусного»,
«интересного».
Сам по себе перцепт безразличен субъекту: он становится тем или иным относительно того или иного пристрастного вектора, благодаря влиянию на него, усилению или ослаблению: относительно стремления субъекта к испытыванию определенных ощущений.
Этот поляризующий класс феноменов в рамках субъект-центрированной модели определен как «интенциирующее»: иррациональное переживаемое побуждение, во взаимодействии с которым возникают и актуализируются чувственные значимости предмета мышления, что делает возможным избирательное
запечатление перцепт-специфического и позыв-специфического опыта, его воспроизведение и использование в мышлении.
Другими словами, интенциирующее это побуждение, чувственно актуализирующее интенциональные свойства предмета мышления.
Нетрудно видеть очевидное сходство роли интенциирующего с ролью чувственных качеств, продуцируемых анализаторами, в «материи» которых воспроизводится воздействие предмета на орган чувств, рождая квалиа перцепта. Как один и тот же электрический сигнал, поданный на зрительную или обонятельную кору, выразится в присущих ей квалиа, так и одно и то же событие, отразившись в различном актуальном интенциирующем, приведет к появлению свойственного этому интенциирующему опыта и интенционального, например предъявление одной и той же еды или слова голодному, пресыщенному или встревоженному человеку вызовет совершенно разные переживания.
Таким образом, интенциирующее и интенциональное состав- ляют пару, в любой момент времени избирательно поляризую- щую текущее психическое содержание и обеспечивающую его целенаправленную обработку мышлением, где интенциональное является предметом обработки, а интенциирующее действующей силой этого процесса.
Впрочем, взаимодействие интенциирующего и интенционального в процессе именно мышления подробно рассматривалось в предыдущей части работы (Титов К. В., «Гипотеза о полной предметной субъект-центрированной модели в изучении психического мира человека», СПб, ВШПСТУ, 2023). Для поставленных задач этой части больший интерес представляет исследование природы интенцирующего, его субъективных свойств и качественного взаимодействия его с интенциональным в процессе регуляции направления психической деятельности.
Подобно тому, как качественные субъективные продукты анализаторов в виде «вкуса», «цвета и света», «запаха», «звука», функционально являются своеобразными психическими детекторами, формирующими перцептивные свойства объекта восприятия и предмета мышления, фактически субъективно репрезентируя психике связь анализатор-предмет, так интенциирующее является детектором, в ходе опыта создающим значимости объекта восприятия, которые сохраняются памятью в виде интенционального и при повторном взаимодействии с интенциирующим презентируют психике связь позыв-предмет мышления, как ту или иную значимость предмета.
С некоторой долей смелости механизм интенциирующего\ интенционального можно назвать «анализатором позыва», пре- зентирующим психике потребности организма в специфической модальности («голод», «влечение») и форме значимостей («вле- чение к справедливости» или «желание соленого»).
Подобно тому, как сигнал от предмета восприятия внесубъек- тивен до отражения его квалиа анализаторов, так интенциирую- щее внесубъективно до его взаимодействия с интенциональным. И точно так же, как иррационально происхождение перцепта, который появляется в субъективном так, как появляется, со- гласно своим недоступным вмешательству мышления законам и свойствам, не будучи создан субъектом, «волшебным образом», так же иррационально и проявление интенциирующего, которое проявляется в субъективном в виде чувственных значимостей, которые можно объяснить и истолковать, и даже попытаться комбинировать, но не создать посредством мышления.
Интроспективной иллюстрацией к данному тезису могут выступить отсутствие ожидаемого запаха, знакомое многим по осложнениям ковида, и отсутствие влечения к экзотической пище, например личинкам жуков, свойственного представителям чуждой вам культуры, позволяющие наглядно увидеть невозможность продукции как квалиа, так и чувственной значимости мышлением per se.
Дополнительно усиливает сходство интенциирующего и анализаторов то, что производимые интенциирующим субъективно различные качества – такие, как голод, страсть, тревога, страх, интерес и проч. – обладают сходствами с производимыми анализаторами модальностями квалиа.
Различием между ними является лишь то, что в случае интенциирующего-интенционального детектором является функциональное состояние позыва, а стимулом запечатленное в опыте интенциональное, что в целом заставляет предположить эволюционную премственность этих явлений
Таким образом, для субъективного мира интенциирующее проявляет в значимостях его под-лежащую, внутреннюю среду в том же смысле, в каком перцепция представляет в своих квалиа среду над-лежащую, внешнюю.
Собственно, интенциирующее является внесубъективным фундаментом психической деятельности, сообщая перцептам значимости, делающие их небезразличными, доступными обобщению и классификации, а также поляризующие отношение субъекта к ним: субъективная деятельность осуществляется с комплексами перцепт\значимость в обусловленном интенциирующим пристрастии направлении.
Очевидно, что явление интенциирующего ни в коем случае не следует смешивать с эмоциональными и высшими чувственными феноменами, которые порождаются при контакте интенциирующего и интенционального позднее, вторично, поскольку в этом случае изучение причин возникновения эмоционально-чувственной феноменологии сведется к изучению поведения вторичных явлений. В этом случае оно неизбежно смешается
с анализом взаимодействия интенциональных значимостей меж собой в гуманистическим восприятии субъекта, что явится методологической ошибкой, поскольку это взаимодействие определено не столько закономерностями мотивационных механизмов, сколько уникальным опытом субъекта, наложившим на картину практические закономерности внешнего мира, социальной среды и его индивидуальной ситуации.
Также неверно было бы понимать интенциирующее как «потребности», поскольку, во-первых, сам термин «потребности» в значительной степени относится к когнитивной области, и, во-вторых, из-за этого он не отражает субъективной стороны явления.
Интенциирующее более всего соответствует понятию «позыв» ака «desire» западных исследователей, взятому до когнитивной детализации его свойств. Оно делает те или иные стороны объекта внимания субъективно не безразличными, будучи вкладом регулятивной активности мозга в картину психической реальности.
Происхождение интенциирующего является крайне разно- образным, в нем смешиваются до-субъективные источники раз- личных уровней: это и базовые физиологические регуляторы, например уровни сахара и кислорода в крови, и видовые общие механизмы, например любопытство, влечение к яркому или автоматическое выделение вниманием движущегося предмета, и специфические механизмы, например половое влечение, и частные механизмы, наподобие безусловного или условного рефлекса, их влияние может быть смешанным – в любом случае, оно управляется активной и реактивной регуляцией более низкого уровня, чем субъективно представленное.
Фактически, учитывая единство психики, иррациональное интенциирующее является сложнейшим постоянно влияющим на субъективное интегральным позывом, одновременно энергетизирующим и дифференцирующим образы субъективного, а также реагирующим на их появления и трансформации в ходе восприятия и ассоциативного представления, то есть выполняющим постоянную функцию чувственной оценки внутренних реалий и порождающим их значимости.
Интенциирующее производит свое действие по своим, скрытым от сознания причинам, так, а не иначе, окрашивая интенциональные смыслы субъективных фигур несомненными для субъекта характерными для данного интенциирующего чувственно-эмоциональными качествами, поддающимися осознанию, комби- нированию, истолкованию и использованию в качестве переменных в ходе мышления, но не порождаемыми и не изменяемыми мышлением без посредства интенциирующего.
Следует отметить отличие интенциирующего от понятия
«Ид», введенного З. Фрейдом: в то время как Ид является некоей выделенной логически частью психики, обладающей способностью неким способом «быть», чувствовать и хранить в себе базовые и подавленные позывы, которые могут «в нем» взаимодействовать меж собой – субстрат интенциирующего является всего лишь непосредственно до-психическими механизмами, продуцирующими и регулирующими сами позывы в их свободной и ничем не стесненной форме, которые, если и подавляются впоследствии, все же подавляются уже непосредственно при взаимодействии интенционального за счёт регуляции психической сферы мышлением, и сложность осознания некоторых из них вызвана особенностями процессов мышления, но не позыва.
Таким образом, все богатство и сложность мотивационно-чувственной сферы порождается на границе между интенциональным и интенциирующим, являясь чувственным воспроизведением опыта в его уникальной совокупности множества индивидуально значимых субъективных отношений.
В нейрофизиологическом отношении, по-видимому, комплекс интенциональное-интенциирующее инвариантен сложному пространственно организованному возбуждению в коннектоме (мы позволим себе ввести в отношении такого объемного возбуждения, инвариантного тому или иному психическому феномену, термин «экситом» в значении «экситом явления», подчёркивая целостную инвариантную включенность явления в него), охватывающему сенсорные зоны, воспроизводящие перцепт, ассоциативные зоны, воспроизводящие смыслы перцепта, и структуры лимбической системы, воспроизводящие эмоционально-чувственные значимости смыслов (Иваницкий А. М. и со- авт., «Информационные процессы мозга и психическая деятельность», М., Наука, 1984).
Такой экситом, с одной стороны, несет субъективное содержание, а, с другой, сам непосредственно является процессом взаимодействия «предметной» (содержащей первично воспринятое или вторично воспроизведенное нейронной сетью) части психического с пристрастно реагирующей «организменной» частью психической механики.
С субъективной стороны он представляет собой двухчастный образ, появление перцепта которого в результате восприятия или представления автоматически достраивается ассоциированным интенциональным смыслом, который автоматически же вступает во взаимодействие с комплементарным ему интенциирующим, дополняя образ чувственными свойствами, «пониманием». Эта же цепочка, на самом деле представляющая собой сформировавшиеся в коннектоме связи, лишь активируемые возбуждением\ экситомом соответствующей им, специфической формы, работает и в обратном направлении: комплекс активировавшегося интенциирующего стимулирует интенциональное и пробуждает ассоциативно связанный с ним перцепт, в результате чего в сознании появляется образ, допустим, давно забытого школьного приятеля.
При этом значимости и чувства возникают непосредственно в этом контакте как результат взаимодействия двух различных факторов: интенционального и интенциирующего.
Соответственно, различная природа интенциирующего, как причины эмоционально-чувственных феноменов и собственно эмоционально-чувственных феноменов, как актуализации интенционального в поле инетенциирующего, позволяет рассматривать их отдельно, как позыв и субъективное переживание позыва, и по-новому взглянуть на их взаимосвязи, что способно преодолеть некоторые существующие сложности описания данной сферы и выделить ряд существенных закономерностей её функционирования.
И прежде всего внимания заслуживают общие закономерно- сти проявления интенциирующего, как позыва, взаимодействую- щего с субъективным содержанием психики.