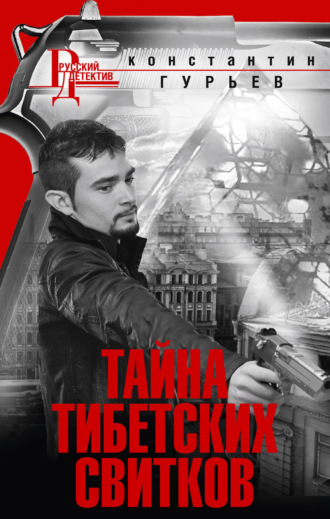
Константин Гурьев
Тайна тибетских свитков
5. Питер. 2 января
Проснулся Корсаков будто от толчка и быстро сел на кровати. Не сразу понял, где находится, осмотрелся. В темноте все было неразличимо и зыбко, но, ощутив под рукой упругий женский зад, он вспомнил, что рядом спит та самая Марина, с которой его вчера познакомил Маслов. Вспомнил, как вчера они «зажигали», но, не ощутив никаких признаков бодуна, успокоился. В конце концов, смена занятий – тоже отдых.
Потянувшись, подумал, что, конечно, пора вставать, и сразу же полезли неприятные мысли типа, чем заниматься весь день, да и вообще… Корсаков не любил ночевать в чужих постелях и редко делал исключения, а в Питере получилось именно так.
«Ладно, уймись», – посоветовал он самому себе и, натянув джинсы и рубашку, отправился на кухню курить. Не успел он сделать пару затяжек, как зазвонил мобильный, на дисплее высветилось «Маслов».
– Привет, – поздоровался Корсаков.
– Привет, ты как? – спросил Маслов каким-то напряженным голосом.
– Вроде живой, – попытался пошутить Корсаков и сам себе поставил двойку.
– Собирайся, я минут через двадцать буду возле дома, но во двор заезжать не стану, перезвоню – выйдешь прямо на улицу, – распорядился Маслов.
– Так сурово?
– Давай-давай, – окончательно аргументировал Маслов, и в трубке зазвучали короткие гудки.
В машине он молчал, сосредоточенно глядя на дорогу. Проехав несколько кварталов, припарковался, повернулся к Корсакову:
– У тебя все нормально?
– В каком смысле?
– Ну, вообще…
И тон, и вид Маслова, а особенно его поведение были настораживающими, и Корсаков не стал затягивать:
– Глеб, не тяни. Что случилось?
Видимо, Маслов только и ждал какого-то толчка, без которого и слова сказать не мог. А сейчас смог:
– Сегодня ночью убит Ветров.
– Что?! – не поверил своим ушам Корсаков.
– Говорят, просто истерзан, будто его пытали. – Голос у Маслова был все такой же тихий, даже боязливый. – Под вечер ему кто-то позвонил. Юля считает, знакомый.
– Какой знакомый, какая Юля?
Маслов удивленно посмотрел на него, потом сильно растер лицо ладонями, помолчал, закурил и пояснил:
– Утром мне позвонил мой старый товарищ, следователь городской прокуратуры. Его подняли еще раньше, почти ночью. Районка выехала на убийство, и ему руководство велело прибыть туда. Ну а там… Я уже там побывал. В квартиру, конечно, не пустили, но поговорить удалось.
– Почему он тебе-то позвонил? – не понимал Корсаков.
Маслов посмотрел на него все такими же невидящими глазами, помолчал, соображая. Потом продолжил:
– Ты спросил, кто такая Юля? Юля – это девушка, которую мы вчера у Ветрова видели, помнишь? Она у него вроде помощницы по хозяйству и по всем делам тоже. Так вот, она рассказала следователю, что перед самым ее уходом раздался звонок, и Ветров сам взял трубку, потому что Юля уже стояла в дверях. Кто звонил и о чем они говорили, она не знает: Ветров ее проводил и дверь за ней закрыл, но вроде речь шла о встрече, и встрече немедленной, понимаешь? Кто этот «знакомый», который позвонил Ветрову вечером, – неизвестно. Как его разыскать? Стали изучать на телефоне Ветрова все входящие и исходящие. Ну, этот товарищ, увидев мой номер, решил позвонить, так что после обеда ждет меня в прокуратуре.
Маслов передавал этот рассказ, а глаза его все время изучающе скользили по лицу Корсакова, будто Маслов обыскивал его, стараясь уловить реакции.
– Хочешь поехать со мной?
Корсаков подумал, что хорошего во всем этом мало.
Если Ветров был под такой опекой, как говорил Маслов, то все его «опекуны» будут контролировать расследование, а значит, расследование будет очень и очень тщательное, все, кто будет к нему привлечен, будут чрезвычайно внимательными, сосредоточиваясь на всяких там мелочах. Конечно, они навещали Ветрова вдвоем, конечно, Юля видела, как они уходили, и их показания следствие может счесть важными, подлежащими тщательному изучению, но тогда он, москвич Корсаков, вполне мог попасть под подписку о невыезде, а это ему никак не улыбалось. Значит, надо как-то аккуратно выпутываться из этой непонятной ситуации, и он, помолчав, заявил:
– Жаль, конечно. Хороший дед, знающий. Но тут уж ничего не поделать. Может быть, и надо встретиться с этим твоим товарищем из прокуратуры, дать показания. В конце концов, мы ведь были в числе последних, кто видел Ветрова…
Маслов перебил нарочито лениво:
– Да я уже все ему рассказал: и что были вдвоем, и что ушли вместе, и что Юля там оставалась, и что с девицами вечер провели в таких местах, где видео работает, а еще я ему обещал после обеда заехать, подписать протокол. – И так же лениво повернулся, посмотрел на Корсакова и повторил: – Значит, поедем вместе?
Корсаков снова задумался. Сейчас в нем проснулось то, что казалось давно и прочно забытым, придавленным толщей лет. Все происходящее он воспринимал не умом, а интуитивно. Когда-то его интуиции завидовали многие. В те времена он ее искренне благодарил: если бы не она, благоверная, кто знает, был бы он сейчас жив! А в данный момент интуиция нашептывала ему, что надо как можно быстрее отдаляться от всего происходящего, потому что все это переполнено беспокойством, неопределенностью. Ведь если все сложить вместе, то получается, что пустячная просьба найти автора статейки в какой-то газетенке получила серьезное продолжение. Подсознание и само еще не разобралось, что происходит – дурное или хорошее, – но сидеть и ждать сейчас становилось опасным.
И Корсаков решился, сказав задумчиво:
– Ты говоришь, что все ему рассказал, а он что?
Маслов пожал плечами:
– Да сказал, что все надо на бумагу с моей подписью…
– Ты ему сказал, что мы там были вдвоем, а он что?
– В каком смысле?
– Ну, он расспрашивал обо мне, требовал, чтобы я тоже явился?
Маслов помолчал, будто воспроизводя весь разговор мысленно, потом сказал:
– Вроде не требовал.
Корсаков пожал плечами, демонстрируя полное непонимание, и спросил:
– А что мне тут делать, собственно говоря?
Маслов вздохнул, пытаясь изобразить сомнение, но это ему плохо удавалось.
– Ну, если что, тебя могут и в Москве вызвать на допрос, верно?
– Конечно, – подтвердил Корсаков. – И потом, я же не обязан перед тобой отчитываться, где я ночую, верно?
Маслов несколько секунд смотрел в окно, потом спросил:
– Так что, на вокзал?
Им повезло: поезд отправлялся через полтора часа. Взяв билет, они пошли перекусить и вернулись за несколько минут до отправления.
Корсаков, отдав билет проводнице, протянул руку Маслову, и тот, подойдя вплотную, негромко проговорил:
– Помнишь, я говорил, что Ветрову как человеку, знания которого нужны всем, безопасность гарантировали на самом высоком уровне?
– Помню. Я и сам голову ломаю, кто же мог такие гарантии нарушить? Его ведь сейчас точно так же, все вместе, и искать будут? – сказал Корсаков.
– «Его»? Или «их»? – Маслов явно нервничал. – Видимо, от Ветрова хотели получить ответы на такие вопросы, которые сделали бы тех, кто их задавал, неуязвимыми! И кому теперь придет в голову с этими людьми связываться? Я таких не знаю и тебе советую подумать.
Он помолчал немного и, когда проводница слегка подтолкнула Корсакова – входите, уже вот-вот отправление, – спросил:
– Игорь, он не сообщил тебе чего-либо особенного?
– Что «особенного»? – ответил Корсаков. – Мы же вместе были!
– Ну, мало ли что. – Маслов слегка смутился, а тут и проводница грозно встала в дверях вагона.
– С начальством спорить опасно, – усмехнулся Корсаков, помахал рукой и, не отрывая глаз от лица товарища, шагнул в тамбур.
Теперь он быстро шел по вагону, думая только об одном: успеть!
Вытащил из бокового кармана сумки давно приготовленный универсальный ключ, каким пользуются проводники, пробежал в тамбур следующего вагона и открыл дверь, выходящую на другую сторону поезда.
Ему повезло: на соседнем пути стояла электричка, и он успел проскользнуть в нее до того, как поезд отошел, открывая обзор. Теперь Маслов его не увидит (конечно, если он остался наблюдать).
Вскочив в электричку, Корсаков, стараясь не прижиматься к стеклу, осмотрел перрон, с которого только что вошел в вагон. Маслов по-прежнему стоял на месте и глядел вслед ушедшему составу. Потом зашагал в направлении здания вокзала, вытащил из кармана телефон и заговорил резко, помогая себе взмахами руки.
Двигаясь по перрону, Глеб оказался около крепкого парня лет двадцати пяти, наголо бритого, но сохранившего усы и бородку. Маслов, продолжая разговор, остановился. Было ясно, что парень ждет его.
«Отсюда, с расстояния, разговор не услышать», – безнадежно констатировал Корсаков и уже хотел было отойти от окна, когда увидел, как к этой паре подошла… Юля! Та самая милая девушка Юля, которая вчера помогала в квартире Ветрова и от которой полиция и прокуратура получили информацию обо всем, что предшествовало убийству. Вот те раз!
Дождавшись, пока все трое уйдут, Корсаков выскочил из электрички. Посидев возле здания вокзала полчаса, он двинулся на привокзальную площадь. Дойдя до ближайшего таксофона, набрал номер, который получил от Ветрова, и тотчас был приглашен на встречу с подробными инструкциями о том, где и как все произойдет.
Встретились они возле Финляндского вокзала, где Корсакову пришлось несколько минут простоять в неизбежной толкотне, пока не зазвонил его мобильник и не прозвучал вопрос:
– Вы не меня ждете, молодой человек?
Новый знакомый, пожалуй, ровесник Ветрова, представился:
– Владимир Евгеньевич Льгов.
Пожимая руку, внимательно посмотрел на Корсакова и спросил:
– Вы и есть тот московский журналист, охотник за сенсациями, о котором говорил Леня?
Льгов постоял неподвижно еще несколько секунд, а потом, демонстративно вскинув голову, посмотрел на небо и сказал:
– Когда вы позвонили, я решил, что нашу беседу следует начать с прогулки! Больно уж день хороший, а? Самое время прогуляться!
Они шли в сторону от оживленного проспекта и молчали, пока рев машин заглушал все звуки, потом Льгов сказал:
– Леня сказал, что вас интересуют тибетские свитки, это так?
Корсаков предпочел пересказать то, о чем говорили вчера, и Льгов слушал, не перебивая, потом сказал:
– Вся эта возня с Тибетом, чакрами и тому подобной ерундой вносит такую сумятицу в мозги, что страшно становится. Поэтому помогу, чем смогу. Вас я выслушал, пафос понял… – сам себя оборвал: – А как у нас со временем?
– Время есть, – успокоил его Корсаков.
– Так вот, – удовлетворенно кивнул Льгов, – о рукописях, свитках и тому подобном. Начну с того, что точного учета подобных вещей у нас нет. Даже если вам предъявят какую-нибудь картотеку – она ничего не значит! Это относится и к вопросу о тибетских манускриптах в официальных хранилищах. Теперь – о частных. Начну издалека, раз есть время. Рукописи, свитки, копии и все прочее, что может вас вдохновить, стали поступать в Россию давно, хотя в большинстве случаев были, скорее, такими же атрибутами, как магниты для холодильников, которые сегодня привозят все туристы.
– Меня интересуют не свитки вообще, а… – вмешался Корсаков и был остановлен одним только жестом.
– Ваш интерес я уловил уже по рассказу о событиях семнадцатого года, поэтому не бойтесь отклонений. Скорее всего, как вы и сказали, Бокий заинтересовался Востоком с подачи «тибетцев». Сам я с ним знаком не был, но рассказы людей, которые с ним работали, помогают создать довольно целостный портрет. Он был человеком своеобразным, жадным в жизни, в чувствах, в ощущениях, в знаниях, во всем. Самой сильной его страстью была все-таки власть. Но власть не та, которая всем видна, власть простая, открытая, а власть особая, тайная, управляющая той, которая видна всем, понимаете?
– И для достижения ее Бокию требовались сокровенные знания, заключенные в тибетских рукописях?
Льгов помолчал, взвешивая что-то, потом, тщательно подбирая слова, ответил:
– Если бы такая власть открывалась всем, кто умеет читать, то мир давно рухнул бы от избытка властителей. То, что изложено в рукописи, пусть даже самой древней, самой редкой, уже известно людям. Не одному человеку, а многим. Известно и перестает быть сокровенным знанием, превращаясь в знание обыденное.
– Погодите, Владимир Евгеньевич, погодите. Мы говорили о тибетских свитках, – напомнил Корсаков, – за них боролись, не выбирая средств в этой борьбе, чекисты! Чекисты, а не школьники или студенты! А вы мне сейчас хотите сказать, что все, имевшие отношение к свиткам, получили знания, позволяющие управлять людьми? Да ведь это просто смешно! Если бы хоть кто-то смог получить эти знания, то их давно бы уже применили.
– А вы невнимательны и торопливы, Игорь: получив достаточно информации, спешите сделать вывод, основанный только на поверхностных, самых заметных фактах, не стараясь заглянуть внутрь!
– И что бы я увидел там, внутри?
– Так вот, говорили, будто Бокий в конце двадцатых серьезно поругался со своим учителем и наставником – Цыбикжаповым. Что-то между ними произошло такое, что позднее они друг друга возненавидели. Цыбикжапов якобы скрывался, опасаясь мести Бокия, но в то же время часто появлялся в обществе с рассказами о Тибете и его медицине, то есть жил нормальной жизнью. А потом спустя несколько лет исчез. И теперь уже на самом деле внезапно и навсегда.
– Извините, откуда у вас эта информация? – перебил Корсаков. – Не то что я вам не доверяю, но эти вещи явно не публиковались в газете «Ленинградская правда».
– Странно, – ответил Льгов. – Мне показалось, вы умеете слушать.
– Еще раз прошу простить, но и меня поймите.
– Да понимаю я, понимаю, – с досадой проговорил Льгов. – Если вы ждете, что я выложу сейчас заверенные у нотариуса записи моих бесед или что-то в этом роде, то вы ошибаетесь. Нет их у меня. Я готов рассказывать, а уж искать подтверждения – ваша забота. Договорились?
– Хорошо, – согласился Корсаков, понимая, что другого выхода у него сейчас нет.
– А информацией я располагаю по одной простой причине: много лет назад ко мне обращались почти с такими же вопросами, и я провел свое небольшое расследование. Тогда еще были живы многие, кто знал об этом не понаслышке. И «Ленинградскую правду», как вы пошутили, мне читать не надо было.
– Вы встречались с теми, кто в двадцатые годы имел отношение ко всей этой истории?
– Не только в двадцатые. И в тридцатые, и особенно в пятидесятые.
– А в пятидесятые-то чего? Ни Бокия, ни Блюмкина уже не было, документы – неизвестно где. Кто и за что мог бороться?
– Конечно, главных участников уже не было в живых. Но работали-то они не в пустоте, рядом с ними всегда были люди, которые видели, помнили, понимали. Кое-кого из них расстреляли вместе с Блюмкиным и Бокием. А кое-кто угодил в лагеря. Вот они, выйдя на свободу, и могли заняться поисками.
Именно в тот момент Игорю вдруг пришло в голову, что Льгов по возрасту вполне мог бы оказаться одним из коллег Зиновия Абрамовича Зеленина, с которым судьба его столкнула в деле о «внуке последнего российского императора». Впрочем, Льгов мог быть близок Зеленину не только по возрасту, но и по роду занятий. Игорь хотел спросить об этом, но не решился: обидится еще и замолчит.
А Льгов продолжал:
– Впрочем, эти люди и их поиски для вас, видимо, важны только одним. Все, что найдено Бокием и Блюмкиным, и все, что обрабатывали в лабораториях, – все распалось не менее чем на четыре части. Даже много лет спустя участники тех событий, не ведая подробностей, знали, что всегда кто-нибудь успевал изъять и перепрятать документы, пока их руководителя не успели выпотрошить.
– И не искали?
– Искали, ищут и будут искать, – сказал Льгов. – Я это знаю потому, что моя первая жена – внучка профессора Росохватского.
– Росохватского? – невольно переспросил Корсаков, услышав фамилию, о которой недавно шла речь.
– Гордей Андреянович Росохватский возглавил все исследования после ареста Варченко!
Уточнить, кто такой Варченко, Корсаков не решился, а Льгов продолжал:
– Профессор был еще жив, когда мы с его внучкой начали встречаться. По субботам на ужин в их хлебосольной семье собирались дружные компании, а по воскресеньям на обед – только свои. Вот и меня стали приглашать. Росохватскому, видимо, было со мной интересно, потому что часто к себе в кабинет приглашал и угощал кофе с ликером, ну и, конечно, нескончаемыми разговорами. Так мы с ним и вышли на мою уже тогда любимую тему об аномальных явлениях, и он открылся мне во всей красе. То есть это я тогда так думал, что он мне весь раскрылся. Потом-то понял, что, по существу, я ничего от него и не узнал. Но общее направление, имена, представление о важнейших событиях получил. Архива, как такового, у Росохватского не имелось. Это я знаю точно. Все бумаги у него изымали много раз и по линии Академии наук, и по линии спецпроектов КГБ, и просто так. Придут серьезные дядьки, поговорят с ним и уносят документы – боялись, что сболтнет лишнее, видимо. Да он и сам мне признавался, что иногда опасается что-нибудь ляпнуть. Такие вот дела.
– Так, значит, не все закончилось в тридцатые? – спросил Корсаков.
Льгов помолчал, потом ответил:
– Думаю, такие дела никогда не заканчиваются, потому что у них нет окончания, как у жизни. Уходят одни, приходят другие, и все продолжается.
Они стояли возле арки, указав рукой в которую, Льгов сказал:
– Приглашаю на чашку кофе, молодой человек!
6. Питер. 2 января
Войдя в квартиру, Льгов сказал:
– Кофе я, конечно, вас угощу, но в гости вас позвал не за тем. Судя по тому, как вы реагировали на мои слова, сами-то вы еще так и не ознакомились с темой, следовательно, не сможете наметить проблемы, а тем более пути их решения. Поэтому…
Последние слова он произносил, уходя в комнату, а вернувшись, протянул Корсакову обычный почтовый конверт и предложил:
– Вот, почитайте, пока я кофе приготовлю да пару сэндвичей. Это письмо в каком-то смысле музейный экспонат, как-никак – автограф самого профессора Росохватского. Это его письмо мне. Он уже был в больнице, знал, что умирает, а от нас скрывал. Как-то мы с женой пришли, я хотел его поддержать, взбодрить и для этого буквально засыпал вопросами, а он уже говорил с трудом, вот и написал для меня «отчет всей своей жизни».
На пожелтевшей от времени плотной «настоящей» бумаге убористым, четким почерком было написано нечто невероятное:
«К работам профессора Варченко я был привлечен в начале двадцатых годов, но поначалу не представлял всего размаха и глубины исследований. В ту пору я был студентом филологического факультета и увлекался историей Древнего Востока.
Мои способности, очевидно, выделили меня из общей массы студентов. И мой педагог, доцент Рубинин Моисей Авенирович, однажды попросил меня помочь ему в составлении комментариев к переводу тибетских текстов и, видимо, остался доволен результатами. Аналогичные поручения он стал давать мне довольно часто, намекая время от времени, что эта работа открывает мне двери в высшее преподавательское сообщество. Впрочем, в конце концов именно так и случилось.
Однажды, кажется в 1925 году, Рубинин пригласил меня на симпозиум. Уверен, вы помните: слово это в переводе с древнегреческого означает «совместное винопитие». В традициях лаборатории Варченко это было именно „винопитие“, а не пьянка, ибо пили весьма воздержанно и только изысканные вина.
Начинался же симпозиум с докладов, которые потом мы и обсуждали.
Вот на самом первом симпозиуме, который мне довелось посетить, все и началось. Докладывали комментарии к тибетским текстам, подобные тем, которые составлял и я. Поначалу я слушал с трепетом, но вскоре заметил несколько досадных неточностей. Делать замечания в первый же раз я опасался и промолчал. Молчание мое, однако, вскоре прервалось. Вы догадываетесь, что стало причиной тому?
Да, выпив стакан настоящего грузинского вина, я слегка захмелел и, оказавшись рядом с ученым, делавшим тот злополучный доклад, не сдержался. Мой сосед, значительно старше меня и уважаемый в научных кругах, вспылил, назвал меня „невеждой“.
Я уже готов был извиниться или вообще бежать куда глаза глядят, если бы другой сосед, сидевший напротив нас, не заинтересовался: что я конкретно имею в виду? Мой ответ затянулся минут на двадцать, и почти сразу же я оказался в центре внимания. Потом я узнал, что аргументы, приведенные мной, для многих стали подлинным открытием и, пожалуй, даже шоком, учитывая мой юный возраст.
Спустя три дня Рубинин сообщил, что сам профессор Варченко приглашает нас с ним для беседы. Именно с того времени я стал фактически сотрудником „лаборатории Варченко“. Пишу именно так, чтобы вы поняли: никакого формального присовокупления моего к научной группе не состоялось.
Формально „группы Варченко“ и не существовало. Не было никаких списков, кабинетов с табличками, как не было и ведомостей по выдаче нам денежных средств.
Сам Варченко располагался и проводил опыты в помещениях, находившихся в глубине дворов на Рождественской улице, что отходят от Суворовского проспекта в Ленинграде. Там мы собирались время от времени именно на наши симпозиумы.
В остальном же, а это была львиная доля всего времени, мы работали у себя дома, навещая друг друга и обсуждая наши работы, если была нужда. К тому же я в скором времени стал преподавателем одного из институтов.
Надо сказать, что обстановка в „группе“ была довольно напряженной, но открылось мне это не сразу. Лишь спустя два года я начал разбираться в тех хитросплетениях, которые уже существовали и без знания которых выжить там не представлялось возможным.
Дело в том, что научные проблемы были не главными во всей системе отношений. Оплата труда каждого члена коллектива являлась делом его отношений с Варченко. Только он определял, сколько стоит каждый сотрудник и как необходимо вознаградить его труд. Естественно, насколько высоко оплачивался труд самого профессора, никто не знал.
Судя по тому, как росла моя „премия“, выдаваемая ежемесячно, равно как и оплата труда еще двух моих ровесников, я догадывался, что Варченко намеревается существенно изменить состав группы, избавляясь от некоторых работников, которые уже ничего не могли дать.
Вскоре состоялась встреча, которая оказала важное воздействие на всю мою последующую жизнь. Надо сказать, что иногда в беседах с единственным человеком, который всегда оставался рядом с Варченко, профессором Кёнигом, проскальзывали слова „наш армянин“ или „Геворк“. Кто такой этот „армянин Геворк“, я не знал, а спрашивать у других опасался. Как оказалось впоследствии, не зря!
Летом 1928 года я готовился к свадьбе, был переполнен любовью, когда мне позвонил человек, представившийся Владимировым, и предложил встретиться. Я увидел перед собой довольно высокого человека, лицо которого показалось мне знакомым, однако вспомнить, где мы прежде виделись, я не смог.
Он вежливо поздоровался, предложил прогуляться и начал расспрашивать о моих преподавательских делах, интересуясь время от времени то одним, то другим студентом. Мне расспросы эти показались неуместными и назойливыми, о чем я не преминул сообщить собеседнику.
В ответ он рассмеялся, дружески похлопал меня по плечу и порадовался моей скрытности. Потом извинился, что и сам скрытен, и представился еще раз, признавшись, что он и есть тот самый „армянин Геворк“, о котором я, наверное, наслышан. Видимо, моя реакция, а вернее, ее отсутствие его не удивили, и он пообещал, что в ближайшее время мое „материальное вознаграждение“ возрастет, подчеркнув, что отныне я буду получать „не меньше“.
Как же я удивился, когда утром следующего дня мне позвонил Варченко, предложивший „заглянуть“ к нему. Там он, радостно улыбаясь, сообщил, что о моих способностях сообщил „наверх“ и получил разрешение увеличить мое вознаграждение ровно в два раза. Он особо подчеркнул свою роль в этом и заявил о высокой оценке товарища Геворка.
Вечером того же дня вновь раздался звонок „Геворка“, и тот со смехом предложил отметить в мужской компании два радостных события: повышение жалованья и мою женитьбу. Во время этой второй встречи он снова больше говорил сам, но уже иначе, как со своим другом.
На прощание он предложил мне „дополнительную работу“: просто перевести еще один свиток с тибетским текстом. Я согласился, конечно, поскольку это было напрямую связано с моими научными интересами.
За переводом „Геворк“ пришел через два-три месяца ко мне домой, и я, отдавая и свиток, и перевод, отметил, что, на мой взгляд, свиток этот является подделкой. Гость заинтересовался причинами такой оценки, и неожиданно завязался разговор о самих принципах подхода к текстам.
Именно „Геворк“ тогда посоветовал мне пристальнее всмотреться в психологический пласт текстов, извлекая из них, как он выразился, «практические соображения». Напомню, по образованию я все-таки филолог, поэтому психологический аспект мне был малоинтересен. И тем не менее благодаря подсказке „Геворка“ я занялся именно этим, в чем неожиданно и преуспел.
Могу признать сейчас, что многие его идеи я потом реализовал, придав им, конечно, научный характер. Хотя практическая сметка этого человека меня поразила.
Потом „Геворк“ достал бутылку коньяка из „старорежимных запасов“ и предложил отметить успешное окончание моей работы над текстом и начало „длительного и плодотворного сотрудничества“.
После этого он рассчитался со мной за выполненную работу, вручив неожиданно большую сумму денег, и попросил сообщать ему о тех конфликтах, которые происходят в нашей группе. Он и сам был хорошо осведомлен о сложной обстановке в группе, рассказал об отношениях и соперничестве, которые мне, конечно, не были известны. Говорил о том, что эти „акадэмические битвы“ мешают делу, тормозя получение результата.
Потом, взяв с меня слово, что все останется между нами, сообщил: мой возраст предполагает наличие огромных ресурсов и сил для работы, а потому в скором времени решится вопрос о разделении группы. Видимо, „акадэмики“ как балласт будут оставлены в подчинении Варченко, а „перспективную молодежь“ объединят в другой коллектив – скорее всего с официальным статусом государственного научного учреждения.
После этого „Геворк“ наполнил рюмки, предложил выпить за мою победу в этом соревновании и намекнул, что пока еще не решен вопрос о том, кто возглавит это новое учреждение. На прощание он посоветовал вести некоторые записи обо всем происходящем в нашей группе, чтобы он смог, когда понадобится, ссылаясь на них, представить меня как наилучшего кандидата в руководители!
Значительно позднее я осознал, что его просьба, если называть вещи своими именами, являлась, по существу, предложением заняться доносительством. Однако в тот момент я искренне согласился с „Геворком“: распри мешают нормальной работе и, следовательно, должны быть прекращены.
Кроме того, я полагал, что от меня он хочет получить подтверждение уже рассказанного моими коллегами. И наконец, я был уверен, что, пристальнее вглядываясь в наши распри, я буду способен лучше организовать работу, когда окажусь во главе обещанного „Геворком“ исследовательского коллектива. Заблуждение мое долгое время оставалось самым искренним.
Вновь „Геворк“ появился примерно через полгода, пригласил меня, как и в прошлый раз, на ужин и попросил взять сделанные мной записи. Изучив их внимательно, стал расспрашивать. Больше всего вопросов поступало о том, как формулирует задания профессор Варченко и от кого, по моему мнению, он их получает. Тогда же мне было рекомендовано войти в ближайшее окружение Варченко. Однако больше с „Геворком“ я не встречался и долгое время был в неведении относительно его судьбы.
Работы наши продолжались, и, погрузившись в сферу психологических тонкостей, содержащихся в тибетских текстах, я невольно стал интересоваться и тем, что вообще происходит в этой области.
В ту пору велось еще несколько исследований в том же направлении, однако они основывались на иных принципах и предполагали использование мощных аппаратов, способных концентрировать некие физические волны, воздействующие на человека.
Я же выдвинул концепцию по психологическому воздействию путем применения звуков, рассчитанных на определенный эффект. Поскольку моя методика не предусматривала какого-либо оборудования, она была названа в числе приоритетных. Однако в связи с тем, что всей информацией о нашей работе располагал профессор Варченко, он организовал дальнейшие исследования по своему усмотрению, являвшемуся уже устаревшим. Тем не менее мне удавалось все-таки получать хорошие результаты.
В начале 1934 года меня пригласил Варченко, который уже доверял мне весьма важные дела. Тогда я еще не сомневался, что он опять выполняет указание „Геворка“, как и в случае с оплатой, и готовит меня к самостоятельной руководящей работе. Варченко поручил мне в кратчайшие сроки подготовить программу работы с человеком, которому необходимо было внедрить модель управляемого на расстоянии поведения.
Такие опыты в лабораторных условиях мы уже проводили на базе колонии для малолетних преступников, вселяя в их подсознание необходимость ударного труда и сознательного отношения к социалистическому строительству. Однако взрослых людей с устоявшейся системой жизненных ценностей мне моделировать еще не приходилось, тем более в условиях свободы их передвижений. Поставленная задача состояла в следующем: требовалось произвести такую обработку подсознания человека, чтобы он автоматически выполнял потом некую совокупность действий. Проблема заключалась в том, что человек этот не находился постоянно под контролем нашего сотрудника. Более того, возможно, на него могло оказываться какое-либо иное давление или даже противодействие. Иначе говоря, я должен был подготовить человека в качестве того, кого сейчас называют „зомби“.
По документам, отправляемым руководству, такая проблема еще находилась в стадии теоретической разработки, но Варченко знал мои уже практические результаты. Он пообещал, что в случае успеха меня ждет поощрение не только материальное, но и в карьерном отношении. Предложенную мной программу профессор Варченко одобрил, и для моей работы выделили на Охте домик, стоящий на отшибе. На следующий день привезли человека, с которым я должен начать работу. К моему удивлению, в программу были внесены без согласования со мной неожиданные изменения, а через неделю мне объявили, что я могу отправляться домой, откуда меня вызовут в течение недели. Варченко, к которому я обратился, никаких внятных разъяснений не дал. Правда, учитывая его возраст, от него мало чего можно уже было ожидать, кроме нелепых руководящих указаний. Все, что я услышал, так это совет готовиться к продолжению работы по новым методикам.
Следующий вызов в тот же домик на Охте произошел через десять дней. Правда, на сей раз я должен был провести проверку внушаемости и отзывчивости у нескольких человек, включая и того, с кем я уже поработал. После этого мне объявили, что опыты прекращены, поскольку необходимо создать новое теоретическое обоснование взамен прежнего, не подтвержденного практикой. На мой вопрос, когда следует приступать к этому этапу, мне посоветовали хорошо отдохнуть.







