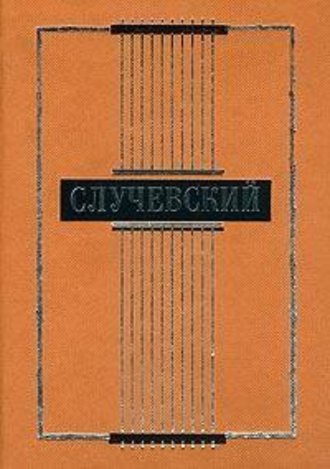
Константин Случевский
Полное собрание стихотворений
Ханские жены
(Крым)
У старой мечети гробницы стоят, —
Что сестры родные, столпились;
Тут ханские жены рядами лежат
И сном непробудным забылись...
И кажется, точно ревнивая мать,
Над ними природа хлопочет, —
Какую-то думу с них хочет согнать,
Прощенья от них себе хочет.
Растит кипарисы – их сон сторожить,
Плющом, что плащом, одевает,
Велит соловьям здесь на родине быть,
Медвяной росой окропляет.
И времени много с тех пор протекло,
Как ханское царство распалось!
И кажется, все бы забыться могло,
Всё... если бы все забывалось!..
Их хитростью брали, их силой влекли,
Их стражам гаремов вручали
И тешить властителей ханской земли,
Ласкать, не любя, заставляли...
И помнят могилы!.. Задумчив их вид...
Великая месть не простится!
Разрушила ханство, остатки крушит
И спящим покойницам снится!
На горном леднике
В ясном небе поднимаются твердыни
Льдом украшенных порфировых утесов;
Прорезают недра голубой пустыни
Острые углы, изломы их откосов.
Утром прежде всех других они алеют
И поздней других под вечер погасают,
Никакие тени их покрыть не смеют,
Над собою выше никого не знают.
Разве туча даст порою им напиться
И спешит пройти, разорванная, мимо...
Пьют утесы смерть свою невозмутимо
И не могут от нее отворотиться.
Образ вечной смерти! Нет нигде другого,
Чтобы выше поднялся над целым миром,
И царил, одетый розовым порфиром,
В бармах и в короне снега золотого!
На взморье
(В Нормандии)
На берегах Нормандии счастливой,
Где стенами фалез земля окаймлена,
Привольно людям, счастье не химера,
Труд не гнетет и жизнь не голодна.
Еще всесильны пестрые мадонны
И, приношеньями обвешаны, глядят,
И депутаты здешних мест в Париже
На крайней правой исстари сидят.
Еще живет старинная отвага
И крепкая душа в нормандских рыбаках:
Их мощный тип не может измениться,
Он сохранен, он взрос в морских солях!
Нейдет отсюда жить к американцам
Избыток сил людских; есть место для гробов;
Бессчетных фабрик пламенные печи
Не мечут в ночь пунцовых языков.
Меж темных рощ, над тучными холмами,
Стада и табуны, и замки, и дворы;
Из них, что день, развозятся повсюду
И молоко, и масло, и сыры.
Здесь, вдоль черты приливов и отливов,
В волнах, играющих между прибрежных глыб,
Роятся тьмы вертящихся креветок;
Морской песок – и этот полон рыб.
Повсюду, словно гроздья винограда,
Лежат синеющие мули под водой,
И всякой рыбою полны рыбачьи боты,
Бегущие на утре дня домой,
Пластом ракушки берег покрывают,
И крабов маленьких веселые семьи,
Заслышав шум, под камни убегают,
Бочком ползут в пристанища свои;
И всюду между них, спокойней чем другие,
Отцы «отшельники» различных форм живут:
То рачки умные, засевшие в скорлупки
Погибших братьев, в даровой приют.
Лежит «отшельник», счастлив и беспечен,
Лежит в песке и преспокойно ждет, —
Квартирою дешевой обеспечен,
А кушанье доставит море в рот.
Свой вкусный хвостик глубоко запрятав,
Таращит этот рак проворные клешни...
То дармоеды, феодалы моря,
Невозмутимей всех других они!..
На разные случаи и смесь
После похорон Ф. М. Достоевского
И видели мы все явленье эпопеи...
Библейским чем-то, средневековым,
Она в четыре дня сложилась с небольшим
В спокойной ясности и красоте идеи!
И в первый день, когда ты остывал
И весть о смерти город обегала,
Тревожной злобы дух недоброе шептал,
И мысль людей глубоко тосковала...
Где вы, так думалось, умершие давно,
Вы, вы, ответчики за раннюю кончину,
Успевшие измять, убить наполовину
И этой жизни чистое зерно!
Ваш дух тлетворный от могил забытых
Деянье темное и после вас вершит,
От жил, в груди его порвавшихся, открытых,
От катафалка злобно в нас глядит...
И день второй прошел. И вечер, наступая,
Увидел некое большое торжество:
Толпа собралась шумная, живая,
Другого чествовать, поэта твоего!..
Гремели песни с освещенной сцены,
Звучал с нее в толпу могучий сильный стих,
И шли блестевшие огнями перемены
Людей, костюмов и картин живых...
И в это яркое и пестрое движенье,
Где мягкий голос твой – назначен был звучать,
Внесен был твой портрет, – как бледное виденье,
Нежданной смерти ясная печать!
И он возвысился со сцены – на престоле,
В огнях и звуках, точно в ореоле...
И веяло в сердца от этого всего
Сближением того, что живо, что мертво,
Рыданьем, радостью, сомненьями без счета,
Всей страшной правдою «Бесов» и «Идиота»!..
Тревожной злобы дух – он уставал шептать!
Надеяться хотелось, верить, ждать!..
Три дня в туманах солнце заходило,
И на четвертый день, безмерно велика,
Как некая духовная река,
Тебя толпа в могилу уносила...
Зима, испугана как будто, отступила
Пред пестротой явившихся цветов!
Качались перья пальм и свежестью листов
Сияли лавры, мирты зеленели!
Разумные цветы слагались в имена,
В слова, как будто говорить хотели...
Чуть видной ношею едва отягчена,
За далью серой тихо исчезая,
К безмолвной лавре путь свой направляя,
Тихонько шла река, и всей своей длиной
Вторила хорам, певшим: «Упокой!»
В умах людских, печальных и смущенных,
Являлась мысль: чем объяснить полней —
Стремленье волн людских и стягов похоронных, —
Как не печалью наших тяжких дней,
В которых много так забитых, оскорбленных,
Непризнанных, отверженных людей?
И в ночь на пятый день, как то и прежде было,
Людей каких-то много приходило
Читать Псалтырь у головы твоей...
Там ты лежал под сенью балдахина,
И вкруг тебя, как стройная дружина
Вдруг обратившихся в листву богатырей,
Из полутьмы собора проступая
И про тебя былину измышляя,
Задумчивы, безмолвны, велики,
По кругу высились лавровые венки!
И грудой целою они тебя покрыли,
Когда твой яркий гроб мы в землю опустили...
Морозный ветер выл... Но ранее его
Заговорила сдержанная злоба
В догонку шествию довременного гроба!
По следу свежему триумфа твоего
Твои товарищи и из того же круга,
Служащие давно тому же, что и ты, —
Призванью твоему давали смысл недуга,
Тоске предвиденья – смысл тронутой мечты!
Да, да, действительно – бессмертье наступало,
Заговорило то, что до того молчало
И распинало братьев на кресты!
И приняла тебя земля твоей отчизны;
Дороже стала нам одною из могил
Земля, которую, без всякой укоризны,
Ты так мучительно и смело так любил!
Коллежские асессоры
В Кутаисе и подле, в окрестностях,
Где в долинах, над склонами скал,
Ждут развалины храмов грузинских,
Кто бы их поскорей описал...
Где ни гипс, ни лопата, ни светопись
Не являлись работать на спрос;
Где ползут по развалинам щели,
Вырастает песчаный нанос;
Где в глубоком, святом одиночестве
С куполов и замшившихся плит,
Как аскет, убежавший в пустыню,
Век, двенадцатый счетом, глядит;
Где на кладбищах, вовсе неведомых,
В завитушках крутясь, письмена
Ждут, чтоб в них знатоки разобрали
Разных, чуждых людей имена, —
Там и русские буквы читаются!
Молчаливо улегшись рядком,
Все коллежские дремлют асессоры
Нерушимым во времени сном.
По соседству с забытой Колхидою,
Где так долго стонал Прометей;
Там, где Ноев ковчег с Арарата
Виден изредка в блеске ночей;
Там, где время, явившись наседкою,
Созидая народов семьи,
Отлагало их в недрах Кавказа,
Отлагало слои на слои;
Где совсем первобытные эпосы
Под полуденным солнцем взросли, —
Там коллежские наши асессоры
Подходящее место нашли...
Тоже эпос! Поставлен загадкою
На гробницах армянских долин
Этот странный, с прибавкою имени
Не другой, а один только чин!
Говорят, что в указе так значилось:
Кто Кавказ перевалит служить,
Быть тому с той поры дворянином,
Знать, коллежским асессором быть...
И лежат эти прахи безмолвные
Нарожденных указом дворян...
Так же точно их степь приютила,
Как и спящих грузин и армян!
С тем же самым упорным терпением
Их плывучее время крушит,
И чуть-чуть нагревает их летом,
И чуть-чуть по зиме холодит!
Тот же коршун сидит над гробницами,
Равнодушен к тому, кто в них спит!
Чистит клюв, обагренный добычей,
И за новою зорко следит!
Одинаковы в доле безвременья,
Равноправны, вступивши в покой:
Прометей; и указ, и Колхида,
И коллежский асессор, и Ной...
После казни в Женеве
Тяжелый день... Ты уходил так вяло...
Я видел казнь: багровый эшафот
Давил как будто бы сбежавшийся народ,
И солнце ярко на топор сияло.
Казнили. Голова отпрянула, как мяч!
Стер полотенцем кровь с обеих рук палач,
А красный эшафот поспешно разобрали,
И увезли, и площадь поливали.
Тяжелый день... Ты уходил так вяло...
Мне снилось: я лежал на страшном колесе,
Меня коробило, меня на части рвало,
И мышцы лопались, ломались кости все...
И я вытягивался в пытке небывалой
И, став звенящею, чувствительной струной, —
К какой-то схимнице, больной и исхудалой,
На балалайку вдруг попал едва живой!
Старуха страшная меня облюбовала
И нервным пальцем дергала меня,
«Коль славен наш господь» тоскливо напевала,
И я вторил ей – жалобно звеня!..
«Забыт обычай похоронный...»
Забыт обычай похоронный!
Исчезли факелов ряды,
И гарь смолы, и оброненный
Огонь – горящие следы!
Да, факел жизни вечной темой
Сравненья издавна служил!
Как бы объятые эмблемой,
Мы шли за гробом до могил!
Так нужно, думалось. Смиримся!
Жизнь – факел! Сколько их подряд!
Мы все погаснем, все дымимся,
А искры после отгорят.
Теперь другим, новейшим чином
Мы возим к кладбищам людей;
Коптят дешевым керосином
Глухие стекла фонарей;
Дорога в вечность не дымится,
За нами следом нет огня,
И нет нам времени молиться
В немолчной сутолоке дня;
Не нарушаем мы порядка,
Бросая искры по пути,
Хороним быстро, чисто, гладко —
И вслед нам нечего мести!
На Раздельной
(После Плевны)
К вокзалу железной дороги
Два поезда сразу идут;
Один – он бежит на чужбину,
Другой же – обратно ведут.
В одном по скамьям новобранцы,
Все юный и целый народ;
Другой на кроватях и койках
Калек бледноликих везет...
И точно как умные люди,
Машины, в работе пыхтя,
У станции ход уменьшают,
Становятся ждать, подойдя!
Уставились окна вагонов
Вплотную стекло пред стеклом;
Грядущее виделось в этом,
Былое мелькало в другом...
Замолкла солдатская песня,
Замялся, иссяк разговор,
И слышалось только шаганье
Тихонько служивших сестер.
В толпе друг на друга глазели:
Сознанье чего-то гнело,
Пред кем-то всем было так стыдно
И так через край тяжело!
Лихой командир новобранцев, —
Имел он смекалку с людьми, —
Он гаркнул своим музыкантам:
«Сыграйте ж нам что, черт возьми!»
И свеялось прочь впечатленье,
И чувствам исход был открыт:
Кто был попрочней – прослезился,
Другие рыдали навзрыд!
И, дым выпуская клубами,
Машины пошли вдоль колей,
Навстречу судьбам увлекая
Толпы безответных людей...
«Новый год! Мой путь – полями...»
Новый год! Мой путь – полями,
Лесом, степью снеговой;
Хлопья, крупными звездами,
Сыплет небо в мрак ночной.
Шапку, плечи опушает,
Смотришь крепче и сильней!
Все как будто вырастает
В белом саване полей...
В приснопамятные годы
Не такой еще зимой
Русь спускала недороды
С оснеженных плеч долой.
Отливала зеленями,
Шла громадой на покос!
Ну, ямщик, тряхни вожжами,
Знаешь: малость день подрос!
Сны
В деревне под столицею
Драгунский полк стоит,
Кипят котлы, ржут лошади,
И генерал кричит...
Качая коромыслами,
Веселою толпой,
Приходят утром девушки
К колодцу за водой.
Пестры одежды легкие,
Бойка, развязна речь;
Подвязаны передники
Почти у самых плеч.
Как будто в древней древности,
Идя на грязный двор,
Так подвязали бабушки —
Так носят до сих пор.
Живые глазки заспаны,
Измяты ленты кос,
Пылают щеки плотные
Огнем последних грез.
И видно, как, незримые,
Под шепот тишины,
Ласкали, целовали их
Полуночные сны;
Как эти сны оставили,
Сбежавши впопыхах,
На пальцах кольца медные
И фабру на щеках!
«Улыбнулась как будто природа...»
Улыбнулась как будто природа,
Миновал Спиридон-поворот,
И, на смену отжившего года,
Народилось дитя – Новый год!
Вьются кудри! Повязка над ними
Светит в ночь Вифлеемской звездой!
Спит земля под снегами немыми —
Но поют небеса над землей.
Скоро, скоро придет пробужденье
Вод подземных и царства корней,
Сгинет святочных дней наважденье
В блеске вешних, ликующих дней;
Глянут реки, озера и море,
Что зимою глядеть не могли,
И стократ зазвучит на просторе
Песнь небесная в песнях земли.
Из цикла «Загробные песни»
«В час смерти я имел немало превращений...»
В час смерти я имел немало превращений...
В последних проблесках горевшего ума
Скользило множество таинственных видений
Без связи между них... Как некая тесьма,
Одни вослед другим, являлись дни былые,
И нагнетали ум мои деянья злые;
Раскаивался я и в том, и в этом дне!
Как бы чистилище работало во мне?
С невыразимою словами быстротою
Я исповедовал себя перед собою,
Ловил, подыскивал хоть искорки добра,
Но все не умирал! Я слышал: «Не nopa!»
«Я помню, было так: как факел евменид...»
По словам Блаженного Августина (Dеcivit. Dei, lib. 20, сар. 14), на Страшном суде «каждому придут на память все дела его, добрые или худые, и ум с чудной скоростью увидит их». То же и Василий Великий в толковании Исайи.
Я помню, было так: как факел евменид
Когда-то освещал утробы бездны темной,
В виденьях мне предстал ужасный, грозный вид,
Вид бездны чуемой, пугающей, огромной!
В ней были все мои нечестные дела;
Преступность дней былых вся в лицах проступала,
И бездна страшная тех лиц полна была,
А мощность факела насквозь их пронизала!
Ничто, о да! ничто не укрывалось в ней
От света красного назойливости гневной...
Какая мощность зла! какие тьмы теней —
След жизни мелочной, обычной, повседневной!
Как это мыслимо, как это быть могло,
Чтоб малая душа так много зла вмещала?
Ничто ее в миру к ответу не влекло,
Ни в чем людской закон она не нарушала!
Но нет! Вот, вот он въявь, весь стыд прошедших дней!
Свет озарял его спокойно, безучастно;
Десятки, тысячи, нет, тьмы от тем очей
Глядели на меня пронзительно и властно!
О, как хотелось мне хоть что-нибудь сокрыть,
Исчезнуть самому! Все жгучие мученья
Болезни, мнилось мне, явились облегчить,
Весь ужас первого предгробного виденья!
Казались мелочи громадно-велики;
Размеров и пространств утратил я сознанье,
И чудо-женщина вдоль пламенной реки,
Смеясь, плыла ко мне на страстное свиданье!..
И в облике ее соединял мой мозг
Все лики женские, мне милые когда-то...
Вдруг берег тронулся и тает, будто воск...
И я в реке... я в ней... сгинь! наше место свято!
«Скорей меняйте лед!»– я слышу, говорят.
«Где лед, сестра? давно ль возобновили?
Больной в огне! какой безумный взгляд!
А ноги! словно лед! совсем, совсем остыли!»
Хочу я отвечать, но сил нет, не могу!
Родные вкруг меня! зачем они рыдают?
А вот цветущий луг, и я по нем бегу...
Цветы – то призраки... головками кивают...
«Дочь приехала. Слышу – ввели...»
Дочь приехала. Слышу – ввели...
Вот подходит ко мне, зарыдала;
Поклонилась, так кажется, мне до земли,
Крепко руки мои целовала!
Сколько сил было силы собрать,
Собрал я и глаза открываю...
Только милое личико трудно узнать...
Память сбилась, а все же ласкаю!
Ты несчастной была, моя дочь;
Я виновен, бессовестный, в этом...
Вдруг объяла меня темно-синяя ночь...
Иль пришла она с добрым советом!
Голубому цветку на степи не расти,
Ты, голубушка-дочь, ты забудь, ты прости...
Звучно склянки стучат...
Знаю я, в склянках яд...
Ты цветок голубой...
Что поник головой?..
Распрямись и расти,
Дай мне сон обрести...
Ты слыхала ль: есть рай...
Дай надеяться, дай...
«Я лежал и бессилен, и нем. Что со мной...»
Я лежал и бессилен, и нем. Что со мной
Медицина творила, – не знаю!..
Но одну из картин толчеи мозговой
Я и здесь иногда вспоминаю.
Вся земля умерла! с резким хрустом в костях
Смерть в венце надо мною носилась,
И под ней расстилался один только прах...
Смерть металась, вопила и билась.
Выходила из впадин очей ее мгла,
И в меня эта мгла проникала;
Свисли челюсти Смерти, ослабла скула...
Обезумела Смерть! Голодала!
Жизни не было вовсе нигде, никакой,
Чем питаться ей было бы надо,
Ни травы, ни воды, ни певцов под листвой,
Ни ползущего в темени гада.
Все пожрала! Молчанье везде разлеглось!
Проявлялось одно тяготенье,
И я слышал, как службою скрытых колес
Совершалось в пространствах движенье...
Зажигался восток и опять погасал,
Как и в сонмах веков опочивших,
Облик Смерти один лишь, вопя, потрясал
Купы звезд, никому не светивших.
Вдруг почуяла Смерть раздраженным чутьем,
Слух склонила и очи вперила:
Будто где-то в степи захудалым ростком
Травка малая в жизнь проступила.
Эта травка был я! Распрямясь в полный рост,
На меня Смерть метнулась с размаха,
Чтоб хоть малость нарушить великий свой пост...
Нет меня! Ничего, кроме праха!.
Смерть отпрянула к звездам! своим костяком,
Словно тенью, узор их застлала
И, упавши на землю в ущельи глухом,
Обезумела Смерть... Голодала!
Видит Смерть... вижу я мутным взором своим,
Будто облик земли копошится;
Не туманная мгла, не синеющий дым,
Прах вздымается... начал слоиться!
Вижу я... Видит Смерть – возникают тела...
Люди! Люди! Давно не видала!
Прежде в трапезе сытной ей воля была,
И она без конца пировала!
Сонм слагавшихся двигался к ней напрямик:
Старцы, юноши, дети и жены.
«Bce вы, все вы мои! ты, ближайший старик,
Раньше всех! Сколько вас? миллионы!..»
Возникали из воздуха, шли из земли,
Ими сонная вечность дохнула;
Прах проснулся! мятется вблизи и вдали
В рокотаньи подземного гула.
И накинулась Смерть на ближайшего к ней,
На меня! Плоти нет! Привиденье!
Только краски и свет, только лики людей...
Трубный глас... Началось Воскресенье...
«В трубном звуке родные звучат голоса...»
В трубном звуке родные звучат голоса...
Звуки склянок... Я вижу движенье...
Ясно вижу родных; от окна полоса
Света солнца дает освещенье...
Мне легко, хорошо! Знать, в себя я пришел?
Память действует; мысли так ясны;
Боли нет; я взглянул и глазами обвел:
Как все люди добры и прекрасны!
О! как жить хорошо; о! как радостен свет
И как дорого в людях вниманье...
Умирать не хочу я так рано, о нет!
Слышу: «Где же его завещанье?»
Кто сказал? Я не знаю, но голос знаком!
Ах, зачем это слово сказали?
Я не умер еще, не разрушен мой дом,
Доктора воскресить обещали!
Да, да, да. – И опять надвигается тьма,
Облик смерти ко мне приступает...
Ум мой гаснет... но действуют клочья ума:
Просветленье пред смертью бывает...
«Как? Опять Страшный суд! Мне вослед, по пятам...»
Как? Опять Страшный суд! мне вослед, по пятам!
Но ведь это совсем невозможно!
Я в земле не лежал на поживу червям?
Это страшно, ужасно, безбожно...
А воскресшие шли от начальных начал,
От конечных концов приходили:
Громкий благовест в небе пылавшем звучал,
Солнца пели и звезды звонили!
И не видел я вовсе страдальческих лиц,
Что, бывало, в гробах поражали:
Все в молитвенном шествии падали ниц!
И, поднявшись, на небо взирали.
Грохот слышался всюду от глыб земляных,
Что валились в пустые могилы;
Треск от царских гробниц, в разрушении их
Повеленьем неведомой силы...
Разрушалась и Смерть. В ней погасла алчба,
Слух погас, затуманилось зренье,
Постигала ее каждой жизни судьба —
Прикоснулось всесильное тленье!
Проходили вблизи ее сонмы людей,
Шел и я, все мы вдаль уходили...
боль затихла в груди... Прежде было больней...
Но зачем вы глаза мне закрыли?
Ведь я вижу сквозь медь... Слышу говор людской...
Что-то жгучее дали мне! жгите!!!
А я все-таки буду опять сам собой...
Да! Я выпорхну! Ну-ка! Ловите!
«Умер я! Есть ощущения...»
Умер я! Есть ощущения:
Не понять их, не познав
Новость первого мгновения!
Я окреп, нетленным став...
Ночь!.. Вдали земля туманная,
Мать всех в мире матерей,
Мне в былом обетованная
И очаг души моей!
Полуночница усталая,
Без меня несешься ты,
Вся больная, захудалая,
В стогнах вечной немоты...
А путям твоим и следу нет!
Ho, кому бессмертным стать,
На тебе родиться следует,
На тебе и умирать!
Умер я... Там, в темной темени,
Ты мелькаешь огоньком...
Там есть смерть! Там царство времени!
Там родные мне, мой дом!
Уносись же, горе-странница,
Как корабль среди зыбей,
В мириадах звезд избранница
И очаг души моей.
Я отпетый, я отчитанный,
Молча вслед тебе смотрю,
И в трудах, в скорбях воспитанный,
Смерть пройдя, – благодарю...
«Чуть мерцает на гроб мой сияние дня...»
Чуть мерцает на гроб мой сияние дня;
Чтец мне слышится от аналоя...
Не любите меня, не жалейте меня,
Потому что хочу вам покоя!
Не любите меня, потому что, узнав,
Как мне душу мою истерзали
Пыткой жгучею смерти, – ее увидав,
Вы бы сами безмерно страдали!
Не желайте меня возвращать, потому,
Что я снова пойду на мученья,
В истязаньях совсем непонятных уму!
Не хочу, не хочу повторенья!
От останков моих отойти я бы мог...
Только жаль их! Я с ними сроднился...
На груди моей старый лежит образок,
На него я от детства молился!
Вот и близкие мне! Не жалейте меня...
Не читайте Псалтыри: пугает!
В ней и скрежет зубовный, и муки огня,
И так страшно господь проклинает!
Вот и бабушка плачет при гробе моем!
Ты не плачь! Я свободнее птички;
Образумься! Взгляни! Ты помятым чепцом
Чуть прикрыла седые косички...
А я знаю, ты любишь опрятность чепца!..
Полдень! много цветов притащили;
Я цветы так любил! Их кладут вкруг лица...
Руки, плечи – всего обложили...
Некрасив!! Вон жена, на коленях стоит
Под свечей! Воск свечи оплывает;
Видишь – каплет, он флер на тебе запятнит...
К панихиде народ прибывает...
Говор, толки, злословье! Нет, лучше отбыть...
Ложь, притворство, позор, наважденье!
Мерно служба идет; начинают кадить...
Заволокся я дымом кажденья!





