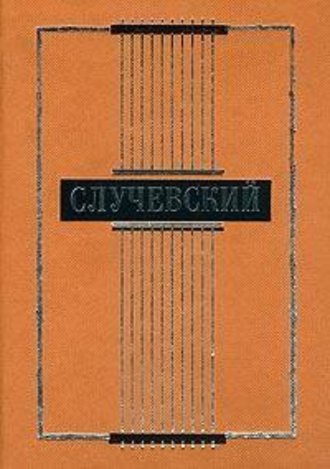
Константин Случевский
Полное собрание стихотворений
«И я предстал сюда, весь полн непониманья...»
И я предстал сюда, весь полн непониманья...
Дитя беспомощное... чуть глаза открыв,
Я долго трепетал в неясности сознанья
Того, что я живу, что я иначе жив.
Меня от детских лет так лживо вразумляли
О смерти, о душе, что будет. с ней потом;
При мне так искренно на кладбищах рыдали,
В могилы унося почивших вечным сном;
Все пенья всех церквей полны такой печали,
Так ярко занесен в сердца людей скелет, —
Что с самых ранних дней сомненья возникали:
Что, если плачут так, – загробной жизни нет?!
Нет! надо иначе учить от колыбели...
Долой весь темный груз туманов с головы...
Нет, надобно, чтоб мы совсем светло глядели
И шествовали в смерть, как за звездой волхвы!
Тогда бы верили мы все и безгранично,
Что смерть – желанная! что алые уста
Нас зацеловывают каждого, всех, лично, —
И тайна вечности спокойна и проста!
Стихотворения, не вошедшие в циклы
Рецепт Мефистофеля
Я яд дурмана напущу
В сердца людей, пускай их точит!
В пеньку веревки мысль вмещу
Для тех, кто вешаться захочет!
Под шум веселья и пиров,
Под звон бокалов, треск литавров
Я в сфере чувства и умов
Вновь воскрешу ихтиозавров!
У передохнувших химер
Займу образчики творенья,
Каких-то новых, диких вер
Непочатого откровенья!
Смешаю я по бытию
Смрад тленья с жаждой идеала;
В умы безумья рассую,
Дав заключенье до начала!
Сведу, помолвлю, породню
Окаменелость и идею,
И праздник смерти учиню,
Включив его в Четьи-Минею.
Быть ли песне?
Какая дерзкая нелепость
Сказать, что будто бы наш стих,
Утратив музыку и крепость,
Совсем беспомощно затих!
Конечно, пушкинской весною
Вторично внукам, нам, не жить:
Она прошла своей чредою
И вспять ее не возвратить.
Есть весны в людях, зимы глянут
И скучной осени дожди,
Придут морозы, бури грянут,
Ждет много горя впереди...
Мы будем петь их проявленья
И вторить всем проклятьям их;
Их завыванья, их мученья
Взломают вглубь красивый стих...
Переживая злые годы
Всех извращений красоты —
Наш стих, как смысл людской природы,
Обезобразишься и ты;
Ударясь в стоны и рыданья,
Путем томления пройдешь.
Минуешь много лет страданья —
И наконец весну найдешь!
То будет время наших внуков,
Иной властитель дум придет...
Отселе слышу новых звуков
Еще не явленный полет.
«Перед большим успокоеньем...»
Перед большим успокоеньем,
Когда умру я, но не весь,
Покой тот с истым наслажденьем
Мной предвкушается и здесь.
Покой в отсутствии желаний,
В признаньи мощности судьбы,
Покой вне дерзостных исканий,
Вне всяких странствий и борьбы!
Бой кончен! Поднято забрало!
Чего здесь в жизни ожидать?!
Какое дивное начало
Тому, что может мне предстать!
Да, радость смерти предвкушая,
Мой ум спокойный не дерзнет
Куда-то вновь пойти мечтая,
Куда-то вновь смотреть вперед.
Но я боюсь еще, что можно
Вернуться нежданно назад,
Когда и дерзко и безбожно
Зажжет мне душу женский взгляд!
Покров покоя я откину
И, словно эллин древних дней,
Бесстыдно оправдаю Фрину,
Чуть только выйдет из зыбей.
«Зыбь успокоенного моря...»
Зыбь успокоенного моря
Идет по памяти моей...
Я стар. И радостей и горя
Я вызвал много у людей.
Я вызывал их, но невольно,
Я их не мог не вызывать...
Ведь и земле, быть может, больно
Пространства неба рассекать!
А все же двигаться ей надо...
Мы тоже движемся, летим!
В нас зло смеются силы ада
И горько плачет херувим.
И только изредка мы властны,
Случайно, правда, не всегда,
Бывать к судьбам людей причастны,
Как у машины провода.
Вот так и я! Болев душою
Над горем брата своего,
Я хлеба не давал порою,
Но я не отравлял его!
Я мог бы быть гораздо хуже,
Служа судьбе проводником...
Все знают: вслед великой стуже
Морозец кажется теплом!
Он не несет окочененья,
Он может даже согревать,
И для весеннего цветенья
Стволы и почки сохранять.
Да! Много сеял я несчастья!
Но я далеко не из тех,
Кто любит зло из любострастья,
В ком воплощен и ходит грех!
В роще
Слушай, сосна! Расскажи мне былину!
Я уловлю ее в шуме ветвей!
Про заколдованный лес, про долину
Сказочных битв, всех древнейших древней!
Правда ли, будто здесь прежде живали
Люди забытые, сродные нам;
Все, даже имя свое, потеряли
И отошли к завершившимся снам?
Так же, как мы, знали злобу и горе,
Были свободны в ограде тюрьмы;
Нежность, любовь зажигались в их взоре,
И умирали они так, как мы?
Правда ль, что в некое время, когда-то
Жил тут неведомый волхв иль друид;
Сердце его было страстью объято,
Жрицу любил, был любим и убит?
Правда ль, что в память того преступленья
Был тут воздвигнут большой мавзолей,
Синее море несло песнопенья
К камням подножья с волнами зыбей?
Море теперь так далеко сбежало;
Край, прежде людный, совсем позабыт!
Памяти память – и ту посвевало
Время... свевает и дальше бежит.
Вижу: сосна головою кивает —
Будто бы: да!– говорит мне в ответ.
Эту былину от прадедов знает,
Слышала, чуть появилась на свет!
Правда ли, дальше сосну вопрошаю,
Будто бы вслед нам, чуть срок подойдет,
Море прильет к опустелому краю,
Новая жизнь на песках зацветет?
Новые сосны взрастут между вами,
Новые люди вослед нам придут,
И, обвеваемы новыми снами,
Тот же печальный вопрос зададут?
Будут опять увлекаться любовью!..
Ненависть, злоба, позор и печаль
Им, нас сменившим, покажутся новью;
Новая будет заманивать даль.
Будут они и мечтать и молиться,
Верить в исход из тяжелой тюрьмы,
Будут не ведать того, что случится,
И ошибутся во всем, как и мы?
Нет мне ответа! Но вижу я ясно:
Буря подходит, глубоко-темна...
Низко спускается! Изжелта-красно
В недрах той бури злорадной до дна!
Вьются пески и закудрились шквалы,
Взвизгнули вихри из облачной мглы...
Дрогнули сосны! Велики и малы
Вкруг закачалися все их стволы!
Тьма громоносная тень обложила!
Воздухом душным дышать тяжело!!
Первая молния тьму озарила!..
Буря, раскрыв огневое чело,
Шла под раскатами мощного грома,
В диком величьи кругом грохоча,
Сонмом теней и огнями влекома,
Все, ею сбитое, следом влача!
Видел я смутно, как сосны валились!
Думалось мне: гибель им оттого,
Что к человеческой мысли склонились
В поисках тайн бытия своего!
Что не затем им даны сердцевины,
Чтобы им нашим сердцам подражать;
Могут, пожалуй, шептать их вершины —
Только не смеют со смыслом шептать!
И смертоносная буря промчалась,
Стало кругом будто утром светать...
Роща кругом буреломом валялась!
Нет! ей былины своей не сказать!
«И холодной волной по железным бортам...»
И холодной волной по железным бортам
Разбивается зыбь океана!
Только в меру ль ему и его глубинам
Сердца бедного жгучая рана?!
Нет! Плывет по тебе не живой богатырь,
Чтоб прославить красу боевую
Нет! Останки везут, и темна твоя ширь
И баюкает мощь не живую!
Что мне в том, что я мал и что мир так велик,
И что я побежденным остался!
Все ж я соколом был, к поднебесью привык
И к нему сколько мог порывался.
Да, я мал! Да, я слаб! Но велик был любить
И велик неисходной тоскою...
И тебе, океан, той тоски не покрыть
Всею черной твоей глубиною!
«Она – растенье водяное...»
Она – растенье водяное
И корни быстрые дает
И населяет голубое,
Ей дорогое царство вод!
Я – кактус! Я с трудом великим
Даю порою корешок,
Я неуклюж и с видом диким
Колол и жег что только мог.
Не шутка ли судьбы пустая?
Судьба, смеясь, сближает нас.
Я – сын песков, ты – водяная.
Тс! тише! то видений час!
«Снежною степью лежала душа одинокая...»
Снежною степью лежала душа одинокая,
Только порою заря в ней румянец рождала,
Только безмолвная лунная ночь синеокая
Отблеском жизни безмолвную степь наводняла!
Чует земля: степь в угрюмом молчании мается.
Дай-ка, подумала, тихо дохну я туманами...
Доброю стала земля! Ось к весне наклоняется,
Степь обнажилась и вся расцветилась тюльпанами!
Так ли, не так, наяву иль во сне быстротающем,
В сказке, не в сказке, но некою злой ворожбою
Ты наклонилась ко мне своим взглядом блистающим...
Дрогнула степь, я цвету, я алею тобою...
«Налетела ты бурею в дебри души...»
Налетела ты бурею в дебри души!
В ней давно уж свершились обвалы,
И скопились на дне валуны, катыши
И разбитые вдребезги скалы!
И раздался в расщелинах трепетный гул!
Клики радостей, вещие стоны...
В ней проснулся как будто бы мертвый аул,
Все в нем спавшие девы и жены!
И гарцуют на кровных конях старики,
Тени мертвые бывших атлетов,
Раздается призыв, и сверкают клинки,
И играют курки пистолетов.
Риму
Далека ты от нас, недвижима,
Боевая история Рима;
Но над повестью многих страниц
Даже мы преклоняемся ниц!
А теперь в славном Риме французы
Наложили тяжелые узы,
И потомок квиритов молчит
И с терпением сносит свой стыд!..
[1857-1860]
«Скажи мне, зачем ты так смотришь...»
Скажи мне, зачем ты так смотришь
Такими большими глазами,
Скажи мне, зачем ты так плачешь
И грудь надрываешь слезами?
Ты можешь рыдать сколько хочешь,
И слез ведь надолго достанет,
Любовь проходящее чувство,
Потешит, помучит, обманет,
Зачем утешаться мечтою?
Не лучше ль рассудку поверить
И то, что так бедно и мало,
Огромною мерой не мерить?
Теперь мы друг друга так любим
И счастливы очень, так что же?
Мне каждый твой взгляд, каждый волос
Всех благ, всех сокровищ дороже.
Дороже! но, может быть, завтра
На новую грудь припаду я,
И в том же, и так же покаюсь
Под праздничный звук поцелуя.
[1857-1860]
Мои желанья
Что за вопросы такие? Открыть тебе мысли и чувства!..
Мысли мои незаконны, желания странны и дики,
А в разговорах пустых только без толку жизнь
выдыхаешь.
Право, пора дорожить и собой и своим убежденьем, —
Ум прошутить, оборвать, перемять свои чувства нетрудно.
Мало ли, как я мечтаю, и многого в жизни хочу я!..
Прежде всего мне для счастья сыскать себе женщину
надо.
Женщина вся в нежном сердце и в мягкости линий,
Женщина вся в чистоте, в непорочности чувства;
Мне не философа, мне не красавицу нужно; мне нужны
Ясные очи, коса до колен и подчас поцелуи.
С этакой женщиной труд будет легче и радость полнее.
Я бы хотел отыскать себе близких по цели и сердцу,
Честных людей, прозревающих жизнь светлым оком
рассудка.
С ними сходясь, в откровенных беседах часы коротая,
Мог бы я силы свои упражнять, проверять свои мысли.
Словом живым заменил бы я мертвые речи печати;
Голос из книги – не то, что живой, вызывающий голос.
Я бы хотел, взявши в руки свой посох, спокойно пуститься
Тем же путем, по которому шло человечество в жизни.
С Желтой реки до священных лесов светлоструйного
Ганга,
С жарких пустынь, где в конических надписях камни
пестреют,
Шел бы я рядом развалин столиц азиатских народов;
Снес свой поклон пирамидам и гордо-задумчивым
сфинксам.
В рощах Эллады, на мраморных плитах колонн
Парфенона
Мог бы я сесть отдохнуть, подошедши к Эгейскому морю,
Прежде чем следовать берегом моря за ходом народов,
Прежде чем сжиться с историей Рима и с жизнью
Европы.
Я бы хотел, обратившись на время в печатную книгу,
В книгу хорошую, полную силы и смысла живого,
Слиться с народом; себя позабыв, утонуть в нем,
стереться,
Слушать удары тяжелого пульса общественной жизни,
Видеть во всей наготе убеждения каст и сословий;
Выведать нужды одних, утешать их во время движенья,
..............................................
Стать на виду у других........................
Я бы хотел, проходя по широкой, бушующей жизни,
Сердцем ответить на все, пережить все, что можно,
на свете,
Всем насладиться душою, и злом и добром человека,
Светлым твореньем искусства, и даже самим
преступленьем,
Ежели только оно не противно той истине светлой,
Смыслу которой законы и люди так часто враждебны.
Я бы хотел, умирая, весь скарб своих сил и познаний,
Весь передать существу молодому, богатому жизнью;
Пусть бы он начал с того, чем я кончил свой труд
и печали,
Пусть бы и он и преемник его умирали для внуков
С чистою совестью, светлою мыслью и полным
сознаньем.
Я бы хотел после смерти, свободен, бесстрастен и вечен,
Сделаться зрителем будущих лиц и грядущих событий;
Чувствовать – мыслью, недвижно дремать в созерцаньи
глубоком,
Но не ворочаться к жизни, к ее мелочной обстановке
Из уваженья к себе и к ошибкам прошедшего века!
[1857-1860]
Он не любил еще
Он не любил еще. В надежде благодати
Он шел по жизни не спеша,
И в нем дремала сладким сном дитяти
Невозмущенная душа.
Еще пока никто своим нескромным оком
Его мечты не подстерег,
Еще он сам в служении высоком
Своей лампады не зажег.
И как зато хорош, и как далек сомненья
Его неведенья покой!
Он жаждет слов, он чутко ждет движенья
И блещет жизнью молодой.
Он незнаком страстям... Так статуя Мемнона,
Молчанье строгое храня,
Сидит, чернея в звездах небосклона,
И жадно ждет прихода дня.
Обильная роса холодной ночи юга
Живою свежестью кропит,
С заботой нежною ласкающего друга,
Спокойно стынущий гранит.
Но только первый луч падет ему на плечи,
Дымясь, зажжется степь вокруг, —
Немой Мемнон, на ласку светлой встречи,
Издаст живой и полный звук.
[1857-1860]
Запевка
Ох! ударь ты, светлый мой топор!
Ох! проснись ты, темный, темный бор,
Чтобы знали, что идет работа горячо,
Разминается могучее плечо.
Ты ль рука людская не сильна!
Застонали, плачут ель, сосна...
Понастроим мы высоких теремов,
Лодок, бочек, колыбелей и гробов.
Повалились сосенка да ель!
Им мягка родных ветвей постель...
Уж с чего начнем мы строиться, с чего?
Вы скажите, братцы, что нужней всего?
[1870-1880]
Зимний пейзаж
Да, удивительные, право, шутки света
Есть в пейзаже зимнем, нам родном!
Так иногда равнина, пеленой снегов одета,
Богато зарумяненная солнечным лучом,
Какой-то старческою свежестью сияет.
Речонка быстрая, что по равнине протекает
И, кольцами, изгибами крутясь,
Глубокою зимой не замерзает, —
Вступает с небом в цветовую связь!
Небес зеленых яркая окраска
Ее совсем невероятно зеленит;
По снегу белому она, зеленая, бежит,
Зеленая, как изумруд, как ряска...
И так и кажется тогда, что перед нами
Земля и небо шутят, краски обменяв:
Сияет небо, свой румянец снегу передав,
Цвет зелени полей – он принят небесами,
И, как бы в память прошлого, как след следа,
Бежит по снегу белому зеленая вода.
О! если б можно было вам, равнины неба,
Приняв к себя все краски лета и весны,
Взять наши горести, сомненья, нужду хлеба —
Отдав взамен немного вашей тишины
И вашего покоя... нам они нужны!
[1870-1880]
Богиня тоски
Своей спокойною вечернею волною
К моим ногам ласкается река,
И, мнится мне, богиней над водою
Ко мне из волн является Тоска...
В ее очах, и ласковых и скромных,
Нет светлых звезд, нет яркого огня,
И слышу я: «Я доля душ бездомных,
Богиня всех увидевших меня!
Люблю тебя! Ведь ты со мной сроднился;
Кто ж из людей остался мне чужим?
Богиня я! Кто предо мной склонился,
Тому нельзя склониться прел другим.
Я всех веду различными путями;
У всех людей я та же, да не та!
Властна дарить особыми страстями,
Я тоже мощь, я тоже красота!
Я не ищу других богинь величья,
И мне чужда их гордая семья,
Мне не дано особого обличья,
Не дождалась особых храмов я!
Совсем не так, как у другой богини,
Моей сестры, родившейся в волнах,
С огнем страстей, не знающих святыни,
И с поволокой в млеющих глазах,
Но я не меньше, чем она, красива,
Умею я ласкать и обнимать,
Я не хитра, я вовсе не спесива
И, как волна, способна указать!
Твоя всегда без лжи и без сомненья,
Тебе везде, и в день, и в ночь, верна.
Твои, твои мне любы вожделенья!..
Да, я тебе богиня и жена!
Возьми меня, возьми на все лобзанья,
Я так прекрасна в складках темноты,
Я научу любить свои страданья,
Умчусь с тобой в живых путях мечты!
Люби меня и поклонись богине!
Все боги, все, поблекли и прошли,
А я живу и властвую поныне,
Я – самоцвет, я – адамант земли!
Возьми меня! возьми меня скорее!
Во мне очаг особенных страстей!
Не ведал мир, кто б был меня сильнее,
И смерть отрадна на груди моей...
Спускаю я над ними покрывало...
Я льну к тебе просящею волной!
Лишь потому, что ночь опять настала,
Венчаюсь я, мой избранный, с тобой!
Нам – смерть зари, нам – ночи нарожден
Нам – тихих кладбищ бледные огни,
Нам – привидений смутное хожденье,
Нам – в тьме ночной светящиеся пни...
Ты не дерзаешь? Ну, так я дерзаю!
К тебе сама на ложе нисхожу,
Тебя беру я, грею и ласкаю...
О, ты узнаешь, как я извожу!..»
Цыганка
Потрясая бубенцами,
Позументами блестя,
Ты танцуешь перед нами,
Степи вольное дитя!
Грудь – подвижна, плечи – живы!
Взгляды жгучих, черных глаз —
Это дерзкие призывы
К страсти каждого из нас...
Но под пологом палатки,
В сокровенный час ночной,
Кто ж отважится на схватки
С непокорною тобой?
Знаю кто! Вот там в сторонке,
Руку сунув за кафтан,
Смотрит вслед красивой женке
Темно-бронзовый цыган.
Этот... Он отдернет полог
Мускулистою рукой...
Будет сон ваш тих и долог
Под палаткою родной...
Как смеешься ты над нами,
Степи вольное дитя,
Потрясая бубенцами,
Позументами блестя!
«Смотрит тучка в вешний лед...»
Смотрит тучка в вешний лед,
Лед ее сиянье пьет.
Тает тучка в небесах,
Тает льдина на волнах.
Облик, тающий вдвойне,
И на небе и в волне, —
Это я и это ты,
Оба – таянье мечты.
«Упала молния в ручей...»
Упала молния в ручей.
Вода не стала горячей.
А что ручей до дна пронзен,
Сквозь шелест cтpyй не слышит он.
Зато и молнии струя,
Упав, лишилась бытия.
Другого не было пути...
И я прощу, и ты прости.
«Ты поклянись, – она его просила...»
«Ты поклянись, – она его просила, —
И верен будь тому, что изречешь,
Что этой песни – в ней большая сила —
Ты никому, как мне, не запоешь.
Не запоешь, когда ко мне на смену
Придет другая с новой красотой,
И я утрачу прелести и цену
Перед твоей окованной мечтой.
Другие песни пой, коль запоются,
Кому, и где, и как – мне вс равно.
Но .лишь бы этой песне вновь проснуться
И повториться не было дано.
С меня писал ты, я тебя ласкала,
Я, я низала нити чудных снов,
Я с нею вместе чувством трепетала...
Спускала с плеч последний свой покров.
Та песнь моя! вся, вся без исключенья...»
Он клятву дал... и наконец запел,
Когда в час смерти, в облике виденья
Ее он вновь пришедшую узрел.
Лезгин
Свершивши раннюю молитву,
Пока проснется генерал,
Старик-лезгин кряхтит и чистит
Полуаршинный свой кинжал!
На лезвии, в сияньи солнца,
В наседках букв – Корана стих;
Старик как будто видит что-то
В клинке, сквозь пальцы рук своих...
Из-под папах в кустах – винтовки
По русским целятся войскам...
Вон дымки выстрелов, вон пушки,
Вон генералы, вон – имам!..
Дымится дуло пистолета,
Лезгин сует его в кабур,
Глядит: на этот раз удача —
Упал и корчится гяур...
Спешат в аул... Победа, радость!
Там блеск чарующих очей,
Там – вин холодные кувшины,
Там песни старых узденей...
Кинжал дрожит... Другие виды...
И длинный ряд живых картин...
Перед лицом воспоминаний
Расхорохорился лезгин!
Забыл, что больше нет Кавказа,
Нет тех времен, нет тех людей!
Явились в жизнь ключи Боржома;
Есть нефть, но нет жрецов огней!
Клокочет жизнь неудержимо,
Бушует сердце старика...
Но вдруг – звонок, – мечты исчезли
От генеральского звонка!
Кинжал в ножнах. Собравши платье,
Лезгин торопится служить
И к генеральской папироске
Подносит спичку закурить!
Раут
И раут был блестящ! Вся зала
Сияла множеством огней...
Владыкам бирж и капитала
И представителям властей —
Повсюду лживые приветы,
Пожатья рук, любезность слов,
Недобрых взглядов рикошеты,
И блеск эмалей орденов...
А с женских плеч в лучах пылали,
Стремясь былое наверстать,
Алмазы, что в земле лежали
И утомились света ждать...
Казалось мне – певцов эстрада,
В цветах и искрах хрусталя,
Плыла, как некая громада,
Как яркий призрак корабля!
И к этим людям всякой власти,
Будя их мысли и сердца,
Сквозь листья пальм, как бы сквозь
снасти,
Благовестила песнь певца.
Звучит мечтательная лира,
С ней заодно звучат слова,
И блещет свет иного мира
Сквозь их живые кружева.
О! Сколько было тут химеры,
Как он кичился – нищ и наг, —
Как перерос свои размеры
Пустых людей ареопаг.
А пестун вечного значенья,
Глашатай чувства всех времен,
Певец, – ведь он для развлеченья
За деньги петь здесь приглашен!
Они ему рукоплескали,
И титулованный мирок
Сплеча оценивал скрижали,
Которых и прочесть не мог...
Тут вечное ничтожным стало,
Атланта с ног сшибал пигмей...
Корабль! Корабль! Отдай причала
И уплывай – скорей, скорей...
В аббатстве Сен-Дени
А! Вот он наконец, дворец успокоенья,
Хранитель царственных могил,
Где под двойной броней гранита и сомненья
Лежат без прав и даже без движенья
Властители народных сил.
Какая высота! Крепки и остры своды,
Под ними страшно простоять,
И если из гробов в короткий час свободы
Встают покойники на призывы природы
И тянутся, – им есть где погулять.
И сыро и свежо. Темны углы собора,
По ним и чернь годов, и копоть залегла,
А в куполе вверху, свободны от надзора,
Сошлись на долгий спор, на подпись приговор
И шепчутся прошедшие дела.
За перспективою мельчая, умаляясь,
Стоят ряды готических столбов;
В цветные стекла радугой врываясь,
Свет вечера играет, расстилаясь
Дорожками узорчатых ковров.
Одеты мрамором, в чехлах, под вензелями,
Гробницы королей прижались к алтарю,
Лампады теплятся спокойными огнями,
Храм населяется вечерними тенями,
И сонный день приветствует зарю.
Что, если бы теперь, по воле провиденья,
Из-под гранита проросли
Прошедшие дела, как странные растенья,
И распустили бы во имя сожаленья
Свои завитые стебли?
Что, если бы теперь каменья засквозили
Зевнули рты готических гробниц,
И мертвецов коронных обнажили,
И тихим светом осветили
Черты, как смысл, отживших лиц?
Вы жили, короли, вас Франция питала,
Чудовищная мать чудовищным сосцом,
Веками тужилась, все силы надрывала,
От вас отплаты, службы ожидала —
Вы отплатили каждый мертвецом.
Скажите, короли: под мехом багряницы
Пришлось ли вам хоть раз когда-нибудь
На площади взволнованной столицы
Средь торжества, с парадной колесницы
По-человечески вздохнуть?
Пришлось ли вам хоть в шутку усомниться
В себе самом, смотря на пышный двор,
Могли ли вы слезой не прослезиться,
Могли ли сердцу не позволить биться,
Когда рука черкала приговор?
Был светлый день, – оков перегоревших
Народ не снес, о камни перебил
И трупы королей своих окоченевших,
В парчах и в золоте истлевших,
Зубами выгрыз из могил.
Был мрачный день, – народ остановили,
Сорвали шапки с бешеных голов,
Систематически и мерно придушили,
А трупы королей собрали и сложили
В большую кучу в склеп отцов.
И я бы мог, спустившись в склеп холодный,
Порыться в куче тех костей
И брать горстями прах негодный,
Как пыль дорог, как пыль дорог – свободнный,
Давно отживших королей.
И в этой-то пыли, и в этом сером прахе
Смешав Людовиков с Францисками в одно,
Лежат династии в молчании и страхе
Под вечным топором, на бесконечной плахе,
И безнадежно и давно.
И всякий рвет и рубит то, что хочет,
Своим ножом от королевских тел;
Король-мертвец в ответ не забормочет,
Когда потомок громко захохочет
Над пустотой происшедших дел.
Темно. Очерчены неясными чертами,
Белеют остовы готических гробниц,
Лампады теплятся спокойными огнями,
А у меня скользят перед глазами
Немые образы без лиц...





