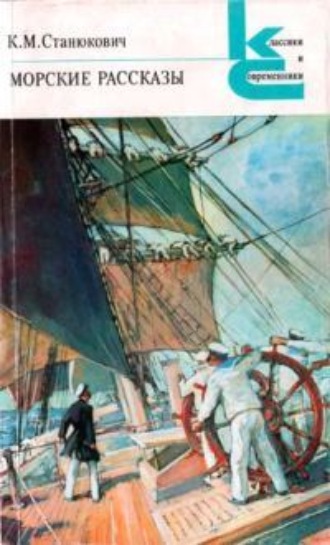
Константин Станюкович
Васька
I
В числе разной живности – трех быков, нескольких баранов, гусей, уток и кур, – привезенной одним жарким ноябрьским днем с берега на русский военный клипер «Казак» накануне его ухода с острова Мадейра для продолжения плавания на Дальний Восток, находилась и одна внушительная, жирная, хорошо откормленная фунчальская свинья с четырьмя поросятами, маленькими, но перешагнувшими, однако, уже возраст свиного младенчества, – когда так вкусны они под хреном или жареные с кашей.
Всем этим «пассажирам», как немедленно прозвали матросы прибывших гостей, был оказан любезный и радушный прием, и их тотчас же разместили по обе стороны бака [1], при самом веселом содействии матросов.
Трех быков, только что поднятых с качавшегося на зыби баркаса на веревках, пропущенных под брюхами, не пришедших еще в себя от воздушного путешествия и громко выражавших свое неудовольствие на морские порядки, привязали у бортов на крепких концах; птицу рассадили по клеткам, а баранов и свинью с семейством поместили в устроенные плотником загородки, весьма просторные и даже комфортабельные. Корма для всех – сена, травы и зерна – было припасено достаточно, – одним словом, моряками были приняты все возможные меры для удобства «пассажиров», которых собирались съесть в непродолжительном времени на длинном переходе, предположенном капитаном. Он хотел идти с Мадейры прямо в Батавию на острове Ява, не заходя, если на клипере все будет благополучно, ни в Рио-Жанейро, ни на мыс Доброй Надежды. Переход предстоял долгий, не менее пятидесяти дней, и потому было взято столько «пассажиров». Быки назначались для матросов, чтобы дать им хоть несколько раз вместо солонины и мясных консервов, из которых варилась горячая пища, свежего мяса. Остальная живность была запасена для капитанского и кают-компанейского стола, чтобы не весь переход сидеть на консервах. Вдобавок предстояло встретить в океане рождество, и содержатель кают-компании мичман Петровский имел в виду полакомить товарищей и гусем, и окороком, и поросятами – словом, встретить праздник честь честью.
Нечего и говорить, что для сохранения палубы в той умопомрачительной чистоте, какою щеголяют военные суда, не жалели ни подстилок, ни соломы, и старший офицер, немолодой уже лейтенант, влюбленный до помешательства в чистоту и порядок и сокрушавшийся тем, что палуба приняла несоответствующий ей вид деревенского пейзажа, строго-настрого приказывал боцману Якубенкову, чтобы он глядел в оба за благопристойностью скотины и за чистотой их помещений.
– Есть, ваше благородие! – поспешил ответить боцман, который и сам, как невольный ревнитель чистоты и порядка на клипере, не особенно благосклонно относился к «пассажирам», способным изгадить палубу и тем навлечь неудовольствие старшего офицера.
– А не то… смотри у меня, Якубенков! – вдруг воскликнул старший офицер, возвышая голос и напуская на себя свирепый вид.
Окрик этот был так выразителен, что боцман почтительно выкатил свои глаза, точно хотел показать, что отлично смотрит, и вытянулся в ожидании, что будет дальше.
И действительно, после короткой паузы старший офицер, словно бы для вящей убедительности боцмана, резко, отрывисто и внушительно спросил:
– Понял?
Еще бы не понять!
Он отлично понял, этот пожилой, приземистый и широкоплечий боцман, с крепко посаженной большой головой, покрытой щетиной черных заседевших волос, видневшихся из-за сбитой на затылок фуражки без козырька. Давно уже служивший во флоте и видавший всяких начальников, он хорошо знал старшего офицера и по достоинству ценил силу его гневных вспышек.
И боцман невольно повел своим умным черным глазом на красноватую, большую правую руку лейтенанта, мирно покоящуюся на штанине, и громко, весело и убежденно ответил, слегка выпячивая для большего почтения грудь:
– Понял, ваше благородие!
– Главное, братец, чтобы эти мерзавцы не изгадили нам палубы, – продолжал уже совсем смягченным и как бы конфиденциальным тоном старший офицер, видимо, вполне довольный, что его любимец, дока боцман, отлично его понимает. – Особенно эта свинья с поросятами…
– Самые, можно сказать, неряшливые пассажиры, ваше благородие! – заметил и боцман уже менее официально.
– Не пускать их из хлева. Да у быков подстилки чаще менять.
– Слушаю, ваше благородие!
– И вообще, чтобы и у птиц и у скотины было чисто… Ты кого к ним назначил?
– Артюшкина и Коноплева. Одного к птице, другого к животной, ваше благородие!
– Таких баб-матросов? – удивленно спросил старший офицер.
– Осмелюсь доложить, ваше благородие, что они негодящие только по флотской части…
– Я и говорю: бабы! Зачем же ты таких назначил? – нетерпеливо перебил лейтенант.
– По той причине, что они привержены к сухопутной работе, ваше благородие!
– Какая ж на судне такая сухопутная работа, по-твоему?
– А самая эта и есть, за животной ходить, ваше благородие! Особенно Коноплев любит всякую животную и будет около нее исправен. Пастухом был и совсем вроде как мужичком остался… Не понимает морской части! – прибавил боцман не без некоторого снисходительного презрения к такому «мужику».
Сам Якубенков после двадцатилетней морской службы и многих плаваний давно и основательно позабыл деревню.
– Ну, ты за них мне ответишь, если что, – решительно произнес старший офицер, отпуская боцмана.
Тот, в свою очередь, позвал на бак Артюшкина и Коноплева и сказал:
– Смотри, чтобы и птицу и животную содержать чисто, во всем параде. Палуба, чтобы ни боже ни… Малейшая ежели пакость на палубе… – внушительно прибавил боцман.
– Будем стараться, Федос Иваныч! – испуганно промолвил Артюшкин, молодой, полнотелый, чернявый матрос с растерянным выражением на глуповатом лице, в страхе жмуря глаза, точно перед его зубами уже был внушительный жилистый кулак боцмана.
Коноплев ничего не сказал и только улыбался своею широкою добродушною улыбкой, словно бы выражая ею некоторую уверенность в сохранении своих зубов.
Это был неуклюжий, небольшого роста, белобрысый человек лет за тридцать, с большими серыми глазами, рыжеватыми баками и усами, рябоватый и вообще неказистый, совсем не имевший того бравого вида, каким отличаются матросы. Несмотря на то, что Коноплев служил во флоте около восьми лет, он все еще в значительной мере сохранил мужицкую складку и глядел совсем мужиком, только по какому-то недоразумению одетым в форменную матросскую рубаху. Весь он был какой-то нескладный, и все на нем сидело мешковато. Матросской выправки никакой.
И он недаром считался плохим матросом, так называемой бабой, хотя и был старательным и усердным, исполняя обязанности простой рабочей силы. Он добросовестно вместе с другими тянул снасть, ворочал пушки, греб на баркасе, наваливаясь изо всех сил на весло; но на более ответственную и опасную матросскую работу, требующую ловкости, быстроты и отваги, его не назначали.
И он был несказанно рад этому.
Выросший в глухой деревне и любивший кормилицу-землю, как только могут любить мужики, никогда не видавшие не только моря, но даже и озера, он двадцати трех лет от роду был оторван от сохи и сдан, по малому своему росту, в матросы.
И море, и эти диковинные корабли с высокими мачтами с первого же раза поразили и испугали его. Он никак не мог привыкнуть к чуждому ему морю, полному какой-то жуткой таинственности и опасности. Морская служба казалась ему божиим наказанием. Один вид марсовых, бегущих, как кошки, по вантам, крепящих паруса или берущих рифы в свежую погоду, стоя у рей [2], стремительно качающихся над волнистою водяною бездной, вчуже вселял в этом сухопутном человеке чувство невольного страха и трепета, которого побороть он не мог. Он знал, что малейшая неловкость или неосторожность, и человек сорвется с реи и размозжит себе голову о палубу или упадет в море. Видывал он такие случаи во время своей службы и только ахал, весь потрясенный. Никогда не полез бы он добровольно на мачту – бог с ней! – и по счастию, его никогда и не посылали туда.







