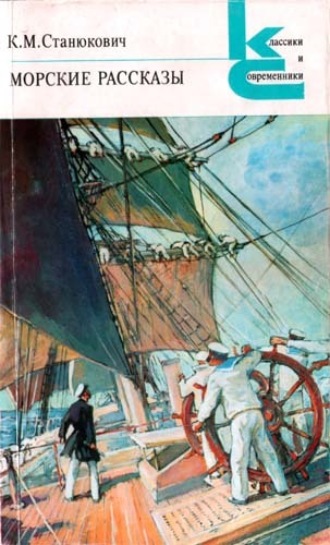
Константин Станюкович
Волк
II
Через полчаса в кают-компанию вошел худощавый и маленький старый врач Никифор Иванович. Обыкновенно веселый и легкомысленный «папильон» 1, он несколько озабоченно сказал старшему офицеру:
– Дело-то «табак», Петр Петрович!
– Больных не любите, так и «табак», Никифор Иваныч? – проговорил, подсмеиваясь, старший офицер.
Он хорошо знал, что этот «мичман», несмотря на его почтенный возраст, не любил лечить больных. Давно уже позабывший медицинские книжки, он всегда весело говорил, что природа свое возьмет, а не то госпиталь есть, если матросу предназначено в «чистую», как Никифор Иванович называл смерть.
По счастью для него и, главное, для матросов, на корвете больных не бывало.
– Да что их любить, Петр Петрович! А Волка нужно бы в госпиталь!
– Разве на корвете нельзя зачинить?
– Все можно, а лучше отправить на берег. Природа у Волка свое возьмет, и хирург живо обработает. Рана глубокая, под ухо прошла… Перевязку сделал, а теперь пусть дырку чинят в госпитале. Верней-с. Ну, да и я, признаться, давно не занимался хирургией, Петр Петрович!.. И вообще не любитель лекарств! – откровенно признался Никифор Иванович.
– А Руденко что?
– Отлежится… Дня через три с богом порите его, Петр Петрович!
– А нога?
– То-то перелома будто нет. Посмотрю, как завтра… И ловко же его изукрасил Волк! Счастье, что Руденко еще цел! – весело промолвил старенький доктор.
Старший офицер послал вестового сказать на вахте, чтобы подали к борту четверку, и сказал юному, несколько месяцев тому назад произведенному смуглолицему мичману Кирсанову:
– Отвезите, Евгений Николаич, вашего любимца в госпиталь. Да попросите сейчас же его осмотреть и спросите, нет ли опасности.
– Слушаю, Петр Петрович!
– И ведь с чего сбрендил старый дурак! Знаете, Евгений Николаич?
– Знаю, Петр Петрович. Оттого он переменился в последнее время и тосковал.
– То-то и удивительно… Волк… и… из-за какой-то Феньки!..
– Волк не похож на других… Он по-настоящему любит женщину! – краснея и взволнованно промолвил мичман, словно бы обиженный за удивление старшего офицера.
Мичману было двадцать лет. Ему казалось, что и он «по-настоящему любит», и навеки, конечно, эту «божественную» Веру Владимировну, к сожалению, жену капитана первого ранга Перелыгина. Он знаком с нею три месяца, и с первой же встречи влюбился в эту хорошенькую блондинку лет тридцати и таил от всех свою любовь. «Божественная» с ним кокетничала, а он благоговел, по временам втайне желал «кондрашки» толстому, короткошеему капитану, раскаивался и верил, что госпожа Перелыгина – пушкинская Татьяна. Недаром же она любила декламировать:
Но я другому отдана
И буду век ему верна
Вымытый, перевязанный и переодетый, с «отсылкой» (бумагой) в госпиталь, вышел Волк на палубу.
Перед тем как Волку спускаться в шлюпку, его окликнул старший офицер и сказал:
– Скорей починись, Волк!
– Есть, ваше благородие!
Вся команда, уже в палубе, пожелала Волку скорей вернуться на корвет.
Он хотел было идти на нос шлюпки, но мичман приказал матросу сесть на сиденье рядом с ним, и четверка отвалила.
Вечер был обаятельный. Звезды загорелись в небе.
Волк задумался.
Это был здоровый, крепкий человек, далеко за сорок, мускулистый, широкоплечий, мешковато одетый, спокойно-уверенный в своей физической силе, привыкший к морю и любивший его, с грубоватым, суровым лицом, с тем выражением искренности, простоты и в то же время какого-то философски-спокойного ума, которым отличаются моряки, много видавшие видов на своем веку.
Еще недавно его серые глаза светились радостно, и по временам в его серьезном лице появлялась горделиво-торжествующая улыбка счастливого человека. В то время он и бросил пить, вдруг сделался бережлив и стал мягче характером.
Суровый на вид, он обыкновенно редко сердился, и его трудно было разозлить. Только скалил свои крепкие белые зубы и добродушно подсмеивался. Но, когда его охватывал гнев, он напоминал обозленного волка, и все боялись довести матроса до исступления. Знали, что мог избить до смерти, если не удержать силой.
В последнее время Волк сразу изменился. Стал молчалив, угрюм и раздражителен. По временам долго смотрел на море, точно думал какие-то невеселые думы, и глаза его были тоскливые, какими прежде не бывали.
От людей старался скрыть тоску, и матросы, любившие и уважавшие Волка, только дивились, пока не узнали, что его бросила Фенька, безумная «приверженность» к которой была известна на корвете и всех изумляла.
– Чудеса! Вовсе втемяшился Волк! – говорили тихонько на баке.
Но подсмеиваться над ним не смели.
Все знали, что Волк вообще не любил «пакостных» разговоров, как называл он циничные шутки о бабах, обычные на баке, и очень озлился бы за Феньку. Раз он избил до полусмерти одного матроса, сказавшего при нем что-то скверное о ней.
И это хорошо помнили на баке.
Шлюпка повернула с рейда в Корабельную бухту.
Море точно дремало. Кругом было тихо-тихо… Только часовые с блокшивов, на которых жили арестанты, перекликались протяжными «слу-шай!..».
Огоньки мигали в домах слободки.
Волк глядел на огоньки… Еще месяц тому назад Фенька здесь жила…
«Конец!» – подумал Волк, и чувство обиды и боли охватило его, когда он опять вспомнил «скоропалительность» перемены Феньки… Была, кажется, привержена, обещала вернуться из Симферополя и вдруг так «обанкрутила»…
Слова Руденки жалили его сердце, точно змея…
– Что, брат Волк… Болит голова? – вдруг участливо спросил мичман.
– Самую малость, ваше благородие!
– Верно, скоро выпишешься…
– Как бог, ваше благородие…
– Экий подлец этот Руденко!.. Уж ему будет!
– И без того… избил… А полегче бы его пороть, ваше благородие!.. Заступились бы, ваше благородие, перед старшим офицером… Зачинщик-то я… Я и виноватый!
– И ты еще заступаешься за подлеца? – воскликнул мичман, тронутый словами Волка.
– А то как же, ваше благородие? Не оборонись он и не ошарашь ножом, пожалуй, быть бы мне убивцем… За это в арестанты.
– Разве убил бы?
– В обезумии человек на все пойдет, ваше благородие, – необыкновенно просто и убежденно сказал Волк.
«Он по-настоящему любит», – снова подумал мичман.
И ему стало обидно, что он не только не вызвал на дуэль одного лейтенанта, который в кают-компании назвал «божественную» Веру Владимировну «любительницей похождений», но промолчал и теперь даже разговаривает с лейтенантом.
«И какой я подлец в сравнении с Волком!» – мысленно проговорил мичман.
Он несколько минут молчал, чувствуя себя виноватым и восхищенный любовью матроса. И вдруг порывисто и сердечно проговорил, понижая голос до шепота:
– Знаешь что, Волк?
– Что, ваше благородие? – чуть слышно ответил Волк.
– Может, ты захочешь известить Феньку, что ты в госпитале… Так скажи адрес. Я напишу.
– Спасибо, ваше благородие… Не надо!
И при лунном свете лицо Волка показалось угрюмее, когда он еще тише прибавил:
– Не приедет, ваше благородие!..
– Шабаш! – крикнул мичман.
Четверка остановилась у пристани.
Юный мичман приказал гребцам ждать его возвращения и вместе с Волком вышел на берег.







