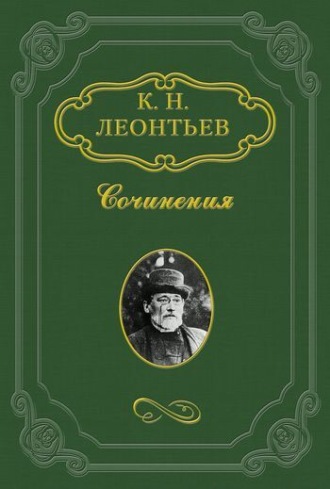
Константин Николаевич Леонтьев
Поединок
– Да, это я – что вам угодно?
– Вот что! – восклицает румын ожесточенно и с этим словом с одной стороны – раз! с другой – два! Хотел и еще; но его удержали.
Француз вскочил, схватился руками за лицо, потому что удары были очень сильны, и до того потерялся, что произнес только:
– Ah!.. Voyons! Voyons! C'est bien sérieux-ça![4] И удалился из сада…
Теперь бы следовало ожидать на другой же день дуэли; но встретились непредвиденные препятствия, и она произошла гораздо позднее, через неделю или более.
Какие же могли быть препятствия?
Такие, что румын шутить этим делом не хотел и шел на прямую опасность; он хотел стреляться. Француз, зная, вероятно, как часто пуля и неискусного стрелка сама «находит виноватого», боялся пистолетов и требовал поединка на шпагах. Румынские офицеры того времени, вероятно, так же плохо фехтовали, как большинство наших соотечественников, и подобно русским предпочитали фатализм пистолета – рациональным ухищрениям шпаги. Ясное дело, что румын обнаруживал этим самым выбором своим больше истинного мужества, чем француз. Пистолет равнял противников, и, предлагая его, румын и своей жизнью рисковал точно так же, как и жизнью другого; отстаивая шпагу, француз, хорошо ею владевший, был заранее уверен в победе и вообще в том, что противник будет, так сказать, в его распоряжении, что при таком неравенстве сил от него одного будет зависеть выбор между великодушием и жестокостью.







