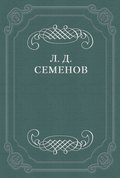Леонид Дмитриевич Семенов
Смертная казнь
* * *
Осужденные подымались со своих коек измятые, бледные, и озирались кругом.
Их торопили… Уж надо было кончать, так кончать…
И странно – какая-то злоба вспыхивала теперь в каждом солдате и офицерике при виде их сонных и похолодевших лиц, точно злоба на то, что вот это из-за них приходится теперь ночью им производить эту гадкую и черную работу, которая и им всем отвратительна.
– Ну, ну, поторапливайся! – процедил вдруг в одной камере солдат, даже забывший, что тут есть начальство…
– Все равно уж.
И другие даже оглянулись, но промолчали, – поняв, что он сказал то, что́ им всем кажется…
* * *
Инженер только что заснул, когда пришли за ним. Он долго не мог уснуть в эту ночь. Виски стучали. Нервы от усиленного курения были приподняты. В голове, как кошмар, как длинные подводные волокна, тянулись мысли и образы, и снилось опять человечество, как какой-то чудовищный организм, охвативший всю землю и кующий какую-то свою таинственную работу, выбрасывающий одни ненужные себе мертвые клетки, рождающий вместо них новые…
Он вскочил. Некрасивый и заспанный, он провел рукой по волосам, но вдруг сел, точно хотелось еще раз, в последний раз понежиться сном на этой койке, оттянуть последний миг. И вдруг все оторвалось в нем, куда-то ушло – и революция, и эти люди, и суд – и все. Все показалось таким ненужным и безразличным теперь… «Только смерть еще… и тогда все», мелькнуло в голове. «Маленькая операция», подумал он опять, но без усмешки теперь, а просто и спокойно, – и страшное вдруг спокойствие воцарилось в нем; все показалось таким ничтожным и маленьким в эту минуту перед тем огромным и каким-то ласковым ничто, которое открывалось сейчас через несколько минут уже за смертью и в которое он знал, что теперь уже наверно уйдет, что хотелось остановиться, помедлить еще на этом новом, никогда не испытанном им чувстве.
Но офицерик торопил; как-то дико и нагло ворвался его крик в уши:
– Пора, пора! собирайся!
Что-то трусливое было в этом окрике, точно человек хотел себя подхлестнуть, показав свою развязность.
Инженер вздрогнул. «Ты» – на миг покоробило. Но и это сейчас же упало. Офицерик стоял бледный, с синевой под красивыми женственными глазами, избегая смотреть ими прямо.
«Должно быть, развратник!» – мелькнуло почему-то машинально в голове инженера. Но и это все показалось таким мелким, ненужным, точно стирающаяся пыль перед грядущим, огромным ничто, что он опять улыбнулся и встал.
Надо было повиноваться.
* * *
В коридоре шли тесной, неловкой толпой, неуклюже толкая друг друга, гремя цепями, и стучали ногами.
Солдаты назойливо следили за всеми, точно боялись, что они и теперь убегут, и иногда покрикивали.
В дверях замешкались.
– В небесную канцелярию ведут! Товарищи! – крикнул тут один из осужденных, самый бледный, с гнилыми зубами, сын диакона, но точно не думавший о том, что кричит, и стучавший зубами, как в лихорадке.
– Ишь, туда тебе и дорога! – озлился вдруг рядом солдат, тот самый, который и раньше прикрикнул на него в камере.
* * *
В канцелярии минуты казались вечностью… но вечность неслась беспощадно, катилась и исчезала.
Вся жизнь, пока вели их по коридорам, казалось, встала в каждом и пронеслась перед ними в ослепительных ярких образах… И эта страшная напряженная работа фантазии как-то занимала, отвлекала от всего, не будила соблазнов для воли, что можно еще, может быть, что-нибудь сделать для спасения, такое, что от них зависит.
Шли как сомнамбулы.
Но тут эта неожиданная задержка в канцелярии заставила вдруг упасть все напряженные чувства, и получился упадок – какое-то отвращение ко всему и к себе, какое-то безумное, бессмысленное, гадкое топтанье на месте в себе…
Писарь и начальник рылись в книгах, выкликали фамилии, кажется – вычеркивали… но все было как сон в глазах, как бледные, плоские видения – и бумаги, и лампы, и лысина начальника, и штыки.
Солдаты по-прежнему не отходили от каждого приговоренного – нагло, бесстыдно касаясь шинелями, почти своими телами, их тел, точно боясь, что и тут те убегут, – равнодушно похлопывая своими глазами и точно говоря ими:
– Мы тут ни при чем. Но мы отвечаем… С нас спросят.
Один, нервный с черным пушком на губах, волновался и старался не глядеть на осужденных… Это странное ощущение, что вот он, здоровый, живой тут, а эти другие люди – этот длинный арестант, небритый и некрасиво обросший, с глубокими серыми глазами и, должно быть, барин, через минуты не будет таким, какие они все, – бросало в озноб, что-то переворачивало в груди, заставляло усиленно биться сердце, – и он тогда бледнел…
Из осужденных – Клеманкин, красивый, здоровенный мужчина с густыми волосами и южным типом лица, тяжело и сосредоточенно молчал, сев на лавку, схватив голову и упершись локтями в колени.
Рабочий переминался с ноги на ногу.
– Уж скорей бы, братцы, скорей! – шептал он, блуждая глазами и пряча руки в рукава арестантской куртки.
Но мысли не вязались с языком.
У него схватило живот, как всегда у него при нервном возбуждении, и дикие, назойливые, неотвязные мечты росли и разрастались в голове. А что если попроситься для нужды и как-нибудь улепетнуть? А вдруг удастся? Громоздился за планом, но язык дрожал.
– Братцы, родимые, братцы, что же это? – почти плакал он. Я невиновен, клянусь Богом, я – невиновен, без суда засудили… Что же это?!