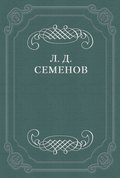Леонид Дмитриевич Семенов
Смертная казнь
Но всех страшнее был гимназист. Он – полный, нежнотелый юноша, с чуть заметным пушком на щеках, сжимал брови и кусал губу, видимо напрягая все усилия на то, чтобы не выдать себя звуком и не расплакаться, но вдруг широко и торопливо перекрестился и так вспыхнул весь, что видны стали жилы на висках, подбородок дрожал и он некоторое время шевелил ртом, но без звука, видимо принимаясь что-то сказать и не будучи в силах от волнения.
Инженеру, который случайно взглянул на него в эту минуту, вдруг стало так страшно за него, что точно волна крови откуда-то внизу подступала к горлу и навернула слезы на глаза. Так мучительно захотелось, чтобы этот мальчик не так страдал в эту минуту, – это уж слишком…
«Еще что-нибудь выкинет», – мелькнуло в голове.
– Я… я… я… – наконец вырвалось у гимназиста. – Я… хочу… священника.
Он сам точно испугался своего голоса и испуганно обернулся кругом. Но никто не слышал. Один солдат, тот самый, который стоял возле инженера и, бледный, старался не глядеть на осужденных, – вздрогнул и точно сделал движение по направлению к начальнику, чтобы передать желание мальчика.
– Я хочу священника, – повторил опять громко, упрямо гимназист, и теперь все слышали. Все вздрогнули.
Сын дьякона криво усмехнулся.
– А мне бы папироску, – и цинично выругался…
Начальник поднял голову на гимназиста.
– Это вам будет, что́ же вы кричите! – удивился он, но, увидев красное, страшно напряженное, с блестящими от волнения глазами, молодое и чистое лицо его, вдруг замешался и прибавил мягче:
– Это вам будет; что́ по закону, все будет.
Гимназист тоже смешался, точно сконфузившись, и растерянно обвел все взглядом.
– Я ничего, я только так… я только это и хотел сказать.
Но странная мысль вдруг пришла в это время в голову инженера. Ему вдруг опять показалось, что все это так мелко и ничтожно перед тем спокойствием, в которое они все сейчас вступят, что захотелось встать и как-нибудь внушить это и гимназисту, чтобы и он не волновался теперь, – улыбнуться ему, сказать, что это не нужно, что можно быть радостным. И стало вместе с тем жаль и начальника в его мелких, скучных и страшных заботах службы, и в первый раз показался ему и начальник человеком, когда он увидел на лице его беспомощность перед мукой гимназиста.
«Не подойти ли и не попросить ли его, чтобы он гимназиста повесил первым, а я подожду, – все-таки тому легче будет!» – вертелось в голове.
И казалось, что так просто это исполнить здесь, потому что все люди тут, – и он, и начальник, и солдаты, и он не злодей ведь какой-нибудь, и всякий же должен понять это простое человеческое чувство перед таким важным и общим для всех делом, как смерть.
Но пока он машинально обдумывал, как это сделать, потому что знал, что нельзя же об этом просить вслух, это нужно осторожно и просто объяснить, чтобы поняли, – страшное ожидание всех в канцелярии кончилось, – все зашевелились, и сын дьякона какими-то точно верхними чувствами, – которыми страдали, возмущались, дрожали все тут и отчетливо запоминали каждую внешнюю подробность, – заметил на стенных часах, что они пробыли тут всего пять минут. Было без семи минут три.
Торопили, повели на двор.
Опять толкались в дверях. Пропускали осужденных между двух солдат. На морозе дрожали неодетые. Впереди шел тот же офицерик. Сзади последовали гурьбой из соседней комнаты свидетели казни, которые все были в сборе.
* * *
Священник за все время, пока в канцелярии совершались последние формальности, страшно волновался и шагал в небольшой комнатке рядом с канцелярией, в кабинете начальника.
Ему казалось, что это все – зверство и что можно бы было этого как-нибудь избежать, ну, по-христиански, простить их что ли. «Но видно уж мы маленькие люди… начальству лучше знать», – думал он и принимался несколько раз мысленно молиться, но другие люди и обстановка мешали, и он, волнуясь, откидывал назад свои волосы и теребил крест.
Начальник пригласил его.
– Батюшка, один из осужденных желает вас видеть.
Другие отказались.
Священник заволновался, затеребился – и встал вдруг глупый вопрос перед ним: где исповедывать? тут или там – на месте?
Решили – в канцелярии.
«Ну, вот хоть одному доставлю утешение, а о других помолюсь», утешал он себя, но чувствуя, как бьется сердце…
* * *
Прокурор нервничал и старался как-нибудь не заметить того, что должно быть. Вспоминал свою жену, оставленную в теплой и уютной постели. Она любит декадентские стихи и у нее вообще «красные вкусы», и он сам этому сочувствует, и он все понимает… «Пора же, наконец, перейти на новый режим. Но ведь это же, господа, так ясно. Пока есть один закон, его надо исполнять. Вот будут в силе, издадут другие законы, тогда и будут жить как хотят!»
И какая-то досада поднималась в нем на этих людей за то, что они не юристы и не могут понять такой простой истины, – хотя по-человечески их, конечно, было жаль…
И он несколько раз перекладывал из кармана в карман приговор, который должен будет им прочесть, стараясь собрать всю свою силу, чтобы не волноваться…
Доктор был пьян, курил и слюняво рассказывал секретарю суда про какую-то свою обиду.
Офицер конвоя глядел на часы…
* * *
Наконец, там на дворе, на месте казни, перед виселицами – гимназист вдруг разрыдался и плакал, заливаясь слезами. Он ничего уже не мог сказать и плакал как ребенок. Вся сила, все напряжение, которые он собрал, разрядились в исповеди перед священником. Он не верил в исповедь, не верил и в Бога, не понимал этого. Но мысль о матери не давала покою, и беседа со священником – это было все, что он успел придумать, чтобы утешить ее. Думал и просил священника, чтобы тот заверил мать, что он умер твердо, с верой в бессмертие, с любовью к матери, чтобы она не очень горевала, – хотел хоть ложью купить это. Но теперь расстроенные, распустившиеся чувства прицепились к тому, что он в торопливой, неуклюжей исповеди священнику забыл упомянуть о сестре. И так вдруг стало больно за то, что он никогда не был справедливым к этой золотушной, некрасивой девушке, и что она вдруг подумает, что он не вспомнил о ней в последнюю минуту и не любил ее, и что это уже непоправимо, что он заливался и плакал, рыдая и трясясь всем телом.