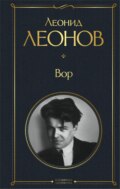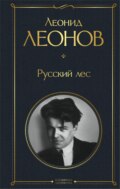Леонид Леонов
Скутаревский
Глава 5
Это и был Петрыгин, брат его жены и когда-то лучший друг, но первый хмель дружбы давно прошел, и осталась одна горькая похмельная фамильярность. Впрочем расхожденье их началось вскоре после того, как поскидали с себя студенческие тужурки; тут и обнаружилась первая трещина. Скутаревского потянуло на новый факультет, и сперва он очень бедствовал в скудной должности ассистента при каком-то институтишке; да и впоследствии, сделавшись преподавателем, не особенно жирел. Петрыгин же сразу ввинтился в житейскую машину, точно для полной исправности только и не хватало ей этого новехонького с крутой нарезкой шурупа. Обставляясь на первых порах, он и лицо себе выдумал благородное, но в меру, чтоб не отпугивать приятелей, и репутацию весельчака и выпивохи, хотя никто нигде не заставал его с бутылкой. А легче всего давалась ему удалая его беспечность, на которую, как на звонкую монету, покупал доверие людей. Фортуна благоприятствовала трактирщикову сыну; первый же его хозяин, предприимчивый и просвещенный фабрикант, правильно учитывал перспективы распространявшегося электростроения. Молодой инженер поехал в Англию навостриться на – тогда еще передовой – английской промышленности, чтобы с барышом применить на практике у благодетеля и будущего тестя. Петр Евграфович не рассказывал никогда, как получал он этот чек из рук покровителя искусств, дарований и отечественных мануфактур: один стоял, другой сидел, но тот, который стоял, еще вдобавок и посмеивался. Так, со смешком, он укатил, молодой, проворный, с русым кудрявым пушком вокруг розовых щек. Вернулся бритым, с желтинкой под глазами, вывез, кроме знаний, еще великий страх перед Европой, который впоследствии его и повалил. Тут как-то неприметно и породнился он с хозяином на почве сообщего дела и любви: молодая буржуазия умела покупать нищих, не снижая их взлета, не ущемляя их щепетильного достоинства.
В то время успешно заканчивал свою диссертацию; факультеты пригодились ему наконец. Тема ее, которая неотвратимо возникла у него из следствий Максвеллова закона, сталкивала в нем электрика и математика. Через изучение электромагнитных колебаний, добираясь до сущности всяких колебательных явлений, он уперся в главу, которую, как ему тогда казалось, невозможно было обойти. Дело шло о причинах свечения и электрической самозащите глубоководной фауны. Именно эту главу, над которой на протяжении лет неоднократно издевался Петрыгин, Сергей Андреич заканчивал у него на даче. Вычурная эта и дорогая коробка стояла высоко над рекой. Вечерами принято было наливаться чаем до одури и безуступчиво спорить обо всем, что, естественно, по-разному отражалось в сознании теоретика и практика.
Тогдашние их распри протекали бурно и весело; всякая отвлеченная формула, которую обозначал просто интегралом, представлялась завтрашнему шурину его либо качеством металлического бруса, либо атмосферным расширением в котлах, либо кинематикой движущихся шестерен. Сразившись в одной области, они хватались за другое оружие, и молодость, слепой и дерзкий поводырь, таскала их с одного обрыва на другой. Случалось, речь заходила о социальной борьбе, и тогда, потешаясь над эсдековским уклоном будущего зятя, Петр Евграфович указывал с видом превосходства, что только практическая наука и техника способны менять лицо жизни, что все дело в совершенстве машин, а не в классовой борьбе, что изобретение ткацкого станка, например, дало человечеству больше, чем любая социалистическая программа; он уже и тогда высоко ценил свое инженерское звание. Гость кусал губы и сопел. Трещинка на дружбе была еще тоненькая, как на той аляповатой сахарнице, что бессменно торчала на столе. Порою, желая блага приятелю и действуя на дрянное чувство, Петр Евграфович распахивался перед ним во всем своем житейском блеске; Сергей Андреич видел кроме дачи – выезд, весьма сараистую квартиру, саженного Гюбер-Робера в позолоченной раме, самовар с затейливыми ручками из благородной кости, всяких обстановочных посетителей в котелках, но злая щелочь нищеты ни в малой степени не разъедала его фанатического упрямства. Молодой ученый вступал в жизнь без лавров, без триумфальных арок, даже без лишней пары штанов: буржуазия еще не видела, за что ей следует платить этому угрюмому босяку.
Тем же летом к Петрыгину приехала сестра, курсистка Аня. Она была чернявая, вроде жужелицы; некоторое неблагополучие с ушами она искусно драпировала блестящими, точно лакированными волосами. Стояла затянувшаяся весна; легкий зной перемежался с дождичками; ежевечерне влажная дымка стлалась над полями внизу. Все цвело – кусты, лужи, дворник Ефим, небеса, жирная остролистая, как бы нафабренная трава вокруг крокетной площадки, деревья цвели, птицы… казалось, еще ночь – и зацветут вовсе неодушевленные предметы. А едва по небу глубокие, с грустинкой, проступали ночные взмывы облаков, начинался звонкий, как бы с арфы, ветерок, – балдел от такого изобилия красот… В такую-то ночь Аня пришла к нему в беседку.
Она считала себя передовой девушкой, мораль она сводила к чисто физиологической гигиене. Она сказала, что молодость длится до поры, пока не чувствуешь бремени материи, из которой сделан; удивился, про это он нигде не читал, ему понравилось. Она запутанно выразилась, что мещанство – непременное качество каждого индивида на одной из Гераклитовых ступеней; смолчал, потому что, кроме электронов, он не интересовался ничем, и все греки представлялись ему одинаковыми гипсовыми лицами. Она спросила, нравится ли она ему; он признался сконфуженно, что, в общем, она довольно благоприятно действует ему на сетчатую оболочку… В полночь началась гроза; беседка не протекала только в одном месте, над кушеткой, где спал молодой человек. Аня задержалась. Она ушла на рассвете, босая… прыгая через лужи. Сергей Андреич стоял на пороге, смотрел, как мелькают ее твердые желтые пятки, и смятенно теребил какие-то цветы, высокие и мерзкие, точно сделанные из ломтиков семги. В кустах шумели дрозды… И ему очень хотелось догнать Аню и извиниться; он еще не верил, что это уже навсегда. За утренним чаем все перемигивались; челядь подносила ему первому. Тетка, которой Сергей Андреич и раньше желал тихого конца, посреди бела дня завела аристон. Петрыгинская собака до непотребства семейственно лизала ему руки; он отдергивал их, она рычала. Сергей Андреич со страхом ждал, что сейчас ему вынесут пахучий, в копну размером, фиолетовый букет. Но он мирился и с этим, он уважал любовь. Через две недели диссертация внезапно потребовала лабораторной проверки. Он уезжал не один. В коляске у Скутаревских, между колен, сидела та самая собака, подарок зятю. Сам хозяин в чесучовом пиджаке стоял у калитки, махал рукой и посмеивался. Веселое его настроенье разделяли и присутствовавшие при последнем подношении – садовник, кучер, помянутая тетка, мальчишка с мокрыми вывороченными губами и еще какой-то разносчик с ягодами, похожий на Григория Богослова.
Когда коляска тронулась:
– Эй, эй? – закричал Петрыгин. – А отчего все-таки рыбы-то светятся? – и дошел до того, что даже погрозил пальцем.
Молодая жена сразу прибрала к рукам нищее достоянье мужа; курсы она, разумеется, бросила. Ей удалось очень скоро приспособить молодого ученого к делу, и верно, положение семьи заметно улучшилось. Целый день супруг что-то изобретал, писал популярные учебники, а жена незамедлительно пристраивала к жизни; большинство его изобретений разбиралось нарасхват мелкими отечественными фабрикантиками. Так, капитулируя понемножку, обменивая на рубли свой яростный талант и научную прозорливость, он жил в чаду подозрительных хлопот и совершенно чуждых ему волнений. Марксистский свой кружок он оставил по недостатку времени; так орех, пуская росток в лесной подзол, разламывает стеснительную скорлупу. Петрыгин со стороны направлял практическую деятельность сестры. Он уже оплывал, все глубже уходя в тестеву коммерцию; оптимизм его рос по мере увеличения числа акций в предприятии тестя. Тем временем привычный всем кончался, из него вылупливался другой, и этот новый страстно ненавидел прежнего. Через два года, очнувшись от душевного беспамятства, он застал себя в приличной квартире, украшенной помянутыми бюстами; это было и недорого, и благородно. В минуту его протрезвления посреди комнаты стояла ванночка, и в ней, разбрызгивая мутную воду, барахтался большеухий младенец – «оправдательный документ любви», как посмел пошутить при этом Петрыгин, и ошеломленный даже не обиделся. Целый час он ходил и все разглядывал бюсты, щупая у них зачем-то холодные, меловые носы, а потом глядел на свои пальцы. Из соседней комнаты доносилось довольное урчанье мальчика и плеск воды. Это было очень торжественное слово, оно произносилось впервые: сын. Украдкой и по рассеянности набекрень он надел шляпу и вышел. Он шел по улице, и мальчишки смеялись над ним. Он зашел в трактир и впервые в жизни, под оркестрион и в одиночку, напился как извозчик. Он придавал случившемуся огромное значение. Раньше ему казалось, что всякий человек самым своим существованьем оправдывает существование отца; теперь он узнал, что сам отец должен оправдать свое существованье перед сыном. Круто повернул свой быт, сказалась наследственная в его характере жесткость; он вернулся к своим диэлектрикам, на которых специализировался. Предельно опростясь, он несколько лет провел над работой, и все его впечатленья не выходили из тесного круга лаборатории. Однажды его выселяли за просрочку квартирной платы; в другой раз его чуть не убило при испытании высоковольтного трансформатора. Семья кормилась на копейки, а Сеник уже подрастал; мальчику хотелось игрушек, мальчик заболел, и не было дров, – тайно от мужа жена топила печурку толстыми ежегодниками разных ученых обществ, которые старательно на книжных развалах подбирал муж. Жилье их походило на бивуак; посреди единственной комнаты стояла сооруженная из дров и досок тахта; из нее росли зеленые скрученные пружины и жесткий жалящий волос. Сбоку, на сковороде, горела и смрадила колбаса, вверху на веревке сушилось бельецо Сеника, а в окно заглядывала висячая вывеска зубного врача, умершего год назад. Требовался величайший такт жены, чтобы отклонить снисходительную помощь брата. Анна Евграфовна даже не имела времени обратиться к мужу за позволением. Часто, возвращаясь с работы, бессонный и ошалелый, он бывал в особенности нелюдим; в труде он был до маниакальности одержимый человек, – ввинчиваясь в жизнь, он уставал до обморочных состояний и, может быть, имел право на свою грубость.
И тут крупная фирма купила право реализации большой работы Скутаревского по теории пробоя изоляторов. Начало века совпало с порою могущественного разворота электротехники. Человек с бешеной быстротой копил свои знанья; он нападал на стихии в открытую, разбивая их поодиночке, и природа не нищала, выдавая свои тайны. Ему уже понравилось летать, но он еще хотел разговаривать через пространства, разглядеть невидимое и взвесить невесомое. Кривая количества механической силы на одного человека двинулась вверх почти по вертикали. Промышленность бурно электрифицировалась; речь заходила уже о высоких напряжениях, о больших расстояниях, о выработке тока в мощных единицах. Открывались новые области, рушились привычные понятья о выгодности, силе и существе энергии… самая экономика меняла свое лицо. А на горизонте, еще неуклюжие, начинали тлеть первые катодные лампы. Именно область Скутаревского таила в себе буквально блистательные возможности; его успехи могли бы обогатить щедрого покровителя; он шел и сам расставлял вехи, по которым робко и с запозданием двигалась отечественная наука. Комета стремглав поднималась к зениту, и уже из Сименсштадта разглядели ее жестокий взлохмаченный профиль. Две, на протяжении полутора лет, работы о перенапряжениях и защите от токов короткого замыкания доставили ученому имя. И тогда-то пришлась кстати гибкая антреприза жены. Муж как бы выстругивал одну из самых грозных колонн, на которых покоился космос, жена продавала на сторону драгоценные и бесчисленные стружки. Первое время, наголодавшись и еще не веря в удачу, она дешевила; позже она образумилась, и тогда началось это.
– Знаешь, о нем говорят все, – доверительно признавалась она брату. – Знаешь, он совсем бесноватый. Что это… талант?
– Кусай, кусай свое счастье… – сконфуженно поучал брат и сравнивал успех с выменем коровы, которое, если не выдоить, совсем перестанет давать молоко.
Деньги ворвались в квартиру Скутаревских в виде мебели, картин, нарядной одежды; деньги были из бронзы, кости, мрамора и хрусталя; деньги становились бедствием, которое следовало преодолевать. Их приносили скромные, вежливые люди; они кланялись, они произносили приятные вещи, они интересовались здоровьем мальчугана, они готовы были здороваться за руку с прислугой. О Скутаревском стали писать в большой технической печати. К нему приезжали с визитами именитые иностранные коллеги. Он консультировал почти в десятке предприятий. Он устанавливал стандарты в международной электротехнической комиссии. Его сманивали в Америку, прельщая судьбой знаменитых беглых соотечественников. Ходили слухи о его кандидатуре на Нобелевскую премию. Он заседал в военно-промышленных комитетах. Его имя ставилось в ряду Яблочкова, Габертейля, Маркони и Лангмюра. Его знали министры, боялись студенты и уважали дворники. Громкое имя его учителя, русского профессора-тяжеловоза, тускнело и коробилось, как имя Деви рядом с Фарадеем… Лихая эта метелица успеха длилась до самой революции; она слепила и мешала работе, которая была его целью, подвигом, схимой и единственным путем к самоутверждению.
Самому ему не удавалось насладиться вдосталь ни славой, ни тем звонким сырьем, из которого она делается. Правда, никто не видал его больше в обтертом пиджаке; правда, он сменил галерку, к которой привык со студенческих лет, на четвертый рад партера; он купил себе фагот; он стал чаще ходить на концерты громкой и трагической музыки, которую любил. К остальному он не имел ни вкуса, ни причуд; стремглавый человек, который, по утверждению врагов, логарифмы Гаусса способен был читать как увлекательный роман. Он не считался с недругами, которых вдоволь наплодила зависть, как не считался с соседями, упражняясь на своем ужасном драндулете. Однажды, наигравшись этак досыта, он очнулся и снова огляделся вокруг себя. Квартира его была огромна и походила на музей. На столе лежал ворох писем с советскими и иностранными штемпелями; они пришли кружным путем: Советскую страну уже заперли блокадой. Вдруг он открыл, что знаменит, но это не пощекотало его тщеславия, как когда-то получение кафедры.
Он выбрал одно, с фронта, от сына; оно доползло по оказии: оттуда не получали писем. Густились душные летние сумерки. Электричество не горело, и Петрыгин язвил в эту пору, что единственное освещение в улицах было от автомобилей Чека… Как был – в сюртуке, потому что собирался вечером заехать на именины ко вдове старого учителя, обидчивой и сварливой старухе, – вышел в более светлую гостиную прочесть письмо. Еще мальчишескими словами Арсений писал о разном – о товарище по приключениям Николае Черимове, о каком-то смертельном перелеске, где он перележал бой, о неизвестном Скутаревскому Гарасе, а меньше всего о себе, потому что сказать о себе было ему нечего. Между строк он как будто даже благодарил отца за то, что тот настоял на его отъезде в те места, где решалась судьба революции и, следовательно, мира. Вместе с тем ему доставляло как будто удовольствие баловаться гремучими большевистскими идеями; его детский еще ум обольщали молниеносные карьеры командармов, и ему понравилась бы любая война: ее пот, ее кровавая вонь дурманили его незрелое воображенье… Прочтя, Сергей Андреич неосторожно прислонился к тонконогой этажерке, и, так случилось, какая-то бесценная статуэтка зазвенела осколками у него в ногах; в сумерках невозможно было догадаться, чем была раньше эта звенящая дрянь. Вещь стояла на самом видном месте, и, смешное обстоятельство, жена так и не вспомнила о ней больше никогда. Он воровски рассовал по карманам острые куски и, разогнувшись, почувствовал, что голоден. Ступая на цыпочках, открыл дверцу буфета; там в закоптелом алюминиевом котелке кисла на донышке пшенная каша. Он понял, что, несмотря на знаменитость, ему нечего есть. И почему-то именно это сообщило ему веселое и ясное настроенье.
По дороге в гости он заехал в институт; тощая, колдовского вида сторожиха принесла ему чай и пирожок из неизвестного вещества, съел его с изумлением. И уже он собирался наконец к обидчивой имениннице, когда ему позвонили из Кремля. Говорил секретарь человека, с именем которого были связаны светлейшие надежды одной и животный страх другой, гораздо меньшей половины человечества. Вождь просил профессора заехать к нему по делу; он обещал не задержать разговором. За Скутаревским прислали машину, и через несколько минут ужасной какой-то неловкости – по коридорам, запутанным, как мозговые извилины, – его ввели в большую нежилую комнату; еще следов разбитого режима не успели соскоблить со стен. Увидел человека, каким его знал весь мир, очень простого и еще тем удивительного, что самые сложные технические замыслы или громоздкие философские обобщения звучали совершенно понятно для каждого в его речи. Он не удивился сюртуку Скутаревского, но улыбнулся, и Сергей Андреич все ждал, что посреди беседы он снимет с себя пиджак и повесит на спинку стула; в равных обстоятельствах так поступил бы он сам. Духота еще не спадала; обгорелое московское небо шелушилось сохлыми скоробленными облачками. Понял улыбку собеседника и неожиданно для себя закурил папиросу из стоявших на столе. Свидание происходило в присутствии другого, невысокого и коренастого человека, которого впоследствии встречал почти на всех правительственных фотографиях. Ленин интересовался работами ученого; он проявил достаточную осведомленность в мировой постановке вопроса; по-видимому, он знал все наперед и искал лишь подтверждений.
– Вы работаете над передачей мощных напряжений?
– Я ищу, – сказал Скутаревский.
– Слушайте… дайте нам эту силу. Ваша помощь позволит нам вдвое ускорить процесс! – Ленин имел в виду электрификацию, план которой только еще возникал.
Он привел на память письмо Энгельса к Бернштейну от 83-го года по поводу опытов Марселя Депре, впервые передавшего по проводу десять киловатт на пятьдесят километров. Энгельсу казалось тогда огромным ничтожное количество транспортированной энергии; он полагал, что это в корне изменит взаимоотношения города и деревни, и не преувеличивал значения этого открытия. Кашлянул; первая в жизни папироса терзала ему горло. Вдобавок Энгельса он знал только понаслышке, Бернштейна знал другого, того зубного врача, вывеска которого заглядывала когда-то в сырую его пещеру. Ленин ждал ответа; его быстрый взгляд, как бы ионизирующий пространство перед собою, остановился на сухих мускулистых пальцах Скутаревского, щупавших карман с осколками разбитой статуэтки, задвигался и покраснел; его ответ выражал лишь меру его смущения…
– Пока мне нечего давать. Я ищу, и я не шарлатан…
– Ваш отец, мне передавали, был портной? – непонятно спросил тот, третий.
– Он был скорняк, – шумно вздохнул Сергей Андреич. Наступила пауза; человек в военной форме принес пачку перепечатанных на машинке бумаг, но, прежде чем взяться за них, Ленин распорядился, чтобы временно никого сюда не пускали. И пока он бегло просматривал их, черкая или делая отметки на полях толстым синим карандашом, огляделся. Большая, во всю стену, висела десятиверстка бывшей империи. Карта была старая, на добротном миткале, годная хоть столетия провисеть в прежнем российском департаменте. Но вот ее беспощадными карандашами расчертили на фронты, округа, энергетические бассейны, прокололи в тысячах тех самых точек, где и в действительности прикоснулись к телу России небрежные, подкованные сапоги интервентов или свирепые плуги революции.
…перпендикулярно к длинному, для небольших заседаний, столу находился другой, поменьше, и понравился придирчивому Скутаревскому чрезвычайный на нем порядок. Только теперь он заметил: в углу стола стоял стакан чаю – в нем еще не растаял сахар, и лежал белый, уже забытой формы хлебец с сыром. Редкостное для того времени угощенье подчеркивало значительность беседы и служило одновременно как бы границей, за которой стояло – не свой. И хотя он понимал, что именно так и обстоит оно на деле, профессора обидела эта подчеркнутая любезность; она толкала его на сухую и краткую вежливость; в конце концов, его даже тешило, что случайно он оказался в сюртуке для такой знаменательной беседы.
– Вам предлагали пост в правительстве июньской буржуазии?
– Да. Я отказался.
– Это делает честь вашей политической проницательности! – тонко и – показалось Скутаревскому – хитро сказал тот, третий.
– Да нет… просто кадетов не терплю! – И если бы проанализировал себя теперь, то среди причин отыскал бы непобедимое отвращение к тем, кого обогащал многие годы. – Миру сегодня клистирами не поможешь.
Это была кульминационная точка разговора.
– Значит, вы разделяете и средства, которыми мы боремся?
– Да, но… – Они слились в один звук, в новое понятие, эти две противоречивые частицы. – У меня имеются кое-какие сомнения…
– Вот видите, – весь подаваясь вперед, засмеялся вождь, и чуть скрипнуло под ним камышовое сиденье стула. – Если бы вы были свой, наш, у вас не было бы никаких сомнений!
И вдруг, минуя все переходы, он спросил Скутаревского, в чем испытывает тот нужду для скорейшего и успешного завершения работы. Он задал вопрос и, точно предвидя декларации гостя, откинулся поудобнее на спинку стула, засунув большой палец за плечевой вырез жилетки. Лампочка телефона несколько раз вспыхивала на столе, и только в первый раз Ленин посмотрел на нее чуть вопросительно и не взялся за трубку. Профессор начал спокойно, сообщением той великой технической идеи, которая оправдала бы и еще большую резкость. Он расходился по мере того, как вспоминал обиды, нанесенные науке; кожаное кресло, где он сидел, раскаляло его, как печь; сюртук душил этого требовательного ремесленника. Его речь смахивала на декларацию, которая местами переходила в браваду… Лаборатория при техническом училище, где приютился он с учениками, стала ему тесна. Дорогие опытные трансформаторы стоят прямо на открытом воздухе, не защищенные даже навесом. Городская станция не отпускает потребного количества тока и зачастую выключает без предупреждения. Нет ни литературы, ни самых насущных измерительных приборов. «Мы принуждены мастерить свои аппараты на деревянных гвоздях…» Сотрудники голодают, и еще недавно один из лучших его учеников был арестован за мешочничество. Наука дичает, становится на четвереньки, и, конечно, со временем потребуются новые Франклины и Вольта, чтоб сдвинуть с места застрявшую колымагу… Ленин слушал, улыбался и постукивал карандашом так, словно пробовал крепость его отточенного синего жала. А распалялся, чуть не опрокинул чай, бубнил, гремел, забывая год, сквозь который проходила страна. Двое по ту сторону стола не прервали его ни полусловом; оба знали приблизительный спектр тогдашних настроений интеллигенции; воззрения даже лучшей ее части можно было бы выразить формулой: благословляю тебя, громила, ибо громишь дом, не милый мне… И тогда-то все обернулось по-иному. Ленин предложил построить новый, со своей собственной подстанцией институт, специально для работ Скутаревского и его немногочисленных учеников. Сергею Андреичу предоставлялись выбор места, оборудованья, составление эскизного проекта и даже самая смета. Неожиданная щедрость потрясла ученого; взволнованный, он встал и снова сел. Потом он поднялся уходить, и, странно, уходить ему отсюда не хотелось.
– …кажется, я вам тут сукно прожег на столе, – заметил он, неодобрительно глядя на сгоревший окурок.
– Ничего, – засмеялся Ленин и прибавил, когда был уже на пороге: – У нас сейчас плохо с одеждой, но мы приложим все возможные усилия достать вам костюм полегче.
В суматохе чувств так и не понял шутки.
Неписаный их договор исполнялся до щепетильности точно: через три дня молодой военный человек доставил Скутаревскому костюм, но он был какой-то непозволительно клетчатый для ученого и не по росту короток; впоследствии его отдали носить вернувшемуся Сенику, который сразу принял в нем какой-то стрекулистский оттенок. Потом, после двухмесячной беготни, бессонных ночей и бесконечных заседаний, сразу наступила толчея подстегнутой стройки. Жил на стройке и, по преувеличенным рассказам, так и спал в сапогах. Безотличный от прорабов, он следил сам даже за кладкой. У него выросла тропическая, густого кирпичного отлива борода. И одно только ему давалось в меньшем совершенстве – искусство ажурного русского загиба… Когда иссякали материалы или бастовали оголодавшие строители, он звонил по телефону, номер которого благоговейно запомнил на всю жизнь. Работа была засекречена, а вместе с нею и сам Скутаревский; за границей думали, что он умер. И правда, эпоха взметнула иные имена – организаторов, полководцев, трибунов. Слава Сергея Андреича звучала надтреснуто, и главная выгода этого заключалась в возможности работать в полном уединении. Химера воплощалась в широкую квадратную башню, почти копию амперовской лаборатории в Женевилье, но с теми улучшениями, которые подсказал сименсштадтский опыт. Все оборудование шло из-за границы. Сквозь окопы войны и рогатки блокады сюда привозили осциллографы, – тогда еще совсем новинки, зеркальные гальванометры, редчайшие компараторные аппараты и те высоковольтные, до миллиона вольт, трансформаторы, которых в ту пору не имели еще и немцы. В плюгавые окрестные флигельки, очищенные от всякого кладбищенского населения – неподалеку находилось староверческое кладбище, – вселили сотрудников будущего института, и в голове Скутаревского уже роились планы о создании целого научного городка на этом могильном месте.
В этот год он жил грубо, всемерно уплотняя свой день. К нему перестали ходить, даже Штруф не просачивался дальше кухни; Сергей Андреич виделся только с сотрудниками, но ни Ханшин, ни Геродов не могли бы похвастаться близостью с ним. Несколько ближе, да и то лишь впоследствии, он сошелся с Черимовым. У молодого и старого не замечалось ни в чем особых расхождений, но примечательно, что и при свиданиях с Петрыгиным, очень редких правда, дело обходилось без больших столкновений. Вряд ли то была взаимная деликатность или боязнь Скутаревского, о котором кто-то пустил злостные слухи, или, наконец, уважение к старой дружбе. Она исчерпалась сама собою, потому что, как это всегда бывает, приятели узнали друг друга до ненависти четко.
Случилась, однако, полудетская на даче, за ужином, схватка, не стоившая упоминанья, если бы ею не был нанесен последний незаживляемый шрам их прежней близости. Вечер был тихий, прозрачный, как бы на паутинке нарисованный. В открытую дверь доносилось яростное щелканье бильярдных шаров. Дело началось со скуки, хоть и винишко торчало на столе, а от анекдотцев желчная отрыжка оставалась на губах; дело началось с разногласий в суждениях по поводу второго закона термодинамики. По существу, каждому было наплевать – кончится или не кончится через мириады лет бессмысленное звездное круженье, и нужно было застарелое раздражение одного и другого, чтобы бывшие приятели наделили простую математическую фикцию, интеграл особого вида, такой живою образной плотью. Сергей Андреич отстаивал формулу Милликена о космосе, извечно обновляющемся изнутри себя; за Милликеном стояли монументально и Гераклит и Джордано Бруно. Точку зрения Петрыгина, который держался пессимистической доктрины Клаузиуса, он считал вредной и даже нигилистической. Он не желал верить в тепловую смерть этой великолепной машины не только потому, что там, на пороге конца, маячили безумные призраки покоя и, следовательно, начала и, следовательно, кого-то Третьего, стоявшего вне суммы элементов мира; он не собирался опровергать ортодоксального богословия, он только верил в сокрытую от него изворотливость протона, во всяческую молодость, в тот лучистый могучий вихрь, который представляет собой Вселенная. Петрыгин глядел тускло и грустно: пессимизм его увеличивался и рос по мере увеличения сахара в моче – и все-таки посмеивался.
– Ох уж эти мне диалектики! – примирительно вскричал он, перегибаясь через стол и подливая Скутаревскому красного винца. – Они воюют против перпетуум-мобиле здесь, на земле, чтоб охотно и полностью приписать его вселенной. Сергей Андреич, брось, стыдись… ты же русский человек, куда тебе в марксисты!
Жены их не принимали участия в споре; одна думала в эту минуту, что Петрыгин состарился вдвое быстрее своего приятеля, другая о том, сумеет ли достать хорошие обои для предстоящей переклейки квартиры. Но обе поняли, что имена и идеи – только первые попавшиеся ножи, которые пришлись по руке этим двоим, из одного поколения, по-разному, но уже смертельно раненным людям.
Петр Евграфович имел право посмеиваться; он сидел тогда на видном месте, откуда разбегались нити управления по целому сектору электрификации. Высокое, хоть и незаметное положение доставляло ему тем в большей степени душевный покой. В свое время он уходил по забастовке из профессорской карьеры, но его вдруг вызвали, упрашивали принять новую должность, и он успел согласиться в ту самую секунду, когда уговаривающие уже собрались махнуть на него рукой. Из своего кожаного, почти госплановского кресла он с любопытством взирал на зловещую высоту, где пока еще уверенно балансировал его зять. И теперь, встретясь в бане, он с великим биологическим интересом наблюдал этого голого человека, жилистого и подвижного, будто весь начинен был пружинками.
Тот продолжал стоять, точно зазорно ему было сидеть рядом с шурином своим.
– Вот ездили принимать Арсеньеву станцию. Кстати, кто пропускал проект?
– Как и все ему подобные, проект проходил через мои руки, через Энерготорф. А что… – И раздумчиво глядел в угол, где эшафотно, в постоянных сумерках, возвышался полок.
– Я опротестую эту станцию, – резко бросил Сергей Андреич. – Я ее, к чертовой матери, опротестую…
Петрыгин лениво шевельнулся; он вовсе не отказывался от беседы, потому что не отпотел еще положенного срока, но требовал соблюдения хотя бы тех внешних приличий, к каким обязывало их общественное положение. Угроза Скутаревского рассмешила его; станция уже пошла в эксплуатацию, пускай – в силу затраченного капитала, а Сергей Андреич слишком отошел от строительной практики дня, которую сурово корректировала вздыбленная советская экономика. В тот период вся технология материала и людей подвергалась пересмотру, и при этом, например, неожиданно обнаружилось, что человек всегда может больше, чем ему приказывают. И он улыбнулся с той великодушной ласковостью, с которой сильнейший из двух прощает другу его непредумышленную дерзость.