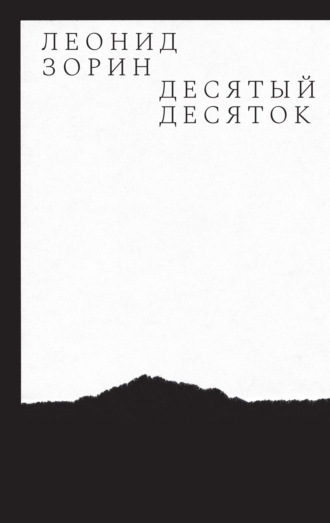
Леонид Зорин
Десятый десяток. Проза 2016–2020
7
Он уже с ходу меня ошарашил отношением к своему призванию. Его покоробило это слово, всегда внушавшее мне уважение. Волин едва ли не зарычал:
– Если хотите со мной общаться, избавьте от торжественных терминов. Уж обойдемся без звучных фраз, всяких кричалок и заклинаний. И прочей возвышенной символятины. Есть ведь нормальное слово «профессия».
Я по привычке своей заспорила:
– А Пушкин утверждал, что прекрасное должно, тем не менее, быть величаво.
Он рявкнул:
– Не теребите классиков. Они существуют от нас отдельно. И вы явились совсем не к избраннику, а просто к честному работяге. Я не напрашиваюсь к титанам ни в родственники, ни в сослуживцы. Не излучаю свет дальних звезд и избегаю чревовещания.
Само собой, мне захотелось напомнить, что я отнюдь его не рассматриваю как гуру и властителя дум. И, кстати, что я тоже не школьница. Жрицы у алтаря не корчу, но уважаю себя и свой труд.
Волин удовлетворенно кивнул.
– Тем лучше. Стало быть, понимаете, что надо делать. Как встали с ложа и навели марафет – к станку. За письменный стол. И, прежде чем вы не обстругаете три абзаца, не вздумайте поднимать свой таз со стула, но прежде всего проверьте: готовы ли ваши кудряшки к постригу, к этакой добровольной схиме? Писательство – одинокое дело.
И после этой весьма сердитой, почти угрожающей декларации подчеркнуто буднично перешел к весьма обстоятельному разбору моих рассказиков – фраза за фразой, слово за словом, не упуская сущих, на первый взгляд, мелочей. Так мне, по крайней мере, казалось. О том, насколько они существенны, в ту пору знала я понаслышке. Если догадывалась, то смутно.
8
Начал он от печки – от замысла. Он и в своей работе придерживался неспешной, пошаговой последовательности. Так странно! В бытовой своей жизни он был неряшлив и беспорядочен, напротив – за письменным столом такой педантичный аккуратист.
Он мне внушал неоднократно:
– С замыслом будьте особенно бережны. Нет смысла его теребить и подталкивать.
И повторил, очевидно, не веря, что я хорошо его поняла:
– С замыслом поживите подольше. Не дергайтесь. Не спешите начать, как бы вам этого ни хотелось. Юные авторы бьют копытцами, их дрожь колотит, грива встает. Тянет скорей – головою в омут. И все же – опасайтесь фальстарта. Сам до сих пор себя осаживаю. Пытаюсь оправдать себя возрастом: не я тороплюсь, торопит время. Оно убывает, могу не успеть. Но все эти доводы – ни к чему. Ибо запомнить нужно лишь то, что недоноски недолговечны.
Я озабоченно спросила:
– А не боялись вы перегореть? Вдруг потеряете вкус к работе?
Этот вопрос его обрадовал.
– В яблочко! – воскликнул он весело. – В самую болевую точку. То-то и оно, что терзался: дождешься! Уйдут кураж и азарт. И не заметишь, как выйдет пар. Было ведь жгучее беспокойство. Вам-то, москвичке, оно незнакомо. А я ведь южанин – провинциал. Вы лишь представьте: в приморском городе юноша томится бессонницей. Где-то тревожно перекликаются дальние гудки паровозов, словно призывно трубит судьба. Словно нарочно напоминает: «Поезд уходит, пошевелись! Думаешь, молодость бесконечна?».
Я только головой покачала:
– И как это вы сумели ужиться с таким самоедом?
– Спасибо ему! – воскликнул Волин. – Он меня спас. Есть лишь один плодотворный спор – тот, что ведем мы сами с собою. Все прочие споры, и среди них – даже великие христологические – сколь это ни горько, бесплодны. Идет перетягивание каната, борьба самолюбий и аргументов. Другое дело, когда оппонируют собственный мозг и собственный норов. Тут все на кону – сама ваша жизнь. А уж в писательстве уровень цели, ее калибр – первостепенны. Ахматова совсем не случайно так выделяла величие замысла. Была уверена, что оно определяет исход всей битвы. Аз недостойный чувствую так же.
9
Эта преамбула, что отрицать, произвела на меня впечатление. Я ощутила пусть не подавленность, но огорчительную растерянность. Если он этого добивался, то, безусловно, он преуспел.
Во мне едва ли не с детских лет копилась и крепла самоуверенность. Не лучшее качество, но меня оно нисколько не удручало. Больше того, я ее пестовала. Казалось, что с нею мне будет легче отстаивать свою независимость. Я полагала, что коли ты личность, то и обязана пуще глаза оберегать свою автономность. Только она дает тебе шанс справиться с этим ощеренным миром.
Когда я уверилась, что писательство – это и есть мое главное дело, я окончательно вбила в голову: отныне нет ничего важней, чем выгородить свою делянку. Иначе в конце концов превратишься не то в эпигона, не то в приживала в какой-нибудь литературной прихожей. Стоит лишь показать слабину, и ты беззащитна – сомнут, схарчат. И будешь долгие годы тратить свои силенки на поиск опоры, на жалкую борьбу с одиночеством.
10
Он долго и терпеливо втолковывал, что суть и цену возникшего замысла в первую очередь, определяют не любопытная история, не лихо закрученная интрига. Всегда в начале начал посыл, который усаживает за стол – руководящая идея, то, что Александр Сергеевич когда-то назвал излюбленной мыслью.
А уж потом прижился тот странный отрывистый термин – идея фикс, по-русски – навязчивая идея. Навязчивая – отнюдь не излюбленная. И если такой эпитет вам кажется неуважительным, неуместным, больше того – неприятно царапает, можете выбрать слово возвышенней – и назовите эту идею преследующей вас, неотступной.
В конце концов, дело не в обрамлении, не в характеристике мысли, а в сути ее, в ее связи со временем, с общественным климатом, с температурой. Нам надо понять, по какой причине вам нужно разбудить человечество. Или хотя бы уразуметь, в чем назначение ваших радений.
Однако и этого недостаточно, чтоб перейти непосредственно к тексту. До этого еще далеко.
И вдруг лицо его омрачилось. Казалось, столь длительная оттяжка и неготовность начать работу его озадачивает и удручает – мне захотелось его утешить. Но тут он словно взял себя в руки.
– Замысел требует, – его голос обрел учительскую суровость, – характеров, равных его калибру. Им предстоит вступить в непростые, своеобразные отношения. То совмещая несовместимое, то, наоборот, доходя до абсолютного отторжения, причем иной раз при явной схожести, родственности, безусловной близости. Вас ожидает много сюрпризов. Тогда и возникает сюжет.
Однако не торопитесь радоваться. Есть литераторы – их немало – которые искренне убеждены, что здесь-то настал их звездный час. И что они, наконец, схватили Бога за бороду. Это ошибка! Не торопитесь, умерьте прыть. Прежде чем попробовать вывести первое слово, надо пожить подольше с характерами ваших героев, понять их потенции и особенности и убедиться, что неслучайно вы им доверили свой секрет, что в самом деле они способны дать этим людям душу и плоть. Только тогда, когда убедитесь, что это так, приступайте к работе.
– Ну, слава Богу, – сказала я, – и не надеялась, что дождусь. Долго же вы меня мытарили. Не знаю, как выразить благодарность.
Он пробурчал:
– Приятно слышать. Я уж подумал, что вас запугал.
Я покачала головой:
– Мне в волинской мастерской хорошо.
И это было действительно так, хотя во мне в то же время клубились самые разнородные чувства. Досада, смятение, уязвленность и неподконтрольная нежность. Этакая горючая смесь. В ту пору была я амбициозна, шерстиста и совсем неконтактна. Все эти мои милые свойства подпитывались чрезмерно раздутым, гипертрофированным самолюбием. Поэтому и вела я себя с каким-то малопонятным вызовом. То дерзко, то подчеркнуто замкнуто. Мне драматически не хватало покоя и необходимой естественности. Попросту говоря – выпендривалась.
Теперь-то мне ясно, что мой собеседник легко угадывал эту игру и видел все мои ухищрения. Должно быть, про себя веселился. Внешне он был весьма приветлив и по-старинному куртуазен. Это уже давным-давно забытое слово точнее прочих передает такую подчеркнутую учтивость. Тоже, наверное, вел игру – этакий снисходительный мэтр, который, однако ж, держит дистанцию. Впрочем, возможно, во мне опять взбрыкнули неизжитые комплексы. Ни с чем мы так трудно не расстаемся, как с нашими детскими недостатками. Похоже, что мы их оберегаем.
И все же, хотя я привычно выстраивала потешную линию обороны и окружала себя колючками, было и радостно, и тревожно. И от сознания, что Волин испытывает ко мне интерес, и оттого, что я ощущала: дитя мое, ты и сама – на крючке.
11
Хотя я сравнительно быстро почувствовала, что попадаю в опасную зону, все шло к предназначенной кульминации.
Тут не было ничего неожиданного. Наша сестра почти независимо от возраста и личного опыта трамбует, едва ли не обреченно, протоптанный столькими каблучками все тот же неизменный маршрут. Подозреваю, что и мужчины ничуть не менее предсказуемы. Возможно, лишь более простодушны.
По той же непременной традиции я успокаивала себя – смешные страхи, все обойдется. Но вряд ли хотела, чтоб «все обошлось». Играла в прятки с самой собою.
Понятно, что в этой детской игре таится своя терпкая прелесть – иначе кто бы в нее играл? Я про себя ее окрестила увертюрой к «Севильскому цирюльнику». Эта пленительная музыка всегда звучит во мне, стоит только вдруг ощутить знакомую дрожь. Прелесть подобных ассоциаций, скорей всего, в их необъяснимости.
Так ясно, так отчетливо помнится тот день, когда стряслось неизбежное. Сумерки. Я удобно пристроилась на старой тахте, он стоит у окна, смотрит на примолкшую улицу. И вдруг решительно подошел, молча уставился на меня.
Какое-то время мы оба держали насыщенную токами паузу. Потом я осведомилась:
– Что тут разглядываете?
Он тяжко вздохнул:
– На этой тахте и правда – что-то лежит роковое.
– Все верно. Не вздумайте присоседиться.
– А что со мною произойдет? – поинтересовался Волин.
– Кто его знает? Но территория заминирована. Имейте в виду.
Он обреченно махнул рукой:
– Шут с ним. Где наша не пропадала?
На этом я и остановлюсь. Ибо все прочие подробности имеют цену лишь для меня, пусть даже принято утверждать, что в них-то и скрывается дьявол.
Тем более у Валентина Вадимовича сложилась звонкая репутация – я не хочу ее дополнять. Вернусь к тому, что прямо относится к предмету нашего диалога.
12
Когда случилось грехопадение, я, к удивлению своему, вдруг обнаружила, что пребываю в совсем несвойственной мне растерянности.
Хотя и напоминала себе, что на дворе двадцать первый век и я – не усадебная орхидея, а современная москвичка: дочь моя, ты этого хотела, стало быть, радуйся и не дергайся.
Волин великодушно сказал:
– Если вам будет так комфортней, то отнеситесь к тому, что случилось, как литератор: пойдет в копилку.
Я процедила:
– Вы очень заботливы. Но я не искательница приключений.
Он меланхолично заметил:
– Жизнь – сама по себе приключение. Ну а писательство – это поиск. Что вовсе не должно угнетать. Совсем наоборот – куражировать.
Я ничего ему не ответила. Только подумала: в самом деле, все – как всегда. Никаких катастроф.
Но на душе моей было легко. За это я себя укоряла. Поэтому я церемонно сказала:
– Благодарю вас за то, что так четко и так доходчиво объяснили. Это был крайне важный урок.
Он назидательно произнес:
– Дружок мой, я не даю уроков. Могу разве дать иногда совет. Почтенный возраст, известный опыт…
– Кокетничаете?
– Ни в коем разе. Для этого нужен особый дар, – тут он отвесил мне поклон. – Моя кустарщина в вашем присутствии воспринималась бы как профанация.
Я погрозила ему перстом:
– Что-то вы нынче разговорились.
– Как вам угодно. Готов молчать.
13
«Мне хорошо в мастерской Волина». Это была чистая правда. С ним я открыла ту полноту, то вдохновение бесстыдства, которая делает женщину Женщиной.
Мы сблизились, но не соединились под общей крышей. Иными словами – «не образовали семью». Я стала приходящей женой. Даже давала ему понять, что это и есть мой собственный выбор. Такая уж я вольная пташка. Не то кукушка, не то амазонка. Пока свободою горю. Сделала вид, что этот статус единственно для меня возможный.
Он сделал вид, что мне поверил. И это поселило во мне стойкую боль и стойкую горечь.
14
Насколько был он нежен и ласков, когда обнимал меня и голубил, настолько оказывался несдержан, когда учил меня уму-разуму. Не разругались по той лишь причине, что мне этого совсем не хотелось. А кроме того, я быстро смекнула: то, что естественно для него, мне еще нужно разгрызть и усвоить. Я про себя негодовала: что ж делать, если мой интеллект не столь реактивен и поворотлив – уж посочувствуй и снизойди! Но ждать, когда зерно прорастет, ему было скучно и невтерпеж – он то и дело меня подхлестывал, не прятал своего раздражения. Я даже дивилась – другой человек!
И убедилась, что наша близость ничуть не сократила дистанции. Скорее даже наоборот. Мы и на общем ложе по-прежнему были учителем и ученицей, и тут продолжались его уроки. И если бы только в любви – но нет! – он даже здесь находил возможность выуживать самое точное слово.
Однажды я с показным смирением – но не без яда – произнесла:
– Спасибо вам, суровый наставник.
Он взвился. Всего в одно мгновение возлюбленный превратился в ментора.
– Для благодарности вам не мешало б найти не столь дежурный эпитет. «Суровый наставник»! Ничем не лучше «безумной страсти».
– А вы подскажите, – я закипала.
– По мне так он и вовсе не нужен.
– Чем вам эпитет так не мил?
– А он провоцирует вашу лень, вялость, готовность к общему месту! В нем – изначальная тяга к штампу. Раз навсегда зарубите себе на вашем высокомерном носике: коль скоро он так отчаянно нужен, необходима сугубая бдительность. Нет ничего серее, бескрасочней, пасмурней, нет ничего тоскливей, чем многократно звучавший эпитет. Он точно навеки приклеен к слову – всегда наготове, всегда под рукой. Сразу же предлагает себя, липнет к тебе, как помятая баба, бесстыже, навязчиво, будто на ярмарке. Пуще заразы и больше сглаза бойтесь его всегдашней готовности. Он дешевит и он обесценивает, обесцвечивает любой предмет. Любое понятие, обозначение, к которому норовит прислониться. Уж если вы, в самом деле, не можете – по сирости – без него обойтись, ищите острое, необычное и ошарашивающее определение. Оно вас должно прошить, как игла, направленная в мозг прямиком, как луч, ослепивший на миг зрачок. Чем неожиданней, невпопадней, тем оно действенней и верней. Поверьте мне, что слово – аскет, этакий одинокий путник, выпущенное без провожатого, ничем не подпертое, не конвоируемое, всегда работает эффективней, чем слово, дополненное побрякушкой.
– У вас с эпитетом личные счеты, – прервала я его монолог.
– Вы правы. Он – мой классовый враг. Сели за стол? Даете текст? Ну и отложите в сторонку свое вечно женственное перышко. И отбирайте слова не спеша. Пишите скупо, без всяких взвизгов. С той жесткостью, с которой так часто размазывали моих предшественников, этих восторженных лопухов.
15
Но женский мой опыт так и не смог помочь мне понять, как в нем уживаются его вулканические извержения с этой столь нежной и щедрой лаской.
Зато и отдачи требовал той же, такой же полной, даже чрезмерной, как мне это порою казалось. На каждый свой зов, на каждое слово, на каждый заданный им вопрос. В особенности же нетерпеливо ждал он ответного знака любви.
Мгновенно, без всякого промедления.
Я стала звать его «Вынь да положь». Он злился, но все продолжалось как прежде.
16
Забавно, но давно уж почившие, порою забытые даже писатели в нем вызывали какой-то острый, какой-то болезненный интерес. Он то и дело к ним возвращался. Однажды я, помню, его спросила: завидует он античным авторам?
Он проворчал:
– Какого рожна?
Я усмехнулась:
– Куда ни кинь, им выпала большая удача – они оказались первопроходцами. И сами создавали словесность.
Волин сказал:
– Нет, не завидую. Едва ли не каждого из них ушибла «маниа грандиоза». Сперва их героями были боги, люди казались им слишком малы для подвигов и великих дел. Первый достойный человек был тот, который заспорил с богами. Если уж кого невзлюбил, то хоть не братьев своих по разуму. «Я ненавижу всех богов». Вот оно как – ни больше, ни меньше. Такая заносчивая ненависть дала ему законное право уворовать у них огонь.
– А как же Гомер?
– Да был ли он? Слепой аэд спел наизусть космический эпос – и все записано. Уверен, что он был создан позднее. С тех пор и живем одними мифами.
Я покачала головой.
– Допрыгаетесь со своей меланхолией.
Он кротко вздохнул, развел руками:
– Все будет так, как карта ляжет. Нет никакого резона дергаться.
17
Однажды, когда он забраковал вещицу, которую я писала с особым запалом и настроением, случилась очередная размолвка.
Волин вздохнул:
– Напрасно дуетесь. Замысел ваш совсем неплох. Просто не угадали с жанром.
– Не было никакого гаданья, – я все еще ощущала обиду.
Он терпеливо пояснил:
– Имею в виду, что каждому времени, каждой частице его потока соответствует лишь ему присущая особая жанровая природа.
– Разве не мы выбираем жанр?
– Нет, это он выбирает нас. Знает, когда единственно верными оказываются трагедийные громы, когда, напротив, они неуместны. Не совпадают ни с персонажами, которым выпал этот период, ни попросту – с историческим климатом. Тут все решают калибр века, калибр событий, калибр людей.
– Каков же жанр у нашего времени? Очень любопытно узнать.
Волин помедлил. Потом усмехнулся:
– По мне – скорей всего, трагикомедия. Но если хорошо постараемся, будем и далее так ретивы, возможно, предстоит трагифарс.
Я лишь вздохнула:
– Даже обидно.
– На что вы, прелесть моя, разобиделись?
– По-вашему, авторы – марионетки?
– Нисколько. Ибо в конечном счете все дело в уровне наших возможностей. Решает единственно – божий дар. Поэтому каждому стоит быть трезвым, помнить, что нужно блюсти дистанцию между собой и любимым героем.
Я вновь напряглась:
– Не очень-то ясно, что вы имеете в виду.
Волин ответил с той озабоченностью, которая всегда меня трогала.
– Я попытаюсь растолковать. Хотя это тонкая материя. В двадцатом веке жил Йохан Хейзинга. Был наблюдательный господин. И видел ближних своих насквозь. Их склонности, слабости, всякие свойства. Он-то и произнес два слова: homo ludens – играющий человек. Впрочем точней: Человек играющий. Невинная перемена мест, а между тем, насколько внушительней! Весомей. И помогает сразу понять: речь не про индивида – про общность. Мы заслужили это двусмысленное, но справедливое определение. Да, безусловно – взрослые люди. А вот же – продолжаем играть. Как в детстве.
– Что же мы – недоноски?
– Он нас ничуть не хотел унизить, – нахмурился Волин. – В конце концов, жизнь – игра, и в этой игре у нас – отведенные всем нам роли. Бывает, что они тяготят. Мы чувствуем себя уязвленными. Считаем, что роли эти навязаны. Судьбой, стечением обстоятельств. Хотим из них выпрыгнуть и начать другую – любезную нам – игру. При этом не сообразуясь с возможностями. Но это игра небезопасная. Порою жесткая и в особенности для нашего брата – литератора. Мы ведь тщеславные обезьянки. И хочется всем морочить головы, все-то доказывать urbi et orbi – городу, миру, каждому встречному, что ты и столь милый тебе персонаж, в общем и целом, один человек. Что вы, как сиамские близнецы, неотторжимы один от другого. Лестно, но все это – самообман.
Он грустно вздохнул:
– Напрасно так тужимся. День настает, становится ясно, что это не так, что ты заигрался. Ничуть вы не схожи, не станешь ты ро́вней написанному тобой удальцу. И вот несчастный Хемингуэй, однажды бесповоротно прозрев, снимает со стенки свое ружье и в клочья разносит собственный череп. Расплачивается за свой эффектный разретушированный мачизм.
А те, у кого кишка тонка, все-таки остаются жить. Вернее – доживать свою жизнь. Но это уже другие люди – погасшие, выжатые, исчерпанные. Они не умеют существовать без сочиненной ими легенды. И быть такими, какие есть. Им остается чадить и гаснуть.
Я изобразила улыбку:
– Мороз по коже. Грустная участь.
Волин кивнул.
– Куда уж грустней! Старайтесь не угодить в ловушку.
– Начали с жанра, а кончили крахом.
– Все связано. Потому и твержу: выбрали вы нелегкое дело. Помните: коготок увяз – и крышка. Назад пути не бывает.
– Спасибо. Не стоит переживать. Я только дамочка с педикюром и по стопам вашего мачо идти не намерена.
– Очень надеюсь. Пришлось бы вам взбираться на пик, на персональное Килиманджаро, потом сопоставить весь этот бал с адом в своей душе и рухнуть.
18
Он мне твердил, что жизнь литератора «совсем не изюм» и, как мне кажется, не слишком верил, что я готова к обидам, которые неизбежны, к келейной жизни, к писательской каторге.
Когда работа моя не спорилась и я начинала хандрить и кукситься, он строго приводил меня в чувство.
– Барышня гневается на судьбу. Судьба усадила мамзель за стол и оторвала от макияжа. Примите искреннее сочувствие. Кой черт занес вас на эти галеры?
– Уж лучше посочувствуйте мне по более серьезному поводу. Судьба подсунула мне грубияна, к тому же законченного брюзгу.
Он только весело усмехался:
– Если у вас извращенный вкус, расплачивайтесь за свою порочность. Никто, кроме вас, не виноват. И вообще – уважайте старших.
– Все тот же волинский абсолютизм.
Он вызывающе соглашался:
– О, да. За Волиным это водится. Он – просвещенный абсолютист. Заметьте, дитя мое, – про-све-щен-ный.
Я норовила его куснуть:
– Непогрешимый, как римский папа.
Он веселился:
– Как московский.
Обычно на этом обмен уколами заканчивался. Я остывала. Он подытоживал:
– Парадиз. Черное море вошло в берега. Это сравнение не шокирует?
– Нет, я привыкла. Волинский стиль.
Он удовлетворенно кивал:
– Вот наконец оно прозвучало, это необъятное слово.
– И почему оно необъятное?
– Пожалуй, самый точный эпитет для столь многоуровневого понятия. «Стиль» – это слово разностороннее, разнонаправленное и разноликое.
19
После необходимой паузы, свидетельствовавшей, что я вернула должное равновесие духа и снова готова сесть за парту, я предлагала:
– Так расскажите более внятно о необъятном.
– Козьма Прутков был убежден, что его не объять. Можно, само собой, употребить не столь обязывающее определение. Не привлекающее внимания. Мы ведь привыкли к приоритету коммуносоветского бонтона – не выделяться, быть, как все. Откажемся от «необъятного» и предпочтем ему «многослойное». Скромно, съедобно, этакий гамбургер.
Однажды Горький с поэтом Скитальцем попали в тюрягу. Что-то они позволили себе явно лишнее, по мнению тогдашних властей. Дело было в начале прошлого века.
Отсидка у них была недолгой, не то неделя, не то декада. И тот и другой все понимали, общество следило, сочувствовало, вовсю осуждало жестокость власти. Сиделось весело, и Скиталец даже строчил о том оперетту.
Домашние Алексея Максимовича однажды ему принесли в передаче банку варенья – ну и досталось им на орехи от буревестника!
«При чем тут варенье?! – гневался Горький. – Надо же все-таки вам иметь хотя бы какое-то чувство стиля!»
Я лишь вздохнула:
– Наш буревестник реял так гордо, куда уж мне…
Волин возразил назидательно:
– Скромность – похвальная добродетель, но скромное искусство сомнительно. Стиль – это ваша визитная карточка. Свидетельствует, что вы – наособицу. Недаром один неглупый философ отождествил его с человеком. А человек, как мы это знаем, – дремучий лес и чего в нем нет.
– Что можно видеть на вашем примере, – сказала я подчеркнуто кротко.
– Мерси, моя ядовитая прелесть. Вы не упустите своего. И все же, самые яркие формулы не абсолютны и не конечны. Ведь человек является в мир в какой-то назначенный ему день, а стиль вырабатывается годами. Но согласимся – и человек не сразу становится человеком. Стоит лишь вспомнить, какими мы были, какими становимся – очень часто на финише лишь горько вздыхаем.
Возможно, что у каждого путника, а у писателя в первую очередь, есть все-таки особая цель – понять, наконец, и свою первосуть и некую общую первопричину. Но это мало кому удается.
Позволю себе такую дерзость и недостаточную почтительность к немецкому гению, но повинюсь: конечный вывод, к которому Фауст приходит в конце своего пути, на мой взгляд, не бог весть какая мудрость. Прошу прощения, этакий лозунг, который торжественно возглашают под звуки труб и бой барабанов: «Хочешь свободы? Иди воюй». Любишь кататься – вози свои сани. Нос держат по́ ветру, порох – сухим.
Нет, слишком очевидные истины. Писательская стезя опасна. Чем дольше по ней бредешь, тем чаще – могилы неизвестных солдат.
Услышали? А теперь забудьте. Хотя и должен был это сказать.
За-будь-те. Нет ничего увлекательней и упоительней нашего дела. И зная все то, чем оно грозит, и то, что нас с вами подстерегает, вы каждой клеточкой ежеминутно должны ощущать, как вам повезло. Что для уродов таких, как мы, для схожих с нами шутов гороховых, для каторжников по собственной воле, для всех этих прокаженных и про́клятых, помеченных бубновым тузом, на нашей своеобразной планете – одно прибежище: письменный стол. Не слишком спокойное и надежное, зато единственное. Аминь.
20
Все, что он говорил, и притягивало и, вместе с тем, заставляло поеживаться. Иной раз я ловила себя на странном и даже недобром чувстве. Не то досада, не то протест.
Однажды взыграл во мне некий бесенок, и я не сдержалась:
– Мне трудно понять, чего в вас больше, что тут за смесь? Необъяснимая меланхолия? Неутоленное честолюбие? Или избыточное актерство? Можете мне ответить? По правде? Без ваших художественных гипербол?
Волин буквально зашелся от ярости.
– Приехали. Нечем мне больше заняться. Оказывается, я перед нею устраиваю парад-алле! Нет, это мило! Я добросовестно выворачиваю свои потроха, хочу ей втемяшить то, что я понял, затратив на это не год и не два, пускаю, можно сказать, в распыл бесценное серое вещество, запасы коего не безграничны, а дама, видите ли, решила, что я перед ней распускаю хвост. Не будь я цивилизованным олухом, задал бы вам отменную трепку! Выпорол бы, не тратя слов. Напрасно покойный отец втолковывал, что бабы от доброго отношения буквально звереют – глупому сыну наука не впрок. Что ж – заслужил.
Я сухо сказала:
– Когда заткнетесь и охладитесь, придете в себя – тогда я вам выскажу все, что думаю об этой истерике.
– Предвкушаю. Обидеть писателя – дело плевое. Все только и ждут удобного случая. Одна англичаночка навестила Ахматову. Вот ее впечатление и вынесенный ею вердикт: «Тягчайший случай нарциссизма».
Я покачала головой:
– Жестко. Но не решаюсь сказать, что это совсем уж безосновательно. Девушка не без яда, но зряча.
И сразу же пожалела о сказанном. Волин меня окинул долгим и словно изучающим взглядом. Потом неприязненно процедил:
– Женщина женщину судит безжалостно. Ни снисхождения, ни сочувствия. Покойная Анна Андреевна, не спорю, старательно лепила свой имидж. Но вы, мой ангел, не только дама приятная во всех отношениях. Вы еще труженица пера. Психологиня и сердцеведка. Вам можно бы принять во внимание ее историю и биографию. И то, что пропало, и то, что ей выпало. И ее петербургскую молодость, и ее ленинградскую зрелость. И несчастливое материнство, и все эти рухнувшие супружества. Объятия партии и правительства. И горькую полунищую старость. Тот образ королевы в изгнании, возможно, и был последней попыткой хоть как-то устоять, уцелеть. Такая иллюзия реванша за искалеченную судьбу.
Я чувствовала его правоту, но – странное дело! – тем все плотнее накапливалось во мне раздражение. Достаточно. Я не могу позволить отчитывать себя, как девчонку. Ему уже мало того, что я покорно и смиренно молчу, когда он чихвостит мои огрехи. Теперь меня учат хорошим манерам. Еще немного, и я окончательно утрачу собственное лицо.
– Благодарю вас, – сказала я холодно. – Мало того, что вы тратите время на мою дамскую пачкотню, вы еще на себя взвалили неблагодарную задачу по воспитанию моей личности. Боюсь, что рискуете надорваться.
Размолвка продолжалась неделю. Мы часто цапались, но не ссорились. И вдруг извольте: на ровном месте, заспорив об изящной словесности. Когда поздней я пришла в себя, то начала наводить мосты. Помню, как мысленно я себя взгрела: ну и дуреха ты, моя умница. Давно бы тебе пора уняться, признать, наконец, свое поражение в этой войне за независимость. А заодно – пора повзрослеть. Понять, что твой выбор – твоя судьба.
Разумные мысли, благие намерения! Но нас угораздило – так и не знаю, к добру или нет, «остаться детьми до седых волос». Не помогли ни моя сметливость, ни его незаурядный ум – до зрелости так и не доросли. Взрослыми мы так и не стали.
21
Однажды с комической обреченностью он мне сказал:
– К тому, что случилось, следует отнестись со смирением. Естественно, нелегко понять, что этот столь населенный мир не может тебе ничего предложить, кроме одной ершистой бабенки. Столько соблазнов, столько порхает всяких искусительных пташек! Мир наш – такая оранжерея! А ты срываешь какой-нибудь флокс и нюхай его потом всю жизнь! Смолоду я был похитрей и не спешил определиться. Соображал, что во всяком выборе кроется грозное и роковое. Господи, спаси и помилуй. Такое перед тобой дефиле! Такой длинноногий парад соблазнов!
Я оборвала его монолог.
– Сочувствую. А теперь завершите эту свою кобелиную арию. Я ею досыта насладилась. Могу угостить вас не менее горькой и столь же искренней ламентацией. Думаете, мне нечего вспомнить и не с кем сравнить такое сокровище?
Он тут же ощерился:
– Тявкните только! Это вам дорого обойдется.
После затянувшейся паузы вздохнул и удрученно пожаловался:
– Старею. Уходит страсть к переменам, к перемещениям в пространстве, и к авантюрам, и к адюльтерам. Довольствуешься – такой вот злюкой.
– Поверьте, ничуть не бо́льшая радость смотреть на пожухшего ходока. Сменим пластинку. На редкость унылый дуэт остепенившихся грешников.
Волин ничего не ответил. Я только дивилась: уже не юноша, а купанный во всех щелоках столь многоопытный господин, к тому же автор, уже издавший свою персональную библиотеку – мог бы и с юмором отнестись к этой моей прозрачной игре. Не сомневаюсь, что он ее видел, да и к тому же отлично знал, что я не девочка и не барышня из старой книжки – теперь их нет. Подозреваю, и прежде не было. А вот поди ж ты! Терял и юмор, и опыт, и свой писательский взгляд. Тут же, как от чиркнувшей спички вспыхивал сумрачный огонек. Нет, я не могла ошибаться – мальчишеская ревнивая злость. Она меня и сердила, и радовала, случалось даже, что умиляла. Но больше всего – обескураживала. Решительно не вязалась ни с возрастом, ни с биографией, ни с профессией.
Когда-то он поделился со мною подслушанной еще в юности фразой. Как я поняла, прозвучала она при смутных и непростых обстоятельствах – он мне их так и не прояснил: «Нет зверя опаснее человека!».
Теперь я мысленно дополняла это безрадостное суждение: «И непонятнее – также нет!». Он никого не напоминал из прежних моих друзей и спутников. При всей притягательности было в нем нечто и потаенное, и неясное, иной раз мне думалось – даже больное. По всем статьям, в родимой словесности ему бы должен быть ближе всех Федор Михайлович, но ведь нет! Он мне признался, что Достоевский так и не стал его собеседником: «Всегда почитал, но не звал на помощь». Зная его достаточно близко, я не могла найти объяснений столь очевидному несоответствию.







