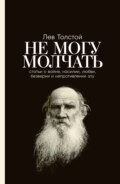Лев Толстой
Казаки
XXII
Сотник с станичным уехали; а Оленин, для того чтобы сделать удовольствие Лукашке и чтобы не идти одному по темному лесу, попросил отпустить Лукашку, и урядник отпустил его. Оленин думал, что Лукашке хочется видеть Марьянку, и вообще был рад товариществу такого приятного на вид и разговорчивого казака. Лукашка и Марьянка невольно соединялись в его воображении, и он находил удовольствие думать о них. «Он любит Марьяну, – думал себе Оленин, – а я бы мог любить ее». И какое-то сильное и новое для него чувство умиления овладевало им в то время, как они шли домой по темному лесу. Лукашке тоже было весело на душе. Что-то похожее на любовь чувствовалось между этими двумя столь различными молодыми людьми. Всякий раз, как они взглядывали друг на друга, им хотелось смеяться.
– Тебе в какие ворота? – спросил Оленин.
– В средние. Да я вас провожу до болота. Там уж вы не бойтесь ничего.
Оленин засмеялся.
– Да разве я боюсь? Ступай назад, благодарствую. Я один дойду.
– Ничего! А мне что ж делать? Как вам не бояться? И мы боимся, – сказал Лукашка, тоже смеясь и успокоивая его самолюбие.
– Ты ко мне зайди. Поговорим, выпьем, а утром ступай.
– Разве я места не найду, где ночку ночевать, – засмеялся Лукашка, – да урядник просил прийти.
– Я вчера слышал, ты песни пел, и еще тебя видел…
– Все люди… – И Лука покачал головой.
– Что, ты женишься – правда? – спросил Оленин.
– Матушка женить хочет. Да еще и коня нет.
– Ты нестроевой?
– Где ж? Только собрался. Еще коня нет, а раздобыться негде. Оттого и не женят.
– А сколько конь стоит?
– Торговали намедни одного за рекой, так шестьдесят монетов не берут, а конь ногайский.
– Пойдешь ты ко мне в драбанты? (В походе драбант есть нечто вроде вестового, которых давали офицерам.) Я тебя выхлопочу и коня тебе подарю, – вдруг сказал Оленин. – Право. У меня два, мне не нужно.
– Как не нужно? – смеясь, сказал Лукашка. – Что вам дарить? Мы разживемся, бог даст.
– Право! Или не пойдешь в драбанты? – сказал Оленин, радуясь тому, что ему пришло в голову подарить коня Лукашке. Ему, однако, отчего-то неловко и совестно было. Он искал и не знал, что сказать.
Лукашка первый прервал молчание.
– Что, у вас в России дом есть свой? – спросил он.
Оленин не мог удержаться, чтобы не рассказать, что у него не только один дом, но и несколько домов есть.
– Хороший дом? Больше наших? – добродушно спросил Лукашка.
– Много больше, в десять раз, в три яруса, – рассказывал Оленин.
– А кони есть такие, как у нас?
– У меня сто голов лошадей, да по триста, по четыреста рублей, только не такие, как ваши. Серебром триста! Рысистые, знаешь… А все я здешних лучше люблю.
– Что ж вы сюда приехали, волей или неволей? – спросил Лукашка, все как будто посмеиваясь. – Вот вы где заплутались, – прибавил он, указывая на дорожку, мимо которой они проходили, – вам бы надо вправо.
– Так, по своей охоте, – отвечал Оленин, – хотелось посмотреть ваши места, в походах походить.
– Сходил бы в поход нынче, – сказал Лука. – Ишь чакалки воют, – прибавил он, прислушиваясь.
– Да что, тебе не страшно, что ты человека убил? – спросил Оленин.
– Чего ж бояться? А сходил бы в поход! – повторил Лукашка. – Так мне хочется, так мне хочется…
– Может быть, пойдем вместе. Наша рота пойдет перед праздником и ваша сотня тоже.
– И охота вам сюда ехать! Дом есть, кони есть и холопы есть. Я бы гулял да гулял. Что, вы чин какой имеете?
– Я юнкер, а теперь представлен.
– Ну, коли не хвастаете, что житье у вас такое, я из дома никуда бы не уехал. Да я и так никуда бы не уехал. Хорошо у нас жить?
– Да. Очень хорошо, – сказал Оленин.
Уж было совсем темно, когда они, разговаривая таким образом, подходили к станице. Еще их окружал темный мрак леса. Ветер высоко гудел в вершинах. Чакалки, казалось, подле них вдруг завывали, хохотали и плакали; а впереди, в станице, уже слышался женский говор, лай собак, ясно обозначались профили хат, светились огни и тянуло запахом, особенным запахом дыма кизяка. Так и чувствовалось Оленину, особенно в этот вечер, что тут в станице его дом, его семья, все его счастие и что никогда нигде он не жил и жить не будет так счастливо, как в этой станице. Он так любил всех и особенно Лукашку в этот вечер! Придя домой, Оленин, к великому удивлению Лукашки, сам вывел из клети купленную им в Грозной – не ту, на которой он всегда ездил, но другую, недурную, хотя и немолодую лошадь и отдал ему.
– За что вам меня дарить? – сказал Лукашка. – Я вам еще не услужил ничем.
– Право, мне ничего не стоит, – отвечал Оленин, – возьми, и ты мне подаришь что… Вот и в поход пойдем.
Лука смутился.
– Ну, что ж это? Разве конь малого стоит, – говорил он, не глядя на лошадь.
– Возьми же, возьми! Коли ты не возьмешь, ты меня обидишь. Ванюша, отведи к нему серого.
Лукашка взял за повод.
– Ну, благодарствуй. Вот, недуманно-негаданно…
Оленин был счастлив, как двенадцатилетний мальчик.
– Привяжи ее здесь. Она хорошая лошадь, я в Грозной купил, и скачет лихо. Ванюша, дай нам чихирю. Пойдем в хату.
Подали вино. Лукашка сел и взял чапуру.
– Бог даст, и я вам отслужу, – сказал он, допивая вино. – Как звать-то тебя?
– Дмитрий Андреич.
– Ну, Митрий Андреич, спаси тебя бог. Кунаки будем. Теперь приходи к нам когда. Хоть и не богатые мы люди, а все кунака угостим. Я и матушке прикажу, коли чего нужно: каймаку или винограду. А коли на кордон придешь, я тебе слуга, на охоту, за реку ли, куда хочешь. Вот намедни не знал: какого кабана убил! Так по казакам роздал, а то бы тебе принес.
– Хорошо, благодарствуй. Ты ее только не запрягай, а то она не ездила.
– Как коня запрягать! А вот еще я тебе скажу, – понизив голос, сказал Лукашка, – коли хочешь, мне кунак есть, Гирей-хан; звал на дорогу засесть, где из гор ездят, так вместе поедем. Уж я тебя не выдам, твой мюрид буду.
– Поедем, поедем когда-нибудь.
Лукашка, казалось, совершенно успокоился и понял отношения Оленина к нему. Его спокойствие и простота обращения удивили Оленина и были даже немного неприятны ему. Они долго беседовали, и уже поздно Лукашка, не пьяный (он никогда не бывал пьян), но много выпивши, пожав Оленину руку, вышел от него.
Оленин выглянул в окно посмотреть, что он будет делать, выйдя от него. Лукашка шел тихо, опустив голову вниз. Потом, выведя коня за ворота, вдруг встряхнул головой, как кошка вскочил на него, перекинул повод недоуздка и, гикнув, закатился вдоль по улице. Оленин думал, что он пойдет поделиться своею радостью с Марьянкой; но, несмотря на то, что Лука этого не сделал, ему было так хорошо на душе, как никогда в мире. Он как мальчик радовался и не мог удержаться, чтобы не рассказать Ванюше не только то, что он подарил лошадь Луке, но и зачем подарил, и всю свою новую теорию счастья. Ванюша не одобрил этой теории и объявил, что ларжан ильньяпа,[28] и потому все это пустяки.
Лукашка забежал домой, соскочил с коня и отдал матери, наказав пустить его в казачий табун; сам же он в ту же ночь должен был вернуться на кордон. Немая взялась свести коня и знаками показывала, что она, как увидит человека, который подарил лошадь, так и поклонится ему в ноги. Старуха только покачала головой на рассказ сына и в душе порешила, что Лукашка украл лошадь, и потому приказала немой вести коня в табун еще до света.
Лукашка пошел один на кордон и все раздумывал о поступке Оленина. Хотя конь и не хорош был, по его мнению, однако стоил, по крайней мере, сорок монетов, и Лукашка был очень рад подарку. Но зачем был сделан этот подарок, этого он не мог понять, и потому не испытывал ни малейшего чувства благодарности. Напротив, в голове его бродили неясные подозрения в дурных умыслах юнкера. В чем состояли эти умыслы, он не мог дать себе отчета, но и допустить мысль, что так, ни за что, по доброте незнакомый человек подарил ему лошадь в сорок монетов, ему казалось невозможно. Коли бы пьяный был, тогда бы еще понятно было: хотел покуражиться! Но юнкер был трезв, а потому, верно, хотел подкупить его на какое-нибудь дурное дело. «Ну да врешь! – думал Лукашка. – Конь-то у меня, а там видно будет. Я сам малый не промах. Еще кто кого проведет! Посмотрим!» – думал он, испытывая потребность быть настороже против Оленина и потому возбуждая в себе к нему недоброжелательное чувство. Он никому не рассказывал, как ему достался конь. Одним говорил, что купил; от других отделывался уклончивым ответом. Однако в станице скоро узнали правду. Мать Лукашки, Марьяна, Илья Васильевич и другие казаки, узнавшие о беспричинном подарке Оленина, пришли в недоумение и стали опасаться юнкера. Несмотря на такие опасения, поступок этот возбудил в них большое уважение к простоте и богатству Оленина.
– Слышь, Лукашке коня в пятьдесят монетов бросил юнкирь-то, что у Ильи Васильича стоит, – говорил один. – Богач!
– Слыхал, – отвечал другой глубокомысленно. – Должно, услужил ему. Поглядим, поглядим, что из него будет. Эко Урвану счастье.
– Экой народ продувной из юнкирей, беда! – говорил третий, – как раз подожжет или что.
XXIII
Жизнь Оленина шла однообразно, ровно. С начальством и товарищами он имел мало дела. Положение богатого юнкера на Кавказе особенно выгодно в этом отношении. На работы и на ученья его не посылали. За экспедицию он был представлен в офицеры, а до того времени оставляли его в покое. Офицеры считали его аристократом и потому держали себя в отношении к нему с достоинством. Картежная игра и офицерские кутежи с песенниками, которые он испытал в отряде, казались ему непривлекательными, и он, с своей стороны, тоже удалялся офицерского общества и офицерской жизни в станице. Офицерская жизнь в станицах давно уже имеет свой определенный склад. Как каждый юнкер или офицер в крепости регулярно пьет портер, играет в штос, толкует о наградах за экспедиции, так в станице регулярно пьет с хозяевами чихирь, угощает девок закусками и медом, волочится за казачками, в которых влюбляется; иногда и женится. Оленин жил всегда своеобразно и имел бессознательное отвращение к битым дорожкам. И здесь также не пошел он по избитой колее жизни кавказского офицера.
Само собой сделалось, что он просыпался вместе с светом. Напившись чаю и полюбовавшись с своего крылечка на горы, на утро и на Марьянку, он надевал оборванный зипун из воловьей шкуры, размоченную обувь, называемую поршнями, подпоясывал кинжал, брал ружье, мешочек с закуской и табаком, звал за собой собаку и отправлялся часу в шестом утра в лес за станицу. Часу в седьмом вечера он возвращался усталым, голодным, с пятью-шестью фазанами за поясом, иногда с зверем, с нетронутым мешочком, в котором лежали закуска и папиросы. Ежели бы мысли в голове лежали так же, как папиросы в мешке, то можно было бы видеть, что за все эти четырнадцать часов ни одна мысль не пошевелилась в нем. Он приходил домой морально свежий, сильный и совершенно счастливый. Он не мог бы сказать, о чем он думал все это время. Не то мысли, не то воспоминания, не то мечты бродили в его голове, – бродили отрывки всего этого. Опомнится, спросит: о чем он думает? И застает себя или казаком, работающим в садах с казачкою-женою, или абреком в горах, или кабаном, убегающим от себя же самого. И все прислушивается, вглядывается и ждет фазана, кабана или оленя.
Вечером уж непременно сидит у него дядя Ерошка. Ванюша приносит осьмуху чихиря, и они тихо беседуют, напиваются и оба довольные расходятся спать. Назавтра опять охота, опять здоровая усталость, опять за беседой так же напиваются и опять счастливы. Иногда в праздник или в день отдыха он целый день проводит дома. Тогда главным занятием была Марьянка, за каждым движением которой, сам того не замечая, он жадно следил из своих окон или с своего крыльца. Он смотрел на Марьянку и любил ее (как ему казалось) так же, как любил красоту гор и неба, и не думал входить ни в какие отношения к ней. Ему казалось, что между им и ею не может существовать ни тех отношений, которые возможны между ею и казаком Лукашкой, ни еще менее тех, которые возможны между богатым офицером и казачкой-девкой. Ему казалось, что ежели бы он попытался сделать то, что делали его товарищи, то он бы променял свое полное наслаждений созерцание на бездну мучений, разочарований и раскаяний. Притом же в отношении к этой женщине он уже сделал подвиг самоотвержения, доставивший ему столько наслаждения; а главное, почему-то он боялся Марьянки и ни за что бы не решился сказать ей слово шуточной любви.
Однажды летом Оленин не пошел на охоту и сидел дома. Совершенно неожиданно вошел к нему его московский знакомый, очень молодой человек, которого он встречал в свете.
– Ax, mon cher, мой дорогой, как я обрадовался, узнав, что вы здесь! – начал он на московском французском языке и так продолжал, пересыпая свою речь французскими словами. – Мне говорят: «Оленин». Какой Оленин? Я так обрадовался… Вот привела судьба свидеться. Ну, как вы? что? зачем?
И князь Белецкий рассказал всю свою историю: как он поступил на время в этот полк, как главнокомандующий звал его в адъютанты и как он после похода поступит к нему, несмотря на то, что вовсе этим не интересуется.
– Служа здесь, в этой трущобе, надо, по крайней мере, сделать карьеру… крест… чин… в гвардию переведут. Все это необходимо, хоть не для меня, но для родных, для знакомых. Князь меня принял очень хорошо; он очень порядочный человек, – говорил Белецкий не умолкая. – За экспедицию представлен к Анне. А теперь проживу здесь до похода. Здесь отлично. Какие женщины! Ну, а вы как живете? Мне говорил наш капитан – знаете, Старцев: доброе, глупое существо… он говорил, что вы ужасным дикарем живете, ни с кем не видитесь. Я понимаю, что вам не хочется сближаться с здешними офицерами. Я рад, теперь мы с вами будем видеться. Я тут остановился у урядника. Какая там девочка, Устенька! Я вам скажу – прелесть!
И еще и еще сыпались французские и русские слова из того мира, который, как думал Оленин, был покинут им навсегда. Общее мнение о Белецком было то, что он милый и добродушный малый. Может быть, он и действительно был такой; но Оленину он показался, несмотря на его добродушное, хорошенькое лицо, чрезвычайно неприятен. Так и пахнуло от него всею тою гадостью, от которой он отрекся. Досаднее же всего ему было то, что он не мог, решительно не был в силах резко оттолкнуть от себя этого человека из того мира, как будто этот старый, бывший его мир имел на него неотразимые права. Он злился на Белецкого и на себя и против своей воли вставлял французские фразы в свой разговор, интересовался главнокомандующим и московскими знакомыми и на основании того, что они оба в казачьей станице говорили на французском диалекте, с презрением относился о товарищах-офицерах, о казаках и дружески обошелся с Белецким, обещаясь бывать у него и приглашая заходить к нему. Сам Оленин, однако, не ходил к Белецкому. Ванюша одобрил Белецкого, сказав, что это настоящий барин.
Белецкий сразу вошел в обычную жизнь богатого кавказского офицера в станице. На глазах Оленина он в один месяц стал как бы старожилом станицы: он подпаивал стариков, делал вечеринки и сам ходил на вечеринки к девкам, хвастался победами и даже дошел до того, что девки и бабы прозвали его почему-то дедушкой, а казаки, ясно определившие себе этого человека, любившего вино и женщин, привыкли к нему и даже полюбили его больше, чем Оленина, который был для них загадкой.
XXIV
Было пять часов утра. Ванюша раздувал голенищем самовар на крыльце хаты. Оленин уже уехал верхом купаться на Терек. (Он недавно выдумал себе новое удовольствие – купать в Тереке лошадь.) Хозяйка была в своей избушке, из трубы которой поднимался черный густой дым растапливавшейся печи; девка в клети доила буйволицу. «Не постоит, проклятая!» – слышался оттуда ее нетерпеливый голос, и вслед за тем раздавался равномерный звук доения. На улице около дома послышался бойкий шаг лошади, и Оленин охлепью на красивом, невысохшем, глянцевито-мокром темно-сером коне подъехал к воротам. Красивая голова Марьяны, повязанная одним красным платком (называемым сорочкой), высунулась из клети и снова скрылась. На Оленине была красная канаусовая рубаха, белая черкеска, стянутая ремнем с кинжалом, и высокая шапка. Он несколько изысканно сидел на мокрой спине сытой лошади и, придерживая ружье за спиной, нагнулся, чтоб отворить ворота. Волоса его еще были мокры, лицо сияло молодостью и здоровьем. Он думал, что он хорош, ловок и похож на джигита; но это было несправедливо. На взгляд всякого опытного кавказца он все-таки был солдат. Заметив высунувшуюся голову девки, он особенно бойко пригнулся, откинул плетень ворот и, поддержав поводья, взмахнув плетью, въехал во двор. «Готов чай, Ванюша?» – крикнул он весело, не глядя на дверь клети; он с удовольствием чувствовал, как, поджимая зад, попрашивая поводья и содрогаясь каждым мускулом, красивый конь, готовый со всех ног перескочить через забор, отбивал шаг по засохшей глине двора. «Ce пpe!»[29] – отвечал Ванюша. Оленину казалось, что красивая голова Марьяны все еще смотрит из клети, но он не оглянулся на нее. Соскочив с лошади, Оленин зацепил ружьем за крылечко, сделал неловкое движение и испуганно оглянулся на клеть, в которой никого не было видно и слышались те же равномерные звуки доенья.
Войдя в хату, он через несколько времени вышел оттуда на крылечко и с книгой и трубкой, за стаканом чаю, уселся в стороне, не облитой еще косыми лучами утра. Он никуда не сбирался до обеда в этот день и намеревался писать давно откладывавшиеся письма; но почему-то жалко было ему оставить свое местечко на крыльце и, как в тюрьму, не хотелось вернуться в хату. Хозяйка вытопила печь, девка угнала скотину и, вернувшись, стала собирать и лепить кизяки по забору. Оленин читал, но ничего не понимал из того, что было написано в раскрытой перед ним книге. Он беспрестанно отрывал от нее глаза и смотрел на двигавшуюся перед ним сильную молодую женщину. Заходила ли эта женщина в сырую утреннюю тень, падавшую от дома, выходила ли она на средину двора, освещенного радостным молодым светом, и вся стройная фигура ее в яркой одежде блистала на солнце и клала черную тень, – он одинаково боялся потерять хоть одно из ее движений. Его радовало видеть, как свободно и грациозно сгибался ее стан, как розовая рубаха, составлявшая всю ее одежду, драпировалась на груди и вдоль стройных ног; как выпрямлялся ее стан и под нестянутой рубахой твердо обозначались черты дышащей груди; как узкая ступня, обутая в красные старые черевики, не переменяя формы, становилась на землю; как сильные руки, с засученными рукавами, напрягая мускулы, будто сердито бросали лопатой и как глубокие черные глаза взглядывали иногда на него. Хотя и хмурились тонкие брови, но в глазах выражалось удовольствие и чувство своей красоты.
– Что, Оленин, уж вы давно встали? – сказал Белецкий, в кавказском офицерском сюртуке входя на двор и обращаясь к Оленину.
– А, Белецкий! – отозвался Оленин, протягивая руку. – Как вы так рано?
– Что делать! Выгнали. У меня нынче бал. Марьяна, ты ведь придешь к Устеньке? – обратился он к девке.
Оленин удивился, как мог Белецкий так просто обращаться к этой женщине. Но Марьяна, как будто не слыхав, нагнула голову и, перекинув на плечо лопату, своею бойкою мужскою походкой пошла к избушке.
– Стыдится, нянюка, стыдится, – проговорил ей вслед Белецкий, – вас стыдится, – и, весело улыбаясь, взбежал на крыльцо.
– Как, бал у вас? Кто вас выгнал?
– У Устеньки, у моей хозяйки, бал, и вы приглашены. Бал, то есть пирог и собрание девок.
– Да что ж мы-то будем делать?
Белецкий хитро улыбнулся и, подмигнув, показал головой на избушку, в которой скрылась Марьяна.
Оленин пожал плечами и покраснел.
– Ей-богу, вы странный человек! – сказал он.
– Ну, рассказывайте!
Оленин нахмурился. Белецкий заметил это и искательно улыбнулся.
– Да как же, помилуйте, – сказал он, – живете в одном доме… и такая славная девка, отличная девочка, совершенная красавица.
– Удивительная красавица! Я не видывал таких женщин, – сказал Оленин.
– Ну, так что же? – совершенно ничего не понимая, спросил Белецкий.
– Оно, может быть, странно, – отвечал Оленин, – но отчего мне не говорить того, что есть? С тех пор как я живу здесь, для меня как будто не существует женщин. И так хорошо, право! Ну, да и что может быть общего между нами и этими женщинами? Ерошка – другое дело; с ним у нас общая страсть – охота.
– Ну, вот! Что общего? А что общего между мной и Амалией Ивановной? То же самое. Скажете, что грязненьки они, ну это другое дело. A la guerre, сотте à lа guerre![30]
– Да я Амалий Ивановн не знал и никогда не умел с ними обращаться, – отвечал Оленин. – Но тех нельзя уважать, а этих я уважаю.
– Ну и уважайте! Кто ж вам мешает?
Оленин не отвечал. Ему, видимо, хотелось договорить тo, что он начал. Оно было ему слишком к сердцу.
– Я знаю, что я составляю исключение. (Он, видимо, был смущен.) Но жизнь моя устроилась так, что я не вижу не только никакой потребности изменять свои правила, но я бы не мог жить здесь, не говорю уже жить так счастливо, как живу, ежели бы я жил по-вашему. И потом, я совсем другого ищу, другое вижу в них, чем вы.
Белецкий недоверчиво поднял брови.
– Все-таки приходите ко мне вечерком, и Марьяна будет, я вас познакомлю. Приходите, пожалуйста! Ну, скучно будет, вы уйдете. Придете?
– Я бы пришел; но, по правде вам скажу, я боюсь серьезно увлечься.
– О, о, о! – закричал Белецкий. – Приходите только, я вас успокою. Придете? Честное слово?
– Я бы пришел, но, право, я не понимаю, что мы будем делать, какую роль мы будем играть.
– Пожалуйста, я вас прошу. Придете?
– Да, приду, может быть, – сказал Оленин.
– Помилуйте, прелестные женщины, как нигде, и жить монахом! Что за охота? Из чего портить себе жизнь и не пользоваться тем, что есть. Слышали вы, наша рота в Воздвиженскую пойдет?
– Едва ли! Мне говорили, что восьмая рота пойдет, – сказал Оленин.
– Нет, я получил письмо от адъютанта. Он пишет, что князь будет сам в походе. Я рад, мы с ним увидимся. Уж мне начинает надоедать здесь.
– Говорят, в набег скоро.
– Не слыхал, а слыхал – Криновицыну за набег-то Анна вышла. Он ждал поручика, – сказал Белецкий, смеясь. – Вот попался-то. Он в штаб поехал…
Стало смеркаться, и Оленин начал думать о вечеринке. Приглашение мучило его. Ему хотелось идти, но странно, дико и немного страшно было подумать о том, что там будет. Он знал, что ни казаков, ни старух, никого, кроме девок, не должно быть там. Что такое будет? Как вести себя? Что говорить? Что они будут говорить? Какие отношения между ним и этими дикими казачьими девками? Белецкий рассказывал про такие странные, цинические и вместе строгие отношения… Ему странно было думать, что он будет там в одной хате с Марьяной и, может быть, ему придется говорить с ней. Ему это казалось невозможным, когда он вспоминал ее величавую осанку. Белецкий же рассказывал, что все это так просто. «Неужели Белецкий и с Марьяной будет так же обращаться? Это интересно, – думал он. – Нет, лучше не ходить. Все это гадко, пошло, а главное – ни к чему». Но опять его мучил вопрос: как это все будет? И его как будто связывало данное слово. Он пошел, не решившись ни на что, но дошел до Белецкого и вошел к нему.
Хата, в которой жил Белецкий, была такая же, как и хата Оленина. Она стояла на столбах, в два аршина от земли, и состояла из двух комнат. В первой, в которую вошел Оленин по крутой лесенке, лежали пуховики, ковры, одеяла, подушки на казачий манер, красиво и изящно прибранные друг к другу у одной лицевой стены. Тут же, на боковых стенах, висели медные тазы и оружие; под лавкой лежали арбузы и тыквы. Во второй комнате была большая печь, стол, лавки и староверческие иконы. Здесь помещался Белецкий с своею складною кроватью, вьючными чемоданами, с ковриком, на котором висело оружие, и с расставленными на столе туалетными вещицами и портретами. Шелковый халат был брошен на лавке. Сам Белецкий, хорошенький, чистенький, лежал в одном белье на кровати и читал «Les trois mousquetaires».[31]
Белецкий вскочил.
– Вот видите, как я устроился. Славно? Ну, хорошо, что пришли. Уж у них идет работа страшная. Вы знаете, из чего делается пирог? Из теста с свининой и виноградом. Да не в том сила. Посмотрите-ка, что там кипит!
Действительно, выглянув в окно, они увидели необыкновенную суетню в хозяйской хате. Девки то с тем, то с другим выбегали из сеней и вбегали обратно.
– Скоро ли? – крикнул Белецкий.
– Сейчас! Аль проголодался, дедушка? – И из хаты послышался звонкий хохот.
Устенька, пухленькая, румяненькая, хорошенькая, с засученными рукавами вбежала в хату Белецкого за тарелками.
– Ну, ты! Вот тарелки разобью, – завизжала она на Белецкого. – Ты бы шел подсоблять, – прокричала она, смеясь, на Оленина. – Да закусок-то[32] девкам припаси.
– А Марьянка пришла? – спросил Белецкий.
– А то как же! Она теста принесла.
– Вы знаете ли, – сказал Белецкий, – что, ежели бы одеть эту Устеньку да подчистить, похолить немножко, она была бы лучше всех наших красавиц. Видели вы казачку Борщеву? Она вышла замуж за полковника. Прелесть какая dignité![33] Откуда что взялось…
– Я не видал Борщевой, а по мне – лучше этого наряда ничего быть не может.
– Ах, я так умею примириться со всякою жизнью! – сказал Белецкий, весело вздыхая. – Пойду посмотрю, что у них.
Он накинул халат и побежал.
– А вы озаботьтесь закусками! – крикнул он.
Оленин послал денщика за пряниками и медом, и так ему вдруг гадко показалось давать деньги, будто он подкупал кого-то, что он ничего определенного не ответил на вопрос денщика: «Сколько купить мятных, сколько медовых?»
– Как знаешь.
– На все-с? – значительно спросил старый солдат. – Мятные дороже. По шестнадцати продавали.
– На все, на все, – сказал Оленин и сел к окну, сам удивляясь, почему у него сердце стучало так, как будто он на что-то важное и нехорошее готовился.
Он слышал, как в девичьей хате поднялся крик и визг, когда вошел туда Белецкий, и через несколько минут увидел, как с визгом, возней и смехом он выскочил оттуда и сбежал с лесенки.
– Выгнали, – сказал он.
Через несколько минут Устенька вошла в хату и торжественно пригласила гостей, объявив, что все готово.
Когда они вошли в хату, все действительно было готово, и Устенька оправляла пуховики в стене. На столе, накрытом несоразмерно малою салфеткой, стоял графин с чихирем и сушеная рыба. В хате пахло тестом и виноградом. Человек шесть девок, в нарядных бешметах и не обвязанные платками, как обыкновенно, жались в углу за печкою, шептались, смеялись и фыркали.
– Просим покорно моего ангела помолить, – сказала Устенька, приглашая гостей к столу.
Оленин в толпе девок, которые все без исключения были красивы, рассмотрел Марьянку, и ему больно и досадно стало, что он сходится с нею в таких пошлых и неловких условиях. Он чувствовал себя глупым и неловким и решился делать то же, что делал Белецкий. Белецкий несколько торжественно, но самоуверенно и развязно подошел к столу, выпил стакан вина за здоровье Устеньки и пригласил других сделать то же. Устенька объявила, что девки не пьют.
– С медом бы можно, – сказал чей-то голос из толпы девок.
Кликнули денщика, только что вернувшегося из лавочки с медом и закусками. Денщик исподлобья, не то с завистью, не то с презрением, оглядев гулявших, по его мнению, господ, старательно и добросовестно передал завернутые в серую бумагу кусок меда и пряники и стал было распространяться о цене и сдаче, но Белецкий прогнал его.
Размешав мед в налитых стаканах чихиря и роскошно раскинув три фунта пряников по столу, Белецкий вытащил девок силой из их угла, усадил за стол и принялся оделять их пряниками. Оленин невольно заметил, как загорелая, но небольшая рука Марьянки захватила два круглые мятные и один коричневый пряник, не зная, что с ними делать. Беседа шла неловкая и неприятная, несмотря на развязность Устеньки и Белецкого и желание их развеселить компанию. Оленин мялся, придумывал, что бы сказать, чувствовал, что внушает любопытство, может быть, вызывает насмешку и сообщает другим свою застенчивость. Он краснел, и ему казалось, что в особенности Марьяне было неловко. «Верно, они ждут, что мы дадим им денег, – думал он. – Как это мы будем давать? И как бы поскорее дать и уйти!»