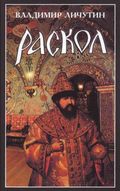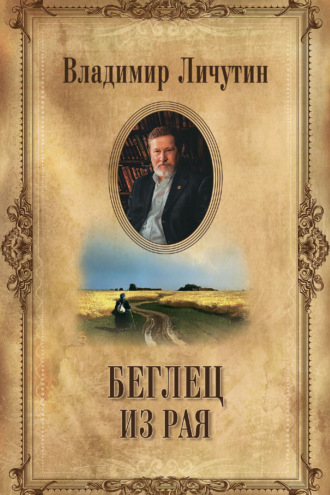
Владимир Личутин
Беглец из рая
© Личутин В.В., 2023
© ООО «Издательство «Вече», 2023
Часть первая
1
Наверное, в каждом из нас, как в плотно запертом срубце, сидит медведь и ждет своего часа; но стоит лишь дать слабину, приотпахнуть кованую дверцу, приотпустить цепи, тут и заломает чёрт лохматый, подомнет под себя божью душу, выпустит дух вон, – столько и нажился. Но кто пасет его, братцы, до времени, ярого и немилостивого? Кто сторожит в каждую минуту неусыпно, не дает поноровки, не попускает на волю, не повязывает сердитого дядьку невидимыми надежными постромками? Как бы разглядеть тот таинственный облик сердечного стража, удостовериться в его незыблемой силе, чтобы, укрепясь в духе, неспешно брести до края лет, не боясь смуты? Где обрести незамутненную ровность жизни, чтобы не расплескать ее живую благодатную водицу по пустякам, чтобы после не расплакаться, жалея себя, несчастную сиротину. А то ведь, будто по павнам, по болотным чарусам, провожаемый девкой-марухою, правишь свой нерадостный путь с кочки на кочку, боясь угодить в провальные мшарные окна, коварно призадернутые зеленой тончайшей па́волокой, скачешь по краю черного, блескучего, будто камень-аспид, бездонного озера, дышащего гибельным тленом, похожего на зловещий проран, вход в аидовы теснины, при виде которого смертно сжимается ваша душа, хотя бы и была втиснута эта дегтярная вода в немеркнущие солнечные зазывные ризы из выспевшей рудо-желтой морошки. А тут еще вечный бессонный медведь «шеволится» в груди, притягивает голову долу, отымает взор от пространных небес, где вздымаются ледяные горы с шапками из раскаленных угольев. Ну как тут не оступиться-то, братцы мои, как не воззвать с тоскою: «Господи, помоги и помилуй!..»
И вот нынче я убил человека.
По правде сказать, я давно этого хотел, но не мог сыскать верных путей спасения, и это меня держало: как бы ни изворачивался мой гибкий ум, каких бы скидок и тайных троп ни изобретал, в какие бы схороны ни укрывал, но все сводилось к печальному концу: хитрые узелки распутывались, мудреные петельки развязывались, ко мне в хижу являлся государственный человек с наганом, хомутал в стальные наручники и тащил в каталажку; на этом моя голова замирала, наполнялась стужею и переставала работать.
Обнаружилось, что вся огромная родная земля с ее непролазными глухими уремами и таежными распадками, с горными теснинами и охотничьими ухожьями за сотни поприщ от человечьего жилья отказывалась меня укрывать; наконец-то Правда Закона натуго запеленала страну неусыпным надзором, лишила народ воли и даже крохотных мечтаний скрыться от власти. Я смутно догадывался, что вместе с неотвратимостью наказания, о которой так хлопочут негодяи и сильные мира сего, похитившие власть, я невольно лишился самого главного, что хотя бы в наивных мыслях тешило русского человека, которому тайно всегда хотелось взбунтоваться, выйти из подчинения, насладиться яростью. Ибо всякий бунт есть мщение; и хотя он не обходится без крови, в нем есть некий смысл, освященный Богом. Я никак не мог понять, что когда человек помышляет убить другого, забрать у него жизнь, дарованную Господом, он не боится никакого суда: ни земного, ни Небесного, а значит, не думает о спасении. Это происходит сразу, неожиданно, как настигает всякая напасть, словно в опойном сне, шало, опрометчиво, безрассудно, с неведомым прежде сердечным жаром в груди, как бы там вдруг всякое жалостное чувство выдуло ознобным ветром и хмельным просверком в голове.
…Так со мною и случилось.
Был день поминовения усопших на Петровщину. На задах моей избы маячат кладбищенские ворота, и Жабки вроде бы намерились за один мах перекочевать сюда, чтобы отгоревать разом и усопнуть; жиденькая струйка старушечек долго сочилась в издрябшие серые врата, неся с собою узелки и бидончики, и уже никто от могилок не ворачивался домой. Из окна мне виден был окраек деревни, густо закиданный травяной дурниною; сквозь пшеничные султаны и просяные метелки едва просвечивали низкие, в три окна, изобки, тоже с охотою утекающие в землю. Все сущее дождалось наконец-то зова архангеловой трубы и, взяв с собою погребальные скромные пожитки, охотно пустилось в последний путь.
Погост был чужим для меня, все мои предки оследились в иных краях, ныне полузабытых, но что-то неожиданно позвало меня влиться в мелеющий ручеек, будто я испугался остаться в сиротстве на матери-земле и увидеть такое, что не под силу знать простому человеку. Я торопливо сунул пару вареных яиц в карман, чтобы поздравить усопших с праздником, разделить с ними трапезу, споро миновав окраек огорода, сразу угодил на красную горку, густо поросшую сосенником, сквозь который просверкивала внизу млечно-белая река Проня. Под этими вековыми деревьями, одетыми в богатырские медные кольчуги, старушонки казались особенно жалконькими, словно бы вросшими в землю по колени, а то и по грудь; у иных лишь макушки торчали из рудо-желтого песка. Вдовицы ползали у могилок, слово бы вымаливали себе прощения, ощипывали с холмушек осотник, реденький пырей, заячью капусту и повитель жесткого мышиного горошка, дрожащими пальцами трусили по могилкам сухари, баранки и карамели, кто и водчонкой наполнял стакашек, уже замшелый от дождей и лесной трухи, кто приглашал к угощению лесных птах и зверюшек, охотно навещающих кладбище.
Баба Груня, по прозвищу Королишка, припав к могиле лицом, глухо голошенила, как птица-каркун, выдирала из груди отрывистые мольбы:
– Ой, Ванюшка, родимый, и на кого ты меня спокинул горе куковать. И пошто ты не позовешь меня до себе. И неуж не соскучился? Ведь и не с кем тебе тамотки слова молвить.
Как ни тихо, сторожко ступал я меж крестов, Груня каким-то особым чутьем расслышала меня, прянула от холмушки, будто устыдясь стороннего человека, торопливо заотряхивалась, сбивая с колен песчаный прах. Глазенки у Груни особенно яркие на приотекшем бледном лице, карие с янтарной искрою, сияют, как церковные потиры. Будто и не выла только что, не причитывала, не выплакивала горе.
– Соскучилась по мужику-то? – спросил я первое, что пришло на ум, огибая чью-то забытую могилку, больше похожую на кочку, принакрытую кудрявым серебристым мхом.
– А то нет… Зову Ваню, а он молчит. Вот и водочки налила. На, говорю, выпей. А он молчит. И нынче ничего не сказал. Хоть бы словечко брякнул. Думает, наверное, на что мне старая кокора. На земле-то надоела хуже горькой редьки, а еще к себе звать… Молчит дедко. – Груня тяжело вздохнула, но и как-то прощально, словно освобождаясь от надсады, и принялась деловито выминать крутое яйцо и высеивать мякоть вместе со скорлупою.
– И неуж из могилы что слыхать? – глуповато улыбаясь, спросил я, – Иль туда телефон спущен? Покойнику на грудь, чтобы вести на тот свет перенимать.
– Спущен, Пашенька, спущен. А ты, Пашеня, не ленись, пади на коленки и послушай. Он тебя за брата числил. Может, и отзовется глухой чёрт.
Колченого переступая, клоня ковыльную голову к земле, я вознамерился было прильнуть к знакомой дернинке, под которою пятый год жил не чужой для меня человек – Иван Горбачев – по прозвищу Горбач. Тут кто-то окликнул меня, словно бы голос донесся из могилы. Я оглянулся, увидал серый бетонный крест на взлобке (такие кресты маячили прежде в ковыльных степях), почудившийся мне удивительно знакомым. Держа в руках початую бутылку, сутулился Фёдор Зулус, сын Груни, и зачем-то манил меня, брякая граненой стопкой по зеленому «хрусталю». Такой порченой водкой по двенадцать рублей за посудину затаривают деревенскую бедноту подпольные спиртовозы.
– Откуда такой крест взялся? Прежде я не видал что-то. Иль зимой кто преставился из новых русских?
– Где? Какой крест? – спросила Груня, приставила ладонь к подслеповатым глазам, выглядывая на погосте меж деревьев свежую холмушку. – Примстилось тебе, Паша. На вот тебе трубку. Она тебя с дедом через небушко свяжет. Я тебе и номер наберу.
Старица коряво заплутала пальцем по перламутровым кнопкам, и пластмассовая темно-серая жаба заквакала, по тончайшим духопроводам, через тыщи небесных верст добираясь до съехавшего на тот свет Ивана Горбачева, хотя он лежал тут, под ногами, в перевитой кореньями земле, откуда уже пробилась тоненькая узловатая рябинка. Я оттолкнул Грунину руку: даже смотреть на пупырчатую жабу было мерзко, не то что в ладонь брать эту склизкую, с раздувшимися щеками, смертноледяную гнусь.
– Звони сама, не отступайся, – посоветовал я бабене и, призываемый стеклянной музыкой, подошел к Зулусу. Бетонный крест подпирал небеса, его взглавие было вровень с вершинами кудрявых сосен, сыплющих на могилки древесный сор; на верхней перекладине, купаясь в небесном водополье, сидел ворон-каркун и деловито чистил перья.
– На, выпей, – Зулус протянул стопарик с желтыми разводами плесени, на дне плавали песчинки, похожие на золотой шлих. Пестрые, как у матери, глаза Фёдора глянули неожиданно мстительно, словно бы я занял большие деньги и не отдал вовремя, и вот сейчас Зулус «включал счетчик»; щетка седых с чернью усов вздернулась над губою, обнажились плотные желтые зубы и ребристая в белых пятнах десна. Такая гримаса обычно случается у собаки, когда она намерилась загрызаться, стоять за свою сахарную кость.
– Ты же знаешь, Зулус, я не пью. Мне врачи не велели.
– Не плюй в колодец, Паша. Со мной лучше не ссориться.
– Кто помер-то? – Я пытался обогнуть Зулуса и разглядеть фотографию, но мужик жестко выставлял руку перед самым моим носом, закрывая обзор. Граненый стакашек покачивался на толстой ладони, как обломок горного хрусталя, искристо-сочного, с голубым отливом в сердцевине и бусинкой кровцы, впаянной еще при зарождении минерала.
– А ты не ерестись, ты выпей, – угрозливо повторил Зулус и крюком полусогнутой длинной руки как бы залучил мою голову в петлю, заякорил, загнал в капкан. Я скосил взгляд: перед моими глазами смуглое предплечье бугрилось, как пудовая гиря, и по мышце, скоро набухая, потекли голубые ручьи, готовые прободить завяленную кожу. Бычья сила быстро сливалась в емкую посудину и хотела удушить меня. – Нынче только Христос не пьет, потому что у него руки приколочены, – насмехаясь, в самое ухо гундел Зулус, дыша махрою и перегаром. – А особенно на халяву чего не пить? На халяву только дурачок не пьет, а ты у нас шибко умный. Слышь? Пей, скотина, а не то силой волью. Волью, а ты крякнешь, хукнешь и другую попросишь налить. А я не дам. Я тебе скажу: иди на х… дармоед поганый.
И что мне оставалось делать, братцы? Белый свет стремительно померк в моей голове, а черная дурь ударила в виски. Сколько нашлось силы, я дернулся из объятий, не снеся насилия над собою, ударил костистою макушкой снизу вверх и угодил Зулусу по зубам: мужик охнул, отступил на шаг, удивленно разглядывая нахального комара, но тут же оступился в крохотную ямку (заросшую могилу), и нога, наверное, угодила в древнюю домовину и застряла в ней. Зулус качнулся и, не устояв, полетел на спину. А возле, слегка приподнявшись полозьями на кочках, лежала тракторная волокуша, рубленная из цельных сосновых кряжей, на которой, видимо, притянули на погост бетонный крест, а после и забыли за ненадобностью, как часто случается на Руси. Ей бы век и таиться здесь, обрастая лопушатником, потиху истлевать и трухнуть, утопая, погружаясь в прах, подобно гробовой колоде, да вот понадобилась для последнего смертного дела.
Странно, как в решительные минуты утончается человечий взгляд, как сполошливо лихорадочен, но и особенно пристален он, угадывая все наперед, что случится ныче, и, наверное, от сердечного напряга, от внутреннего испуга и тайного любопытства, с каким подмечается всякая мелочь, знание грядущего становится вещим, а само будущее, преодолевая невидимые границы, уплотняет время и пересекает границы, смещаясь назад.
Зулус лишь качнулся беспомощно назад, но я в эту секунду увидел и тракторный зубчатый след протекторов, похожий на глубокие рваные раны, и комья перевернутой кладбищенской глинки, и вязь травяных белесых кореньев, напоминающих скотские порванные жилы, и блескучие бревна волокуши с пролысинами желтой неободранной шкуры, и барошный гвоздь, торчащий из слеги, похожий на наконечник рыбацкой остроги, слегка тронутый кровцой свежей ржавчины. Зулус всей тяжестью громоздкого тела угодил именно на этот штырь, и тот, словно наконечник рогатины, насадил мужика, пронзил бедного насквозь, и конец его, как птичий клюв, выглянул из грудины. Взгляд Федора померк, как бы внутри человека вырубили свет, глаза покрылись тончайшей зеркальной поволокою, губы страдальчески задрожали, и в левый угол искривленного рта протекла тонкая алая струйка брусничного морса…
Безумье какое-то, братцы! Вот был человек, и нет его. Каких крохотных усилий достало, чтобы отнять чужую жизнь. Бред какой-то, право. И это я убил человека?
Чтобы там ни говорили, что Зулус оступился, что нога подвела, что так подверстались обстоятельства, что с моей стороны не было насилия, что это судьба решает, кому как скончать свои дни, но ведь именно я приложил руку. И к чему оправдания, к чему? Я своими руками убил человека, исполнив тайное желание. Мне бы помочь несчастному, поспешить за помощью в деревню, поднять Жабки на пяты, но я, влекомый внезапным страхом, как бы вырываясь из жуткого сна, кинулся прочь с красной горки, преодолевая гнилой ручей, проломился сквозь камыши, миновал вязкий болотистый тягун, утопая в коричневой дурной жиже по колена и, хватаясь за склизкие ветви узловатых ольшаников, выполз на другую сторону лощины, в густую поросль жилистых папоротников, задыхаясь, побарывая звенящую пустоту в груди, замиряя мчащееся сердце, наконец-то свалился в тинистую густую прель, из остатка сил еще сыскивая спасительную нору, и тут сломался вдруг, обреченно замер, прислушиваясь к внезапной тишине. Гулкая всемирная тишина стояла в лесу, и только слышно было, как стучала в висках кровь, больно пурхалось сердце, да сквозь елинники едва проникал гул большегрузных машин, взревывающих на подъеме.
«Туда надо, туда, – подсказывала беспокойная мысль, – там дорога на Москву, там попутки, а в Москве, как иголка в стогу…» И вдруг чей-то спокойный сердечный голос провещал с вышины: «Куда деваессе, куда сховаессе, милый? Везде найдут».
Затрещали сучья, кто-то пробирался лесом, разводя руками кусты чахлого малинника, жаркое дыхание внезапно обожгло щеку. Я весь напрягся от ужаса… И проснулся.
Слава богу! Сон был, сон. Гулко билось сердце, спешило куда-то, душа просилась вон. Мать бродила по избе, бурчала себе под нос: «Куда чего деваю, ну никак не найду, старая». Псишко стоял подле дивана и дышал запашистым перегаром прямо в лицо, вывалив от жары длинный язык; черные, без просвета, глаза были, как два прогоревших березовых угля, в глубине которых еще сохранялся жар былого пламени. Слава богу, снова с облегчением подумал я, то был всего лишь полдневный сон. Разламывая отекшее тело, выбрел на крыльцо. На воле стоял июльский зной, из кладбищенских ворот устало волоклись последние поклонники. С каким-то странным любопытством они взглядывали на меня, как на диковинного зверя, и тут же отворачивались, как бы устрашась моего вида. Появился Фёдор Зулус, жив-живехонек, деловито запахнул ворота, подпер батожком, чтобы не забредал скот, и вдруг, не спросясь, резко отпахнул калитку. У Зулуса было мертвенно-бледное лицо с пятаками под глазами, хрящеватый длинный нос, слегка раздвоенный, будто секанули по нему тупым ножом, сейчас призагнулся, как ястребиный клюв… Радость-то какая, милые мои, радость неиссекновенная, Боже мой! Жив соседушко, жив Зулус, грудь колесом и на тельнике ни кровинки, только шея в странных проточинах, будто ее изъели улитки. Вот ведь что набередит, когда не ко времени обратаешь подушку – милую подружку. Чур меня, чур…
В избе звенькнуло, отпахнулась оконная створка, ситцевая в голубой горох занавеска выпорхнула на волю, запахло стряпнею, только что высунутой из печи. Мать, небось, сейчас куропачьим крылышком подмазывает пироги, сметывая на столешню с прокаленного противня. Даже почувствовал, как голодная слюнка спузырилась на кончике языка и тут же иссохла, испарилась в гортань. И мимолетное видение тоже истончилось, иссякло и пропало. Я тупо перевел взгляд на Зулуса, похожего на призрак, наваждение и вместе с тем плотского до каждой мелочи; у мужика были красные сапоги с подвернутыми голяшками, и на белых пушистых отворотах налипли комья бурой землицы, будто Фёдор только что копал себе могилу и вот вылез из ямки, чтобы забрать с собою. Я еще не мог выбрести из сна, был как бы в потном бреду, и явь причудливо мешалась с блазнью. Не скрывая радости, я спросил косным языком:
– Фёдор, с праздничком Христовым! Иль чего случилось? На тебе лица нет, как из гроба. А я тебя только что во сне видел…
– Слушай, колченогий. Ты мою девку в блуд не сбивай, – грубо сказал Зулус.
– Ты что, сбрендил?
– Последний раз говорю, колченогий: не рыскай за моей девкой, не для тебя рощена.
Зулус надвигался вразвалку, как бы прогибаясь от собственной тяжести по щиколотку в рыхлую землю, глубоко просунув руки в клапаны камуфляжных штанов, стиснув кулаки, отчего казалось, что в каждом кармане у него таилось по гранате. Мне было обидно, что обозвали «колченогим», и радость во мне сразу попритухла. Чего смеяться над чужими гарями, верно? Сегодня ты во пиру, а завтра – в ящике.
Зулус приблизился вплотную и занял собою все живое пространство; он надвинулся, как человек-гора, бровастый, зевластый, с густой щетиною на крутых скульях, глаза сверлили меня из-под небес, склизкие, как налимья шкура, и сразу лишил меня воздуха; круто запахло тленом, влажной землею, сырью болотистой прели, палой иглицей, под которой вызрела свежая грибница. От гостя несло матерым кабаном, диким, сердитым вепрем, случайно поднятым с лежки. Я с тоскою взглянул в дальний конец двора в надежде, а не торчит ли на своей лавочке Артемон Баринов, не мусолит ли нескончаемую махорную сосулю. Артемон – егерь, у него ружье всегда под рукою.
Зулус надвинулся животом, и я невольно уперся ладонями в тугие жиловатые мяса, пытаясь оборониться квелыми ручонками. Но куда там, разве каменную стену сдвинешь? Мелькнула мысль: ухватить, что ли, за корень? Но неприлично как-то, неудобно, ведь не война же, не убивать же явился Зулус, да и чем таким особым насолил я, горожанин, Фёдору Горбачеву, который за дочь свою единственную готов любому голову открутить.
Зулус напирал брюшиною с озорством, иль с тем нахальством сытого, благополучного человека, что без зазрения совести истирает беспомощного в порошок; и ладони мои ослабли и невольно вскользнули в пашину к налитым соками ядрам.
– Ну больно же мне, ой как больно! – завопил я… – Это Зулус вдруг подцепил меня, будто крючьями, за обе щеки и, сдирая с них кожу лафтаками, подбросил в занебесье. Я долго летел меж пуховыми белояровыми облачками, меж сенных копен, выставленных вышним работником, и причудливых дивных птиц, похожих на райских лебедей, спиною карминножелтых, а в подбрюшье младенчески розовых, и все пытался, кружась, взмоститься божьей птице на взгорбок меж медленных крыльев. Но все было впусте, Господь насегда оставил меня, и вот я камнем грянулся на земь, угодил на бетонный старинный крест, безо всякой нужды лежавший у сарайки, оставшийся еще от прежнего хозяина, а ныне густо обросший крапивой и цветущим пустырником. Но отчего-то сразу не испустил дух; не под моей ли тяжестью, но земля вдруг расступилась, как от землетрясения, и подо мною оказалось бездонное провалище, но я не рухнул вниз, но как бы поплыл на кресте, кругами опускаясь вниз, как на ковре-самолете; пропасть была прозрачно чиста, словно осеннее ночное небо, когда видна невооруженному глазу каждая звездная пылинка, и, изумясь, уже позабыв Зулуса, я воскликнул: «Господи, какая там глубина!» И застонал от неведомой боли, скрутившей сердце, от тоски, что уже никогда мне не бывать на земле…
– Сынок, проснися. Ну что ты кричишь как зарезанный. – Мать с тревогою трясла меня за плечи. Я беспамятно еще, с великим трудом открыл натекшие плесенью глаза, едва понимая, что все мне лишь набредилось. Сквозь едкую накипь слез увидал размытое, такое родное материно лицо, туго обтянутое морщиноватой кожей, смуглое, слово бы навсегда прокаленное однажды сухим жаром июльского полдневного солнца, с круглыми сорочьими глазами. Мать гладила мою голову птичьими прозрачными лапками, будто помазывала меня глухариным крылышком, как сдобный рыбный пирог, и участливо укоряла:
– Ну что ты, сынок, не ко времени улегся спать. Воля, Пашенька, человека портит. А ты волю почуял. Вот таки сгниешь на диване и лет своих не услышишь… А я-то, Пашенька, до семидесяти годков возраста не знала, думала веком так – бегом да вприскочку. Бывало, схвачу корзину да в лес по ягоды. В лес тропкой не браживала, все прямиком. Сучья из-под ног, как воробьи, только отлетывают…
Я сел на диван, остужая ступни о половицы крашеного пола, сердце отчаянно колотилось, готовое выскочить из грудины; и никак не мог взять в толк: иль я кого надысь укокошил, иль меня нынче прикончили. Сон призатуманился, потерял остроту, но в груди оставался дурной осадок, как предчувствие чего-то неизбежного. Мать бродила по избе неторопливо, часто прихватывалась, будто невзначай, то за дверной косяк, то за край столешни, иль, приподняв конец вафельного полотенишка, задумчиво гладила приотмякшую стряпню, прищипывала пироги за румяные боки, стукала по донцам кулебяки с рыбою – не отволгли ли. Сорок лет Мария Степановна простояла на пекарне у квашни, тонны теста понянькала руками, без устали кормила деревню хлебами, и там – под столом на полу, повеянном тонким снежком мучных высевок, – не однажды сыпывал я, окруженный хлебенными запахами.
Наклонившись над пирогами, мать бормотала:
– Нынче праздник, дак печеное ись надо. Когда праздник, дак печеное едят. Так у нас в Нюхче исстари велось. Иль позабыл, Паша? А тут, в Жабках, будто и не люди живут. Все покупное, одни батоны, зубы не берут. В худое место ты приволок меня, Паша… И на кой ты волочишь меня за собою, как чебодан без ручки? На кой ляд я нужна тебе старая? Вот доживешь до моих лет и поймешь, что старым людям надо на одном месте сидеть. Потому что стары люди никому не должны мешать.
Я краем уха слушал привычную материну песню, не вникая в ее смысл. Грустная была та песня, с намеком о близком конце, де, смерть за дверью, де, хватит терзать старую, а вези-ка без промешки к родным могилкам. Где ни бегай по свету, а ложиться надо в свою землю.
– Увез бы ты меня, Паша, домой. Изба еще совсем хороша, а имения сколько зазря пропадает, наживано ведь было, сколько труда трачено. Дров за два года не истопить, да шуба овчинная, да пальтов целых три, да платьев большой сундук. И, эх, сынок, живу я тут у тебя, как мыша в чужом чулане, и ворохнуться боюсь. А вдруг что не так… А на родине, бывало, иду, всяк поклонится и приветит: «Здравствуй, Марья Степановна. Скажи, голубушка, как живешь-здравствуешь». А туть немтыри, ей-богу, глаз навстречу не подымут, губ не разожмут, словечка доброрадного не кинут…
Что тут сказать: воистину, родина притужает христового человека, не дает спокойно спать, все зовет к себе, подбивает в боки середка ночи, все позывает бежать на станцию за билетом: де, не опоздай. А раздумаешься – и оторопь: куда, братцы, ехать, коли все сгнило и порушилось. Великая страна пропадает, можно сказать, ни за полушку; лишь тем и живет, что припала к нефтяному кранику. Бог милостыню кинул невесть за какие заслуги; а перекрой последнее – и от жажды околеет.
– Был я, матушка, в нашей Нюхче, ведомы мне твои сказки. Нынче каждая побрехонька для тебя, как сусальный леденец, а не студеная сосулька.
Пять лет тому едва добрался на случайной попутке, чуть коньки не отбросил, когда через Кен-озеро в кузове ехал. Погрязла деревнюшка в снегах, сиротские дымы кое-где, тропка по порядку едва видна, хлебов неделю не привозили – дороги нет. Сугробы по окна, будто все вымерли, едва пробился к родному порогу. Зашел в дом, мать и не ждала. Сутулится у буржуйки, как нищенка, в старом салопе, подпоясанном веревкою, лицо в саже, на коленях чашка с варевом, руки в рукавицах, ложку едва держит старая, глаза окуневые от дыма, чуть видят, обметаны трахомою. Эх, вдовья жизнь, что редька с квасом: и брюхо набил до изжоги, а урчит, словно не ел. Увидала, встрепенулась, а встать не может. Заплакала, стянула варежки, а ладони, словно кипятком обварены, кожа слезла. Взмолилась, запричитывала:
– Бог тебя послал, сыночек, услышал мои моленья. Пашенька, не могу боле тут жить. Устала. Не могу боле…
И вот три года побыла на стороне, и нынче каждый прожитый день, как каторга, словно родная деревнюшка медом намазана. А куда везти? Старого одра с живодерни не ворачивают; поди, пропал совсем домишко за эти годы; и прежде в подоконья кулак проходил, мыши половицы изъели, жучок потолки источил в труху: плечом подтолкни – и посыплется изобка. Одни дрова, одни дрова, только некому топить…