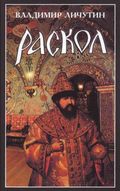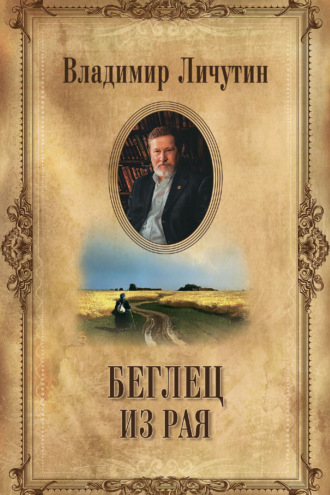
Владимир Личутин
Беглец из рая
– Мой-от покойничек тоже говаривал, я, де, не пью, а лечуся. Нашли лекарство. Уж худой лежал, еды желудок не примал. Найди, говорит, выпить. Ну я нашла, от Гавроша прятала. Дед с палец выпил, нет, откинулся на подушку, глаза закрыл и говорит: «Сразу помягчело. Хорошо-то как. Остальное, как помру, положи в гроб. На том свете выпью». Я так и сделала… Вот вам, мужикам, до чего вина хочется. Иному и женщина не нужна, а вино подай. Он-то, Зулус, тоже огоряй хороший. Так-то тверезый, ну а как запьет, тут… И мстительный такой сразу делается, спуску не даст…
Анна, чувствуя ягодицею мою лодыжку, нарочито помялась на моей ноге, сделала удивленные глаза:
– Да у нас, кажись, там что-то есть? И неуж такой ядреной? Ха-ха! У Левонтьича, твово соседа, вот такой, – старуха раздвинула ладони. – Он в сапог закладат. Мне-то все гоношится: Анна, пойдем за баню. Ха-ха…
Я покраснел, осторожно вытянул из-под старухи отекшую ногу, с нетерпением ожидая, когда явится Марьюшка и освободит меня из полона.
– Анна Тихоновна, вы меня, честное слово, просто удивляете. О Боге пора думать, а вы… И неуж сердце просит?
– Баба до смерти любви хочет, – убежденно сказала старуха, пошевелила истерзанными крестьянской работой пальцами, сжала в кулак. – На что похож? – сунула мне под нос. – На сердце похож. И тоже до смерти работает на износ… Вот ты акгрисульку сюда возил, у нее титьки были, как подушки. А я чем хуже? – Анна гордовато повела плечами, покрытыми бордовой нейлоновой курткой, и даже присбила, красуясь, легонький цветастый платочек. Оборчатые сизые губы разошлись в хвастливой улыбке, показался железный подбор зубов. При виде разыгравшейся старбени я даже похолодел слегка и внутренне сжался, словно бы долгий ночной сон вдруг получил неожиданное продолжение, и та самая русалка, спрятав чешуйчатый рыбий хвост под юбкой и наведя густой грим на лице, решилась сыграть роль престарелой любодевицы, у которой сердце ярится и не дает покоя…
Все шутки, конечно, деревенская игра: в любой избе и не такое представление застанешь, если угодишь на праздничные потехи иль на семейные свары.
– Я тебя, Анна Тихоновна, боюсь. Честное слово, боюсь. Мне с тобой не сладить. Ведь, как из загса, то с улицы в дом надо невесту на руках занести. Как я такую медведицу вздыму?
– Дурачок ты, дурачок. Да я сама тебя занесу. Ты меня не бойся, Павлуша, ты Зулуса бойся. За ним горя ходят. Такой он меченый.
– За всеми нынче горя ходят, Анна Тихоновна. Покажите мне веселого человека…
– Веселого мало, Павлуша. Зулуса Бог пометил. Да… Когда его с работы попросили, он вернулся с северов в деревню. Грунюшка, его мать, уже на лавку села, ногами пухнуть стала. Ну и оказалась, значит, в обузу. Зулус справки в сельсовете выправил, что Грунюшка безнадзорная и бездетная. Врачам ручку подмазал. Грунюшка-то умоляла: «Феденька, допокой, мне уж недолго осталось жить». Тот ни в какую. Ну и услали Грунюшку под Владимир в богадельню. Через месяц она и помри. Привезли в Жабки хоронить, не узнать было подружку. Вся искарябана – и лицо, и руки, будто кто драл женщину. А правая грудь вся синяя, как чугун. Может, с той поры пошли за Фёдором горя? Тут меньший брат по пьянке попал под поезд: нашли лишь руку и голову. Вместе возвращались с гостьбы. Тут поезд… Зулус-то перебежал, а Венька споткнулся… Хоронил брата, сильно плакал. Где-то вскоре поехал с племянником в гости за Тюрвищи. Выпили, посидели, стали возвращаться. Племянник и говорит: «Дядя, дай порулить. Пустая дорога». Зулус-то и отдал руль. Парень машину не смог остановить и въехал в угол своего дома. Жигули крепко пострадали. Зулус и говорит: «Забирай эту машину. Эта машина мне не нужна. А давай деньги на новую». Племянник-то ему, мол, где я возьму тебе такую сумму. «Это уж твое дело», – Зулус-то ему. Ну, племянник зашел в дом, а там у него было ружье. Вернулся на крыльцо да и застрелился на глазах у дяди. Вот, Павел Петрович, рассуди попробуй, чья вина перевесит… А зачем дал порулить? Опять же выпимши были…
– Не отдавай в чужие руки жену, машину и ружье, – неловко пошутил я.
Действительно, что-то странное, роковое складывалось именно с Зулусом, и он не мог противостоять этой сети несчастий, похожей на безжалостное улово. Залучило, опутало по рукам-ногам, потянуло на дно; иль отдаться покорно, памятуя о том, что у всякого кружила есть дно, и когда-то крученая струя вернется вверх, иль барахтаться до последнего, чтобы выбиться из сил и потонуть. У всякого человека случается подобный выбор, но его не подгадываешь загодя, а он сам подстерегает тебя, а уж как угодил, тут и решай, суетиться ли тебе иль во всем довериться судьбе.
– Столько смертей на одну голову. Тут и каменное сердце не сдюжит… И зачем отрубился племяннику? Мог бы как-то иначе. А то и парня потерял, и машины не вернул.
– Вспылил сгоряча. Много мы лишнего говорим сгоряча… Вот и ты своему Гаврошу молишь: «хоть бы ты сдох с вина, хоть бы залился», – мягко укорил я соседку.
– Дак ведь зло возьмет! – вскричала Анна, не тая голоса. – Пьет и пьет, лешак. Думаешь, хоть бы запился, да отплакать разом, чтобы не мучиться…
– Ты вроде бы сгоряча посулила, а слова твои – судейский приговор. Они, как тавро, на крупе лошади, как метка. А мы так любим обижать ближнего, не замечая, что слово особую силу имеет.
Глаза мои увлажнились от проникновенного тона, даже в голове замурашилось, и я чуть не заплакал. Чтобы не выдать непрошенную слезу, я заскоркал ногтем по одеялу, словно нашел сальное пятно.
– А вы своих матерей почитаете? – закричала Анна. Мое покорство лишь поддавало жару. – Вы своим матерям жизни даете? А ведь она спородила, выкормила… Вот и Зулус зачем мать не допокоил? Она-то ему: «Сынок, не спроваживай меня в богадельню. Хочешь, на колени встану. Не долго ждать-то осталось, потерпи… Умру, так после наплачешься». А он врачу подмазал, чтобы справку дал. А теперь вот и собирай горя. Все! Назад лошадь с кладбища не возит.
Я не отзывался, морщил пальцами белоснежную наволоку и во всем, безусловно, был согласен со старухою, хотя и были в словах ее какие-то закорючки, что цепляли мой ум и загоняли в тупик. В какой же страдный день был Зулусу высказан остерег, но он не внял ему. Откуда и зачем было ведать соседке, что моя головенка уже лет двадцать не знает отпусков и соображает, глупенькая, над каждым словом, разнося их по невидимым каталожным ящичкам.
– Вставай, лежень! – уже остывше, приговаривала Анна. Пыл ее иссяк, и бабьи мысли скинулись на постоянные домашние заботы. – Уже обедать пора, а ты еще и в тувалет не ходил…
– Откуда знаешь? Подсматривала, что ли?
– Да глаза красные, как у окуня, – грубо ответила старуха.
Анна со скрипом встала, долго разгибалась, кряхтя, разламывала поясницу и так, на полусогнутых, будто громадный рак-каркун с отвислыми до полу клешнями, потащилась к порогу, а там, взявшись за ручку двери, вдруг решительно выпрямилась и вновь обернулась медведицей.
10
Ночью страсть как донимало плотское. Это все от тоски-злодейки, от одиночества, от неясных дурных предчувствий, от нежелания доживать последние годы в бобылях, на сиротской угрюмой койке, когда и стакана воды будет некому подать. Это в народном представлении самое страшное. Самые бесхитростные слова, коими обычно укоряют холостяжку-перестарка, де, доживешь вот до таких лет, что один належишься, и глотка воды никто не подаст, но в них-то и скрывается драма человечьего бывания, его предназначения на земле – свить гнездо, укупорить его так, чтобы не подточили сеногнойные дожди и не обрушили бури, да наплодить детишек мал-мала, чтобы по ним, когда вырастут, продлилась родова, а значит, и человечья память. Ибо истина в том, что искренняя память хранится не в мраморных плитах, не в кладбищенских надгробиях, не в гранитных склепах, но в человечьих головенках, в коих вроде бы так непрочно запечатлевается образ ближнего, но, кочуя по цепи прекраснодушных людей, он вдруг обретает, воистину, вечный смысл. И особенно, когда ты творишь дела доброчестные или крепко злодейские, от которых леденеет кровь…
Еще возвращаясь от Зулуса и озирая одичалым взглядом едва проступающие из тьмы изобки, тусклую льдинку воды в обмелевшем пруду, серебряную рыбку месяца, я вдруг решительно подумал, как о последнем спасении, как вернусь в Москву, так сразу приду на исповедь к отцу Анатолию и попрошу благословения на женитьбу. Взмолюсь, паду в ноги, вот, мол, спасу нет больше, возложил ты на меня терновый венец, ярмо несносимое; де, где я сыщу вдовицу иль девушку невинную, да чтобы мне годами вровню, ибо куда ни кинешь взгляд, к кому ни присмотришься, и коли мила сердцу, то обязательно она иль разведенка, иль мужняя жена, иль слишком юна, иль капризна и требовательна не по уму, иль слишком благочестива – почти ханжа, или монашена в миру, иль денег больших хочет, не трудясь, иль детей, опять же, не терпит. Сколько препон, сколько всяких неурядиц встает на пути благочестивого человека, если он решил обзавестись семьею.
Был же у меня приятель, художник, у которого умерла любимая супруга, и по прошествии времени, не стерпя одиночества, решил он в другой раз жениться, с этой мыслью начал поиски подруги и чуть не сошел с ума. Он хотел рассказать мне о своих злоключениях, но в тот самый вечер, когда я должен был прийти к нему на квартиру, милейший человек вдруг вздел себе петлю на шею. Урок, который он собирался преподать, так и не дошел до меня.
Вот и спрошу батюшку: и неуж ты мне желаешь подобного зла иль хочешь закрепостить в одиночестве ради науки, ибо много тут мне видится умышленного, почти неистового, отчего ум мой приходит в некоторое смятение. Скажу, разреши мне взять в жены ту, что мила взгляду и незлобива, хотя бы и моложе была намного иль разведена. Ведь ровня-то кроится по душам, а не по летам. Вот выскочит, к примеру, девушка за погодка, а тут вышли из магазина – и сверху кирпич на голову. К кому претензия, батюшка? То-то… Взмолюсь, окаянный: «Ну не могу я один жить, ну не могу, живым умираю: что ни съем, отравлюсь, что ни одену, простужаюсь».
Есть тут одна на примете, поет на клиросе. Ну прямо – ангел. Как взгляну на девоньку, сердце кровью обливается, столь ли хороша, ну прямо всем взяла: и повадками, и фигуркой, и взором, и голосок умильный. Взгляды столкнутся – сразу очи долу и на щеки румянец. Стеснительная, значит. Перебросились словом, другим. Однажды взял быка за рога, спросил, согласна ли за меня замуж? Головой кивнула: да. Прошептала: «Если батюшка согласие даст». А батюшка ни в какую, де, не по себе сук рубишь, не по твоим летам кобылка: иль она тебя с седла сбросит, иль ты ее до сапа загонишь… И пришлось мечты те из головы выбросить. А сколь хороша-то, другой такой во всем мире не найти. Это ж какое счастье, вставая по утрам, видеть ее возле.
Оглянусь, в окнах Зулуса яркий свет. Вот где сладкая-то жизнь, аж слезы на глазах вскипают. И за что же тебе, колченогому, такая немилость, отчего Танюшка не с тобой окольцована, а с этим хмырем, у которого кадык прыгает, как куриное яйцо, а в глазах ни теплинки, сплошной холод. А я бы эту женщину на руках носил, как пасхальный куличик, пылинки бы с нее сдувал, ведь во мне столько ласки скопилось…
А ночь лишь минула, и все недавние переживания, как хмарь, как дым костровой весенний, от запаха которого вдруг так истомно встопорщит сердце, будто от молодого вина. Но, однако, все блажь – и больше ничего. Если от каждой юбки кружит голову, значит, не видать тебе крепкой семьи.
Да нет же, нет, негулеваня, не волокита и никакой не донжуан, чтоб пенки невинности снимать. Тревожит один и тот же тип русской девушки, как бы слепок с недосягаемого образа, и невольно отражение его накладывается на каждую встреченную, и душа иль сразу отвергает ее, иль обмирает. Это на небесах для каждого парня высватывается своя голубица, своя княгинюшка, и эта икона, спускаясь на землю, как бы запечатлевается в сердце суженого, и он ее хранит в себе до скончания жизни, не зная, откуда в нем зародился идеал и почему о нем такая тоска. Иное дело, что очень редко в толпе отыскивается завещанная и чаще всего – случайно. И тогда ты повенчался с невестою не просто в церкви, а на небесах, и в храме возле налоя обряд был лишь повторен…
Какой красивый миф насочинял я, психолог Хромушин, в оправдание своей семейной нескладицы. Де, не совпало-де, поторопился и заблудился-де, помануло и обернуло… Увы, последнее, пожалуй, самое правильное, кота в мешке берем за себя; невеста – чистый ангел, а в жизни – сущий дьявол в юбке. Вот и пойми их, крапивное семя – женское племя. В народе-то куда все проще: «Бери быка по рогам, парня по мудям, корову по вымени, а девку по имени». Это грубоватое присловье, наверное, восходит к тем древним временам, когда будущая свекровь осматривала невестку, а тесть – зятя. А может, говорилось: «Бери парня по трудам» иль «бери парня по родителям», по их достатку, норову, благочестию. И не мила вроде бы первое время, да после стерпится-слюбится. А еще говорят: «Бери за себя ту, которая на тебя смотрит». Или: «Бери ту, которая глянется».
Мудер ты, Павлуша, задним умом. Уж вторые петухи пропели, а ты вновь семью водить собрался. Как бы не наплакаться после. Пора деревянный бушлат примерять да место на горке присматривать, старый хрыч. Бес тебе в ребро, ей-ей. Нейдут, милый, тебе все науки впрок. Но других учить шибко любишь, хлебом не корми.
* * *
Марьюшку я нашел в заветном уединенном месте, куда она частенько забивалась, как в скорлупу, словно бы возвращалась назад в материну рожалку, и, свернувшись в клубочек, подтянув колени к подбородку, замирала надолго иль свертывалась в клубонечек, будто улитка в укромной пазушке боровика, прильнувши к теплой, пахучей, ноздреватой бахроме.
На замежке в дальнем конце огорода, где из года в год лежат нетревожные суходолы, повитые мелкой шелковистой осотою, растет могучий вяз, подпирая головою кучевые облака, а то и пронизывая макушкой слоистые дождевые ряднины, выстилающиеся над деревней. Сколько лет этому великану, в Жабках не припомнят, но верно, что стоял он еще в те поры, когда деревеньки не числилось, но жил на пустошке однодворец – рыбак, не убоявшийся половодий и приткнувший свою хижу под самый берег реки. А тогда времена были иные, и Проня была иной, лихой, полноводной, струистой, по ней гоняли плоты и таскали бурлаки баржи, по ямам водились трехпудовые сомы и пудовые щуки, а с Оки заходили судак и стерлядь. Вон тот, дальний, синеющий ольшаниками берег и выдает прежнее, давно утраченное русло, которое со временем скукожилось, ее дивные разгульные вешницы, когда льды, похожие на стада разлегшихся тучных коров, выставляло аж на домашний крутой берег (где нынче кладбище), к которому и приткнулись покорные Жабки.
Мне нравилось измерять охватом рук кряжистый ствол, теплый, шероховатый, с глубокими трещинами от старости, будто изъеденный поползухами. Он словно бы покрыт был глинистосерыми лемехами, малахитовыми по швам, ловко укладенными друг по дружке мастеровитой рукою, без единого гвоздя и особого клея иль вара, надежно защищающими твердую, как железо, болонь и незатихающее сердце дерева. По моим примеркам, вязу было лет за двести, корни, как сытые питоны, выпирали наружу; словно бы из клубка полусонных щупальцев осьминога, прорастала длинная шея с крохотной волосатой головенкой, высматривающей, что творится в небесах под самым солнцем. Вяз вполне мог бы стать капищем для древлян, новых язычников, верующих лишь в дух сырой земли, как матери-роженицы. Если бы оказался он волею судьбы где-нибудь в ковыльной степи, то к нему бы со всего света потянулись паломники, вывешивали бы по корявым ветвям разноцветные лоскутья, откалывали бы от великана осколки коры для лечения зубов и почечных колик. На вершине его наверняка бы гнездился орлан – владетель местных уловищ. В жаркий день одинокий путник обязательно бы бросил на припорошенную трухою землю свой потасканный пиджачишко и, не долго разглядывая цветные ленты, трепещущие под ветром, смежил бы веки и задал бы короткого, но весьма полезного для здоровья храповицкого.
Приобнимая тело великана, с одной стороны рос разлапистый можжевеловый куст, чудом пробившийся на чужинке, и в этом месте оказался засидок, сторожка, скрытая, куда можно было упехаться в знойный день, бросив под ноги пальтюшку иль поставив сидюльку. Матушка же моя положила туда дощечку и обжила потаенное место, хотя, казалось бы, чего прятаться от людей, в избе не семеро по лавкам, не надоедят криком. Значит, даже я раздражал Марьюшку порою своим присутствием, выдавливал ее из кухни, заставлял искать одинокого места, чтобы полностью отдаться своим мыслям. Старая без людей тоскует, потому часто вылезает на лавочку перед избой, чтобы переброситься словцом с проходящими иль просто поглазеть, иль ползет к соседнему палисаду, где уселась на скамье на долгую минутку другая старбеня, но краше всего, оказывается, монашьи минуты полного утекания в тишину, растворения в матери-природе, превращения в безмолвную соринку, затерявшуюся меж древесного праха.
Осторожно, стараясь не шуршать осотой, я подкрался к вязу, опустился на колени, в прожилках меж паутины молодых веток, густо опушенных еще не затвердевшей хвоею, отыскал глазок для тайного досмотра. Как я и представлял, Марьюшка моя ютилась там, уткнув голову в острые коленки, и о чем-то думала, присомкнув веки. Сумеречно было в схороне, и от зеленого туманца, витающего в шалашике, лицо Марьюшки казалось тонким, нежным и молодым. Приобвяленная темная кожа как бы вобрала в себя все морщины, прильнула натуго к скульям, и сейчас мать моя походила на древний староверческий образ Богоматери, чудом покинувший деревянную досточку. Платочек шалашиком, присдвинутый на затылок, тонкие волосы на пробор, отложной воротник кофты, скрывающий худую потрескавшуюся шею. В каких просторах она парила умом, в какие дали слетала, о чем помыслила? А может, ни о чем и не думала, изнежась плотью в прохладе скрытни, а просто отдыхала всем измаянным, изжитым существом своим, сливаясь с матерью-землею, готовясь к переходу в ту заветную пустыньку, откуда нет возврата. Итак, погрузившись в себя, Марьюшка могла сидеть, не шелохнувшись, и два часа, и три, пока стылость от древесного праха и шершавых кореньев не проливалась в ее измозглые кости и нытье старых мослов не доходило до сердца, и тогда Марьюшка выпрастывалась из плена раздумий и, пошатываясь, как бы хмельная, огородом спускалась к дому, чтобы снова хлопотать обрядню.
Спросил однажды Марьюшку: «Мама, о чем ты думаешь, когда вот так сидишь?» – «А о чем, сынок, думает старый человек? – просто ответила Марьюшка. – Старый человек думает о смерти с утра до ночи. И помирать бы надо, пора приспела, и помирать неохота…»
Сейчас, занятая собою, телом своим слившаяся со шкурой вяза-великана, она, казалось, была уже по ту сторону света, уже недостижимая для меня. Я испугался внезапно, что могу потерять ее навсегда, и тихо позвал, стараясь не выпугать:
– Мама!..
Марьюшка не всполошилась, нет, она даже и не вздрогнула, но мерно перевела остывший взгляд в мою сторону, нашарила меж розвеси ветвей мои глаза и спросила сухо:
– Ты давно здесь?
– С год, наверное, а то и поболе…
Но Марьюшка не поняла моей шутки, тревожно вскинула голову, как будто разговаривала с привидением. Она неохотно возвращалась с той стороны, и только жалость ко мне пока оставляла старую на этом берегу.
– Ты взаболь?..
– Не вру… Мама, а можно я посижу рядом. Ты – щепинка, я – щепинка, прильнем и уместимся. Мне много места и не надо. А то мы всегда разделены то обеденным столом, то ненужным разговором, то печалями, то заботами. Ты, как птичка болотная, как турухтанчик, – один нос, – посмеялся я, стараясь вывести матушку из страны смерти. Я отчего-то догадывался, что она сейчас побывала там, и грусть от встречи с будущим все еще держит ее на расстоянии от живых.
Я пролез в шалашик и в действительности, по сравнению с Марьюшкой, оказался грузным, тельным и занял все тенистое укрывище, лишил матушку блаженного уединения, покусился на ее свободу. Марьюшка, как беззащитный небесный барашек, оказалась где-то внизу, под плечом, и крохотные коричневые лапки, покрытые просторной обвисшей кожею, казалось, были всунуты в чужие разношенные перчатки, но все так же цепко обнимали шишковатые коленки. Я прижал Марьюшу к себе, ладонью ощутил ее слабые хрупкие косточки, беззащитное безмясое плечико. От нее пахло старым, изношенным, смертным, как пахнут очень старые люди, из которых уже выветрилось все живое, а изо рта вылетает горьковато-удушливое прощальное дыхание.
Марьюшка не отодвинулась, она даже не сшевельнулась, не уступила и краешка своей волшебной досточки, на которой можно улетать в другие миры, и я с трудом уцепился за конец сидюльки одной ягодицей, а вторая половина тела оказалась на воле, под раскидистой сенью вяза…
«Боже мой, куда все отлетело?» – поддаваясь настроению матери, подумал я. Давно ли Марьюшка была тельной, с заревом румянца во все широкое, скуластое лицо, с тяжелым ворохом волос, которые едва продирал роговой гребень, испроточенный когда-то мастеровитым дедом на звериных ловах. Я лежу под столом на полу, покрытом тонким сеевом муки, и соображаю по-мальчишьей привычке каких-нибудь кудес и проделок, чтобы убить время, а мать, будто молотобоец, лупит кулаками, выминает шмат теста, такой огромный оковалок, которым накормит целую деревню, переваливает его с боку на бок, нянчит и прихлопывает добродушно, вынимая из него леность и лишнюю истому, потом режет на ровные доли и швыряет в закопченные формы. Я знаю, что под материной рукою всегда останется, будто случайно, заскребыш из чана, ощипок от катыша, из которого мать сварагулит мне пышечку с «таком», загнет кренделек или плюшечку, посыпав ее сахарным песком. После зевластая, в пол-избы, печь заполыхает заревом, а так как обрядня обычно творилась в ночи, пока деревня спит, то языки пламени, как рыжие собаки, замечутся вдруг по углам пекарни, добывая меня из норы, и вся зоревая, будто покрытая кумачами, стряпуха застынет возле творильни, дожидаясь протопки, и уставится взглядом в чело, как горновой у мартеновской печи. И вот времени того уже нет, и мать прогорела, как березовое поленце, остался лишь живой, едва искрящийся уголек с последними уходящими струйками тепла.
– Человеку нет дела до мертвых, и тогда мертвые помирают другой раз, – вдруг нарушила тишину Марьюшка, уставясь в колючий полог можжевела с розвесью крохотных, со спичечную головку, голубых ягодинок.
– Это ты к чему?..
– Мне всегда мать к оттепели снится. А тут отец показался, напомнил о себе. Десять лет не снился… Стоит на берегу реки, река похожа на нашу Суну, но пошире, кажет, да. Этот берег голый, каменистый, а другой – лазоревый, сияющий. Ну я удивилась, спрашиваю батюшку: «Ты разве не там?» И показала на небо. А он сказал: «Здесь. Перевожу на ту сторону. Перевозчиком работаю». – «А за что тебя отметили?» – «А когда царя с детишками стреляли, я молился тогда и горько плакал. И вот Бог меня отметил. Теперь перевожу мертвых».
– Так и сказал? – удивленно переспросил я.
Тот сказочный недостижимый свет вдруг приблизился на расстояние вытянутой руки и стал различим в мельчайших подробностях. Каменистый берег, хмурая сизая река, черная остроносая лодка, сиреневая дымка на той стороне и задумчивый работящий дед с веслом, кочующий из небесного мира в земной. Он где-то погиб в сибирях в одном из лагерей, закопан под мхами, истлел до белояровых бессловесных косточек, а может быть, и не зарыт вовсе, выброшен за сопку, как падаль, и пожран песцами, и вот явился с того света с вестью к дочери, дал знать о себе, а может, и намекнул, де, собирай, родная, вещички. Значит, и перевозчик Харон – не сказка, и река мертвых – не пустая выдумка священцев, и все это живет где-то рядом с беседкою из можжевела, в которой затаилась печальная Марьюшка.
– Надо свечку поставить, – глухо сказала мать. – Ишь, вот позвал. Не знала, где закопан, а вот сказался.
– Не надо о грустном. Жить будем долго, да? Ну куда без тебя? – поддельно бодрым голосом воскликнул я, почувствовав в признании матери горькую правду.
Порыв ветра прошел верхами, причесал макушку вяза, полетели семена, посыпались белые, как изветренная кость, сухие сучья и клочья древесной шкуры. Вдали треснуло, сгрохотало, словно у реки раскатились из штабеля бревна, догоняя и стукаясь друг о друга. Небо почернело, и в схороне совсем стемнилось, как в ночной изобке, когда внезапно погаснет свет. Матушка моя совсем пропала, только раздавалось сбоку ее мерное натужное сопенье. Я сжимал сухое плечико Марьюшки, словно боялся потерять, но чувствовал в нем непонятное сопротивление, будто старенькая отодвигалась упорно, уже собираясь с пожитками в путь.
– Позвал… Да я-то не у места. Совсем несобратая. Свез бы ты меня, сынок, на родину, – неуверенно попросила Марьюшка, и голос ее обидчиво дрогнул, словно я уже отказал в просьбе.
– Опять за свое? Тебе со мною худо, да?
Сердце защемило от предстоящего канительного разговора, что повторялся уже в сотый раз. Умом-то я понимал, что мать права, ее терзают мысли, что она застряла в чужом месте вовсе без пути, сама себе закрыла дорогу, польстившись на жизненные удобства, что не могла вытерпеть юдоль свою, поддалась нервам, захотела благополучия, и вот теперь получай расплату. Назад возврата нет, транспорт дорогой, все связи обрезаны. Хорошо хоть на хлеб хватает, не ходят по людям побираться.
Я читал мысли Марьюшки, как свои, и от этого мне становилось еще горше. Все какие-то перетыки, несрядица, и вот и сам-то я окопался в болотных Жабках, до которых мне вовсе дела нету Меня, будто пушинку одуванчика, сдуло ветром со стоянца и понесло по белу свету, пока не зацепился за придорожный лопух…
– Мне не худо с тобой, Павлик. Ты должен понять меня правильно и не обижаться… Я вот не у места. Как ты хошь… Я женщина уже старая, а старым не пристало мешать, они должны как-то жить сами. А я только путаюсь у тебя под ногами, как чебодан без ручки… Старому человеку нельзя далеко от родимого места съезжать. Где гриб родился, там и пригодился.
– Перестань! Прошу тебя, перестань. Зима скоро, замерзнешь одна, околеешь. Схоронить будет некому. Мыши съедят. – Я нарочито сгущал краски, чтобы образумить Марьюшку. – Изба прохудилась, в дырья ветер свищет, мыши обои обгрызли. С ума сошла?
– И ничего не сошла. У меня дома богатства-то сколько кинуто, ой! Одних дров на пять зим. Сколько ли поживу, сынок, как Бог даст, – укреплялась в своем мнении мать, но уверенности в голосе не было. Какая-то трещинка сквозная разбивала ее, ибо понимала старая, что никто ее в Нюхчу не повезет, и все ее пересуды лишь для красного словца, чтобы скоротать время. Но как сладко, однако, будоражить душу, тормошить, вгонять в смуту и после долго переживать за отчаянное решение в своем углу, охая, пристанывая и крестясь, пока-то не потухнет оно в усталом забытье. – Люди как-то живут, верно? Лавка есть, сброжу, мороженую курицу куплю, на неделю хватит. Сосед Мишка рыбки даст, за бутылку с ведро насыплет. А рыба в Нюхче скусная. Здесь-то как бы прелая, на тину отдает. А на Чайке сиги жирные. Вода светлая, и сиги жирные. А на Пачуге вода, как смола. Я удивилась, сколь черная. Окупнешь руку, так вода-то с пальцей, как деготь. Ой-ой. Отец, покойничек, не любил туда ездить, потому что рыба невкусная. А по Суне рыба опять не жирная, но вкусная, мясо крутое… Бывало, отец-то на охоту пойдет, лебедей набьет, да. Суп из него наваристый, жир желтый, не парит сверху. Думаешь, холодный. Я помню, хватанула ложку и ожглась. Все и засмеялись… А пушнины-то висело полное запечье.
Тата строгий был, он вольностей не терпел. Чтобы все по-евонному. Помню, как тороканов морозили, да. Выйдем, бывало, две ночи ночуем в людях, отец уже назад торопит: «Ну-ко, бабы, идите, топите избу». И заругается. Мы давай избу мыть, да тороканов выметать. А скотину держали, так мытья много, вениками шоркали, чтоб добела. Тогда ведь не красили полы, такой моды не было… Отец не любил в чужих людях жить. Сейчас тороканов прежних в деревне нет, все перебрались в города. Уйму им нет. Все черти да лешие туда, и тороканы за има следом.
Марьюшка говорила все тише, как бы засыпая, и по тону воспоминаний я понял, что внезапная горечь, тоска от разлуки с родиной опять на время отстала, дала передышку. Тут молния сверкнула совсем рядом, зашипела, как змея, разевая ядовитую пасть, даже запахло паленым, и следом такой гром ударил, что земля подпрыгнула. Марьюшка охнула и порывисто прижалась ко мне, охапила, спрятала головенку где-то под мышкою. Вяз зашелестел, заперебирал листвою. Дождь пошел плотной стеною, водопадом, и сразу по шелковистым осотам, не вспарывая земли, побежали пенистые ручьи, свернули в борозды огорода и промежки и, минуя огуречные грядки, обогнув избу, доскочили вприпрыжку к Проне по своим полузабытым окаменевшим руслицам. И тут же гроза откинулась в сторону, наверное, закрепилась за кладбищем, отвоевывая высотку, занятую усопшими. А в норище за можжевелом было покойно, сухо. Мир, ополоснутый дождем, приходил в себя, распрямлялся, пахнул терпко и пряно, видно, каждая травина, каждый цветок, вспоминая себя, ершился, отпрядывал от земли, приподымал голову, осматриваясь окрест.
– Трусиха, ты, трусиха, – подначил я мокрым голосом. Мать волгло, хрипловато засмеялась, как закашлялась, наверное, давила слезу.
– Худо мужичишко, да затульишко, – хлопнула меня по спине.
– А ты ехать куда-то собралась в медвежью берлогу. Одна-то в старом дому, как в аду.
– Одна в своем дому, как в раю. Сама себе указ… А захочу, старичка себе в пару найду. Станем поживать, как куколки. И что? За мужика завалюсь, никого не боюсь. Одна-то, как ива без огорожи, каждая коза обглодает.
– Да ты не замуж ли, мать, собралася? – спросил я мать распевно и весело, чувствуя, как она выплывает из печальных раздумий, и, давно ли еще желавшая одиночества, сейчас уже побаивается его.
– Собралась за поровнюшку-домовнюшку да за могильный крест. Ты все, сынок, шутки шутишь. Увез меня да спрятал под боком, а я все одно, как стог неогорожен, всякая скотинка ощиплет… Анна же сватала меня лонись иль нет?
– Так у Левонтьича жена на лавке еще живая. Отбить решила?
– А я подожду… У меня подруга была в Нюхче, Ольга Стяпановна. У нее батько был Стяпан и мой батько Стяпан. Красная лицом, как пламя, здоровущая, брови черные, густые, как у Брежнева. Ну к ней сватался Герой. Он был на войне контуженный, а так ничего… Иногда, правда, паралик его тряс. Тоже вдовый был, и все похаживал к Ольге Стяпановне и уговаривал пойти за него. А Ольга ему: «Отпиши на меня дом, тогда пойду за тебя». Боялась, что переживет старика, а после еговы детки выгонят вон на улку. И так года два тянулось. Потом у Ольги Стяпановны болезнь какая-то вышла, скинулась в рак. Проход заболел, да. Одного-то рожала, кажись, не могло бы случиться. Придет ко мне, плачет: сын обижает. Вишь ли: одного родила, да и тот забижает. И слезы текут, как чурки. Потом ходить плохо стала. Ходит, стулом помогает. Говорит: «Скоро ли меня Герой к себе замуж заберет?» Уж теперь в другой домок. А Герой-то, коли задумал жениться, решил крышу подремонтировать. Полез наверх, да с сердцем что-то случилось. Зашли на дом его сымать, а он уж мертвый… Ольга Стяпановна пережила его на год. За собою увел…