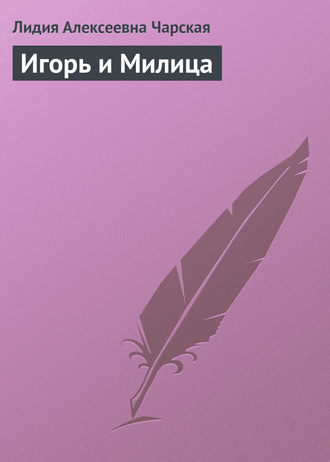
Лидия Чарская
Игорь и Милица
Глава VII
– Ишь, шельмы, как есть на прицел в нашу сторону берут, – весело бросает Петруша Кудрявцев, без устали работая винтовкой.
– И то, дяденьки, на прицел, Ишь баню задали, синие черти!
– A ты что ж это кланяешься все, братец? Вишь ты, y нас он какой: перед кажинной пулей приседает, – насмешливо проронил Онуфриев по адресу молодого купеческого сынка Петровского, который, действительно, приникал к земле под пролетавшими над его головой пулями и снарядами.
– Не больно-то лебези перед ней, братец. Кланяйся не кланяйся, a она все свое возьмет, – поддерживал Онуфриева и Кудрявцев.
– Береженого Бог бере… – начал было третий солдатик и не договорив, распластал руки и тяжело грохнулся навзничь.
– Царствие небесное, готов… На месте. Эх, жаль, хороший человек был: вот тоже кланялся парень, a она свое взяла, – сокрушались товарищи.
– A и впрямь, братцы, в нашу сторону заладили палить проклятые. Выбить бы их скореича, a то скольки они нам народу перепортят. Страсть!
– Смотри братцы, опять «чемодан» летит.[20]
– И то «чемодан». Ну, с таким чемоданом далеко не уедешь.
– Ло-жи-ись! – пронеслось по окопу, и едва только люди успели принять команду, как тяжелый снаряд неприятельской гаубицы снова пролетел над их головами и грохнулся позади окопа, роя воронкой землю и сыпля градом осколков, разлетающихся во все стороны.
– Эх, в штыки бы! – послышался чей-то неуверенный голос.
– Нельзя, покудова приказа нет… Вишь капитан сюда бежит. Небось сказано будет, когда придет время.
И время пришло.
Сосредоточенный; и суровый явился Любавин перед солдатиками-стрелками своей роты и бодро крикнул:
– Ну, братцы, дождались… С Богом вперед, в штыки…
* * *
Игорю казалось, что он видит сон, кошмарный и жуткий. До сих пор юноше не приходилось еще участвовать в штыковом бою. Это было его первое штыковое крещение, первый рукопашный боевой опыт. Стремительно выскочив из окопов, стрелки спешно строились в ряды и, штыки наперевес, устремились с оглушительным «ура», по направлению неприятельских окопов.
По-прежнему зловеще навстречу им гремела канонада, трещали пулеметы и выла шрапнель. Где-то впереди мелькали синие мундиры, кепи австрийцев и медные каски подоспевшего к ним на помощь немецкого отряда.
Капитан Любавин первый, махая шашкой, с револьвером наготове, кинулся впереди своих солдат… Стрелки с грозным раскатистым «ура» ринулись следом за своим ротным.
Как в тумане, промелькнуло перед Игорем загорелое лицо Онуфриева, с сурово сжатыми губами, выплыло на миг и скрылось в целом море огня и дыма.
– Куда! Назад! Убьют! Зря пропадешь, дите… – донеслось до слуха юноши, и снова ахнули неприятельские батареи, вырывая целые ряды серых героев отважно спешивших навстречу смерти. И снова все утонуло в застлавшем поле пороховом дыму.
Вдруг какая-то сила, казалось, подхватила и понесла юношу, сила, которой он не мог уже противиться никоим образом. Он бежал вместе с ротой, бежал со штыком наперевес захваченной им из окопа винтовки и кричал вместе с другими до хрипоты «ура», заглушаемое непрерывной пальбой с неприятельской батареи.
Вот рассеялись клубы дыма и навстречу бегущим по направлению австрийских траншей стрелкам ринулись синие мундиры австрийцев… Вот они ближе… ближе… Уже хорошо видны закаменевшие в выражении животного ужаса лица передовых рядов, сбившейся в тесную кучу неприятельской пехоты. Высокий, худой, на длинных, как жерди, ногах, австриец, размахивая саблей, первым подскочил к капитану Любавину. Грянул короткий револьверный выстрел, и в ту же секунду, выпустив из рук оружие, австриец грохнулся на землю, как-то нелепо подвернув под себя ноги.
Потом все закружилось и завертелось в какой-то сплошной хаотической пляске, пляске смерти, боевого исступления и торжества… Вдруг, совершенно неожиданно, заголосили русские пушки со стороны холма, подоспевшие как раз вовремя, к самому разгару боя. Пороховым дымом окутались верхушки деревьев. Грянули снова ответные выстрелы неприятельских орудий, и когда снова рассеялся дым, Игорь, работавший штыком бок обок с Онуфриевым, увидел воочию, как первые ряды их полка сомкнулись грудь с грудью с неприятельскими батальонами. Оглушительное «ура» слилось с каким-то диким протяжным воем… Выкрикивались проклятия… Лязгало железо… Слышались стоны… И опять бешеное «ура» загремело с потрясающей силой…
Сжатый наступающими на него со всех сторон неприятельскими солдатами, капитан Любавин отбивался от них револьвером и саблей. Прогремели один за другим еще несколько выстрелов.
Еще один последний и… оружие было выбито из рук Павла Павловича налетевшим на него солдатом-немцем.
– Братцы, не выдавай капитана! – завопил Онуфриев и поднял на штык угрожавшего капитану тевтона.
Тут же мелькнул с обнаженной саблей подпоручик Гордин, отчаянно отбивавшийся от кучи наседавших на него врагов. Потом и Гордин исчез в общей свалке… Мелькнул снова Онуфриев и тоже исчез куда-то.
Игорь Корелин продолжал взмахивать штыком без передышки. Его сильные руки работали без устали. Ловкий, проворный, он избегал направленных на него ударов и поспевал всюду, где шел самый ожесточенный бой. Вдруг, находившийся все время неподалеку от Любавина, он потерял последнего из вида. Ужас сковал сердце юноши.
– Братцы, да где же наш капитан? – хотел он крикнуть ближайшим солдатам и в ту же минуту два дюжие австрийца наскочили на него. Уже блеснуло лезвие сабли над головой юноши, но чья-то быстрая рука изо всей силы ткнула штыком в одного из нападавших и тот, обливаясь кровью, упал в общую кучу раненых и убитых.
– Ловко! Знай наших! Коси дальше! – прозвучал голос Петра Кудрявцева и он бросился в самую гущу отчаянно сопротивлявшихся врагов.
Но вот снова с горы из-за леса, занятого теперь русскими батареями, грянули русские пушки. Они словно вдохнули новую бодрость в русских богатырей. Теперь могучее «ура» полилось уже далеко впереди, над самыми неприятельскими окопами. Австрийцы и немцы беспорядочно отступали, бросая орудия и снаряды, бросая винтовки, сабли и патронные ящики. На одних передках орудий улепетывала батарейная прислуга, спасаясь беспорядочным бегством.
Продолжая вместе с другими кричать «ура» изо всей силы своих легких, Игорь вбежал на неприятельский редут в первых рядах молодцов-солдатиков, где уже к ужасу разбитого неприятеля победоносно и грозно поднялось русское знамя…
Глава VIII
Как-то сразу подоспели, сгустились на небе тучи и стал накрапывать мелкий осенний дождь. Этот холодный осенний дождь привел в чувство забывшуюся Милицу. Она с удивлением открыла глаза.
– Где я? – с трудом соображала девушка.
Спереди и сзади густели кусты и деревья. A над ними стоном стояла орудийная пальба. То и дело снаряды сносили верхушки деревьев, вырывали с корнем березы и липы… Слышались раскаты грозного «ура» в промежутках между пальбой. Потом все стихло постепенно, воцарилась относительная тишина, только победные крики время от времени вспыхивали в стороне неприятельских траншей.
Милица попробовала приподняться, встать на ноги. Положительно она была в силах сделать это, хотя и с большим трудом. Сон или долгое забытье подкрепили девушку. Боли в плече почти не чувствовалось сейчас, но зато мучительно горела и ныла голова… И тело было, как в огне. Медленно, шаг за шагом двигалась она теперь вдоль по пролеску.
По-прежнему моросивший холодный дождь приятно освежал горевшую голову. Небольшой болотистый лесок стал заметно редеть. Все менее слышным становился шум битвы. Удалялось громовое «ура», треск ружейных выстрелов и беспорядочный гул погони.
– Сражение выиграно, но кем, кем? – мучительно допытывался усталый мозг девушки.
И с трудом отвечали на это отяжелевшие мысли:
– Конечно, нашими… Конечно, русскими… Иначе разве могло так победоносно звучать это радостное торжествующее «ура»?..
Вскоре и вовсе поредел пролесок. Огромное поле расстилалось теперь перед глазами девушки. Она окинула все его пространство и замерла при виде знакомой, но всегда одинаково тяжелой картины, к которой никогда не может привыкнуть ни один даже самый здоровый и крепкий нервами человек. Все огромное пространство этого поля было покрыто убитыми, Их еще не успели подобрать разгоряченные преследованием победители. Откуда-то уже издали гремели теперь ликующие крики и шум погони. Австрийские редуты были разрушены и пусты… Словно вихрь, пронеслась по ним геройская часть храбрецов, смыла их и помчалась дальше.
Милица медленно, шаг за шагом, стала обходить лежавшие тут и там распростертые тела убитых, вглядывалась в каждое, с затаенным страхом отыскивая знакомые черты. Помимо своей роты, она, как и Игорь, знала многих солдат их полка. Многим писала на родину письма, многим оказывала мелкие услуги. И сейчас с трепетом и страхом склонялась над каждым убитым, ждала и боялась узнать в них знакомые лица своих приятелей.
Подходя все ближе и ближе к неприятельским траншеям, Милица наклонялась все чаще над распростертыми на земле фигурами. Пробитые штыками тела, оторванные руки и ноги, разорванные на части снарядами, – все это заставляло содрогаться на каждом шагу Милицу. A мысль в разгоряченной от лихорадочного жара голове твердила монотонно, выстукивая каким-то назойливым молотом все одно и то же:
– Где Игорь? Что с ним? Жив ли? Убит ли? Ранен? Что с ним? Отчего не приехал за мной? Значит убит, убит, убит…
Болезненное состояние, жар и полу притупленное благодаря ему сознание, как-то мешали ей глубоко и вдумчиво отнестись к своему несчастью. Прежнее тупое равнодушие и апатия постепенно овладевали ей… Болезнь делала свое дело… Горела голова… Озноб сотрясал все тело… И ни одной ясной последовательной мысли не оставалось, казалось, в мозгу.
Вдруг Милица насторожилась. Странная картина представилась ее глазам. У самой траншеи, y первого окопа неприятеля она увидела нечто такое жуткое, что сразу привело ее в себя. Она увидела, как один из лежавших тут неприятельских солдат, которого она сочла мертвым в первую минуту, вдруг приподнялся и пополз по направлению лежащего неподалеку от него русского офицера. Держа в зубах саблю, медленно и осторожно полз немец. Вот он почти достиг русского.
Последний как раз слабо застонал в эту минуту и сделал чуть заметное движение.
Что-то знакомое показалось Милице в бледноме тще этого офицера… Знакомое и дорогое… Да ведь это капитан Любавин! Это Павел Павлович! – подсказал ей внутренний голос. Неужели он опасно ранен? Может быть смертельно? Но почему же он здесь лежит?.. Вот он движется… Вот опять… Действительно, в эту минуту приподнялась окровавленная голова и снова тяжело опустилась на землю…
A немец все приближался и приближался по направлению беспомощно распростертого Павла Павловича. Теперь он вынул саблю изо рта и опираясь на нее, стал тяжело приподниматься на ноги. Вот он поднялся с трудом и шагнул еще и еще раз к Любавину. Вот порылся в кобуре, достал оттуда револьвер и стал целить прямо в грудь русскому офицеру.
– Спасите капитана! Спасите! Его хотят предательски убит! – крикнула вне себя Милица и, собрав все имевшиеся y нее силенки, рванулась вперед.
Не ожидавший ничего подобного, немец дрогнул и выронил из рук револьвер.
Этим воспользовался лежавший по соседству с офицером солдат. Он приподнялся на руках, и прежде, нежели убийца успел отпрянуть, грянул ружейный выстрел, и коварный тевтон растянулся на земле с простреленной головой.
– Онуфриев! Дядя Онуфриев! – узнав солдата, закричала Милица, стремительно бросаясь к раненому.
– Митенька! Дите милое! Да откуда же это тебя Господ принес? A мы уж думали промеж себя: сгинул, погиб, помер наш Митенька. Горя и то сам не свой был, – ронял дрожащим голосом Онуфриев.
– Так значит жив и Горя? Жив и не ранен? – вся так и встрепенулась Милица.
– Жив, жив наш дите, Горенька, милостью Божией жив. Сам видал, как соколом взлетел он одним из первых на неприятельские укрепления. Молодец, герой, что и говорить. A вот капитан-то, ж приведи Господь, никак Богу душу отдать собирается?
И Онуфриев шопотом произнеся эти слова, с тревогой склонился над тяжело раненым Любавиным.
– Что, ему плохо? – трепетно осведомилась Милица. – A вы-то сами, Онуфриев, как вы-то себя чувствуете? Ах, как хорошо, что вы успели убить этого злодея, не то… – лихорадочно говорила девушка.
– Не я, a ты, дите, меня опередил, – отмахивался Онуфриев. – Кабы не ты, – капут, смерть была бы нашему начальнику, отцу родному. Потому, шибко он ранен в ногу и в голову. Ему бы с извергом этим и подавно не справиться. A ты подоспел, и несчастью помешал. Так крикнул, что, кажись, мертвого бы разбудил своим криком…
– Ну, a вы? Вы сами-то опасно ранены, Онуфриев?
– A кто ee знает, опасно либо нет. Видать, не опасно, коль смог зашибить злодея-немца. Да и то сказать про нашего брата: умрешь – не дорого возьмешь. Начальников вот куда жальчее, господ офицеров. Помочь бы надо нашему капитану, авось не поздно, отнести бы его на перевязочный пункт.
– Боже мой! Да ведь это невозможно! Вы сами ранены, a y меня не хватит на это силы, – убитым тоном произнесла Милица.
– A вот попробуем… Ваше высокоблагородие, a ваше высокоблагородие, произнес, уже обращаясь непосредственно к офицеру, Онуфриев, – дозвольте вас потревожить… На пункт, значит, отнести. Видимо еще не приспели санитары. А, пока что, мы и сами справимся. Обопритесь на меня, ваше высокоблагородие, обхватите за шею, я вас и приподниму, склоняясь над раненым, говорил Онуфриев.
Но, капитан Любавин, казалось, и не слышал того, что говорил ему солдатик. Он только тихо, протяжно стонал в ответ на слова верного рядового. Тогда Онуфриев обратился к Милице:
– Ты вот что, пособи мне, дите. Я присяду на корточки, благо рана-то y меня в боку, так ништо ей – дозволяет, a ты руки-то их высокоблагородия мне вокруг шеи накинь, да винтовку подай мне мою, на нее опираться стану. Вот и ладное дело, как-нибудь справимся вдвоем.
Действительно, справились. И не как-нибудь, a очень успешно и быстро. При помощи Милицы, Онуфриев, сам раненый в бок осколком шрапнели, с трудом взвалил себе на плечи капитана и потащил его по полю. Милица, поддерживая сзади раненого офицера, не отставала от него ни на один шаг. Стиснув зубы, чтобы не застонать от боли, Онуфриев весь согнувшись в три погибели, едва не падая под тяжестью ноши, едва передвигал ноги. Капитан Любавин был в полном забытьи. Он стонал все слабее и глуше и, наконец, совершенно замолк.
– Никак помер? – испуганно прошептал Онуфриев, и вдруг сам зашатался. Алой струей брызнула кровь из раны в боку и, не поддержи его вовремя под руку Милица, герой-солдат упал бы вместе со своей ношей на землю.
– Постой, дай отдышаться и пойдем с Богом далее… – тяжело переводя дух, произнес он, зажимая кровоточащий бок выхваченным из кармана платком.
Передохнули немного. Милица перевязала рану солдату и снова поплелись дальше… Уже на полдороге встретили их санитары с носилками. На одни положили капитана, на другие – солдата, который всячески отнекивался и открещивался от такого недостойного, по его мнению, способа передвижения. Милица, измученная лихорадкой и жаром, пошла было подле своего приятеля. Пройдя несколько шагов, она остановилась. Туман застлал ей зрение… Небо, как будто, низко-низко опустилось над ее головой, a красные круги плыли перед глазами… Словно что-то толкнуло ее в одну сторону, потом в другую…
Сопровождавший носилки санитар подхватил ее вовремя, и она тяжело повисла у него на руках…
* * *
Опять странное оцепенение сковало девушку. Как будто, горячие, клокочущие пеной волны закачали, забаюкали ее, поднимая на своих пенящихся гребнях… Как будто где-то близко-близко запело и зарокотало море… Или это не шум прибоя, этот плеск? Нет, то стоны раненых… стоны, доносящиеся отовсюду.
Полевой лазарет разбил свою палатку под гостеприимным кровом галицийской деревни. Наскоро вымыты сулемой стены… Всюду белые, как снег, столы… Свежие койки с чистым бельем… Заново наложенные повязки. Здесь перевязывают, оперируют и эвакуируют раненых дальше туда, где будут их лечить уже обстоятельно и упорно.
Милица больна; ее рана загноилась… Опасность заражения крови… Она бредит и стонет. Игорь, навещающий своего товарища и друга, каждый раз в отчаянии уходит отсюда. Она не узнает его… Не узнает никого: ни капитана, находящегося тут же рядом, на соседней койке и потерявшего ногу, отнятую у него по колено, ни Онуфриева, своего верного дядьку, другого соседа по койке.
Минутами, впадая в забытье, Милица бредит своей родиной, Дунаем и Савой, юным храбрецом Иоле отличающимся на родных полях. Или зовет Игоря протяжно, упорно, тоненьким слабым голосом, совсем беспомощным, как y маленького дитяти. Игорь почти не отходит от нее. Уходит и возвращается к ее койке снова. Он взял короткий отпуск y начальства, заступившего выбывшего из строя Любавина и, благодаря временному затишью на полях сражения, может побыть некоторое время y постели своего друга. На душе несчастного мальчика черно, как в могиле все эти дни. Нет минуты, чтобы раскаяние не щемило его сердце, – жестокое раскаяние в том, что он способствовал побегу Милицы на войну. Теперь вот она, – раненая, больная, жестоко расплачивается за этот побег.
– О, Милица, Милица! – шепчет он в тоске, вглядываясь в изменившееся до неузнаваемости лицо девушки. – Я виноват, целиком один я виноват в твоей гибели, в твоей болезни… Ведь не послушай я тебя даже и тогда на разведке и привези, несмотря на все твои мольбы и стоны, в полевой лазарет, не пришлось бы тебе оставаться без помощи одной в пустом сарае целую долгую ночь, способствующую ухудшению раны… A долг службы! A необходимость исполнить данное начальством поручение? – поднимался тут же протестующий в душе Игоря голос совести, совершенно заглушая недавние укоры.
И опять юная душа мечется в смертельной тоске и унынии и всевозможные тяжелые мысли преследуют Игоря, не давая ему ни на минуту покоя.
Между тем, полк его выступает дальше, и обычная работа разведчика зовет его снова в строй. Положение же Милицы еще далеко не выяснено и внушает серьезные опасения. Ее отправляют со всевозможными предосторожностями в один из госпиталей взятого y австрийцев древнерусского города, одного из главных городов Галицийской земли. В последний раз, скрепя сердце, склонился над постелью больной Игорь… В последний раз перекрестил дрожащей рукой все еще не пришедшую в сознание больную… В последний раз поцеловал ее горячий, раскаленный лоб, шепнув чуть слышно:
– Прощай, моя Мила… Прощай, дорогой товарищ… Бог знает, увидимся ли мы с тобой когда-нибудь?
Глава IX
Большой красивый город. Чистые улицы. Бегающие там и тут трамваи. Повсюду военные, повсюду солдаты. Любопытная толпа горожан, снующая по бульвару и по тротуарам, несмотря ни на какую погоду. То и дело проезжают автомобили, приспособленные для раненых. На каждом шагу встречаются здания со значками госпиталей и лазаретов Красного Креста.
В одном из таких госпиталей, в белой, чистой, просторной горнице лежит Милица. Ее осунувшееся за долгие мучительные дни болезни личико кажется неживым. Синие тени легли под глазами… Кожа пожелтела и потрескалась от жара. Она по большей части находится в забытьи. Мимо ее койки медленно, чуть слышно проходят сестрицы. Иногда задерживаются, смотрят в лицо, ставят термометр, измеряющий температуру, перебинтовывают рану, впрыскивают больной под кожу морфий…
Нынче девятый день болезни. Ждут поворота на улучшение и доктора и сестры. Одна из них, молодая, бледная, с серыми умными глазами и открытым лицом, с особенной заботой и нежностью ухаживает за ней. В кармане этой сестрицы имеется письмо, в котором близкий, родной человек в кратких словах описывает всю захватывающую повесть Милицы. Здесь уже знают, что она девушка, служившая в разведчиках, получившая знак отличия за удачно выполненную задачу. Но имя ее неизвестно никому, кроме одной только разве этой сероглазой сестрицы, что бережет и лелеет ее, как родную сестру… Но сероглазая сестрица в этом отношении нема, как рыба, и не поделится ни с кем тайной Милицы, которую свято хранит в тайниках души…
* * *
В одно студеное сентябрьское утро синие глаза молодой сербки широко раскрываются и смотрят впервые за все время болезни сознательным, ясным взглядом. Раскрываются еще шире, встретясь с другими глазами, полными готовности пожертвовать собой для других. И вдруг вспыхивают неожиданной радостью.
– Игорь! – шепчет Милица. – Милый Игорь, как я счастлива увидеть тебя!
– Не Игорь, a Ольга… Ольга Корелина, родная сестра Гори, – отвечает ласковый голос, и нежные мягкие руки сестры милосердия любовно и ласково гладят юную черненькую головку, резко выделяющуюся среди белых наволочек. – Милая девушка, я знаю все… Вам не имеет смысла скрывать от меня что-либо… – звучит так ласково и просто голос Ольги Корелиной.
Она – вылитый портрет брата и не мудрено, что Милица приняла ее за него. Те же честные открытые глаза, смелые и живые, то же благородное умное лицо. Да, такой довериться можно. А слова исповеди, самой искренней, самой горячей рвутся из сердца Милицы.
Сегодня она чувствует сама начало своего выздоровления… Ей лучше, заметно лучше, так пусть же ей дадут говорить… О, как она несчастна! Она слабенькая, ничтожная, хрупкая девочка и больше ничего. A между тем, y нее были такие смелые замыслы, такие идеи! И вот, какая-то ничтожная рана, рана навылет шальной пулей и она уже больна, уже расклеилась по всем швам, и должна лежать недели, когда другие проливают свою кровь за честь родины. Разве не горько это, разве не тяжело?
И, говоря это, Милица плачет, как маленькое дитя, по-детски же кулаком утирая глаза. Ее нервы стали никуда негодными за последнее время… Эти ужасы войны совсем развинтили ее.
Сестра Ольга смотрит на нее добрыми, умными глазами.
– Милая детка, – говорит она, все еще любовно гладя короткие иссиня-черные волосы больной, – природа распорядилась человечеством как нельзя более мудро. Она щедро наделила мужчин силой, выносливостью и упорством среди военной бури особенно. Зато нам, женщинам, дала другое: мужество в иной работе, нежность и мягкосердечие. Милая Милица, зачем вам было насиловать свою женскую природу и выбирать себе подвиг, по которому безусловно не может и не должна идти женщина, на который y нее не хватит сил? Нельзя идти против природы, дорогое дитя. Я знаю, что вы ответите мне: что вы горите жаждой принести пользу человечеству, что были и исторические примеры, когда женщины сражались в боях… Кавалерист девица Надежда Дурова, например. Но ведь это было исключение, и Дурова с колыбели привыкла к звукам трубы и походной жизни. Вы же могли бы достигнуть желаемого и иным путем. Разве не принесли бы вы еще и большую пользу хотя бы здесь, ухаживая за ранеными, нежели там, на полях сражения, где нужны не женская выносливость и силы? Кончайте ваше образование, вступайте хотя бы на тот путь, на который вступила я. Тут вы будете полезнее и нужнее… A там предоставьте дело мужчинам, рожденным уже воинами, борцами, по большей части, согласно их природе. Каждому – свое. A теперь, постарайтесь уснуть и подкрепите ваши силы. Вам предстоит через несколько дней долгий путь в Петроград.
* * *
Вот он снова этот сад частью с пожелтевшей, частью с опавшей листвой. Вот они снова старые клены, разрумяненные багровой краской румянца красавицы-осени – янтарно-желтые березы. Старый милый сад, здравствуй! Здравствуйте и вы, последние дни бабьего лета с вашими студеными утренниками и полдневным солнцем!
Милица уже с неделю, как снова в институтских стенах. Тетя Родайка ни словом не обмолвилась про тайну своей племянницы и никто не знает о том, где провела эти полтора месяца смелая девушка. Тетя Родайка, великодушнейшая из женщин всего мира, сообщила начальству о серьезной болезни племянницы, протекавшей с самого июля под ее кровлей. И никто не осмелился заподозрить в неискренности старую сербку, Этой невинной ложью добрая тетя Родайка спасла племянницу. Скрыла она поступок племянницы не только от начальства девушки, но и от ее семьи. По получении письма Милицы перед бегством ее на театр военных действий, старуха сразу поняла и оценила благородный порыв юной племянницы и в тайне своего сердца не осудила ее. Ведь в жилах Милицы Петрович текла кровь сербских храбрецов-юнаков, кровь ее отца-героя, ее братьев, отличающихся в битвах на полях родной страны. И тетя Родайка, сама выросшая среди этой героической семьи, может быт, будь она моложе, поступила бы так же. Она не искала Милицу, не посылала в погоню за ней. Она с растерзанным страданиями сердцем предпочла терпеливо ждать ее возвращения или чего-нибудь худшего, на что она не посмела бы и роптать.
Но когда больная, слабая, чуть державшаяся на ногах; Милица предстала перед лицом тетки, та с рыданием обняла племянницу и взяла с нее слово, что та не повторит более своего безумного поступка.
И племянница дала это слово своей старой тетке. Милица поняла, убедилась теперь воочию, что не слабым женщинам нести все тяготы бранного дела. Другие идеалы манили ее теперь. Ей мерещились новые цели, новые достижения. Слова Ольги Корелиной глубоко запали в юную душу. Да, она кончит курс, выйдет из института и будет учиться новому захватывающему делу… Делу ухода за больными и ранеными так же, как Ольга, отдавшая себя этому служению, как много тысяч других славных, мужественных, русских женщин и девушек. И в долгие часы уединения, особенно здесь, в последней аллее институтского сада, на своем любимом месте, вдали от тех, от кого так ревниво прячет она свою тайну, как прячет и бесценный знак отличия y себя на груди, Милица, содрогаясь, припоминает все подробности пережитых ей ужасов на войне…
Это случается особенно тогда, когда тетя Родайка приносит девушке письма из действующей армии, где ее друг Игорь с успехом продолжает подвизаться на поприще разведчика. Письма его полны самыми подробными описаниями новых боев. Вот тогда и воскресают снова и встают перед девушкой картины недавнего пережитого… Иногда это пережитое кажется сном… И только маленький орден-крестик, привешенный на шейную цепочку и спрятанный за сорочку, эта святая драгоценная реликвия, – служит наглядным доказательством тому, что не сном, a истинной действительностью было все пережитое Милицей…
A война все кипит, все пылает своим кровавым полымем. Все идут и идут на защиту правого дела могучие русские дружины, смелая и непоколебимая мужественная армия и бесстрашно рвутся вперед на врагов отечества наши славные герои – чудо-богатыри!
Помоги же им и правому делу, Великий Боже!..







