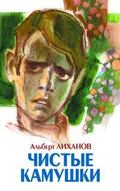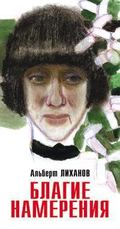Альберт Лиханов
Магазин ненаглядных пособий
Я похихикивал – негромко, чтобы, не дай бог, не разбудить продавщицу, хотя в душе совершенно не верил, что она может проснуться. Мне казалось, если даже заколотить школьным звонком у нее перед носом – здоровенным таким колокольчиком на деревянной ручке, – она не проснется, будет все так же поднимать и опускать голову, как заведенная.
И вот! Наконец! Всякий раз трепыхаясь как воробей! Холодея! Прижмуривая глаза от страха! Нехотя отрывая взгляд от спящей старушки! Я поворачиваюсь к стеклянному кубу прямо возле нее! И гляжу! Гляжу!
В стеклянном кубе, жутко ощерясь, страшно вглядываясь в тебя пустыми глазницами, навевая кладбищенский холод, стоит человеческий скелет. Гребешки распяленных костей вместо пальцев, желтые палки рук и ног, страшная яма таза, полая труба позвоночника и растопыренные ребра – кошмар!
Хочется закрыть глаза, выскочить из магазина, но что-то другое, тайное в тебе велит стоять, внимательно глядеть и не закрывать глаза, пока не пройдет положенное время. Будто испытание, назначенное тебе и самим собой и не собой, а кем-то другим, хорошо тебя знающим, ослушаться которого ты не можешь, не имеешь права.
Я смотрел на скелет минуту, другую, третью, медленно поворачивался и не спеша выходил из магазина, только там, на улице, снова ощущая собственное дыхание.
Я не раз замечал: пока смотрю на скелет, жизнь будто замирает вокруг. Не слышно разговоров на улице, рыка машин, цокота лошадиных копыт. Не слышно даже собственного дыхания.
Через полквартала от магазина я сдерживал свой непривычно торопливый шаг, вертел головой, убеждаясь, что все вокруг по-прежнему, а через квартал в голову мне лезла все та же дурацкая мысль: ребята, да что там ребята – взрослые, все подряд, показывают на меня пальцем и говорят друг дружке: «Представляете, этот пацан купил скелет в магазине учебно-наглядных пособий!»
Купить скелет! От такой мысли веяло суеверной жутью, богохульством и вообще чем-то недозволенным, опасным, даже стыдным, но эта мысль неизменно приходила ко мне, правда, не раньше чем за квартал от магазина ненаглядных пособий, – наверно, это было безопаснее, за квартал.
Купить! Но как, если даже преодолеть суеверие, богохульство, опасность, стыд и недозволенность? Я ни разу не видел, чтобы старушка продавщица проснулась по-настоящему, а значит, ни разу не видел, чтобы кто-нибудь что-нибудь покупал в этом магазине.
Или мне не везло?
* * *
А теперь промахнем три с лишним года – хорошо, что это можно сделать, когда думаешь о прошлом: будущее так просто не промахнешь, оно движется день за днем в наше настоящее, с годами убыстряя свой бег, и ты все чаще возвращаешься к детству – да будет благословенно оно! Да живет вечно оно в нашей памяти, счастливо тягучее время начала жизни…
Итак, через три года, в конце третьего уже класса, как раз по весне, когда вскрылась река и с шорохом и гулом уплыли вниз по воде рыхлые серые льдины, наша Анна Николаевна, опоздав немножко на урок, привела с собой пацана в кителе с морскими пуговицами.
Эти пуговицы бросились мне в глаза прежде всего. В кителях ходили почти все офицеры – такая вводилась форма, то ли по причине военной поры, то ли по причине удобства и нужды: вид у кителя был строгий, шился он легко, а носился просто – знай меняй воротнички, вот и все.
Но пуговицы! У всех были железные пуговицы со звездочкой, а у Витьки Борецкого, который вошел в класс вместе с учительницей, редкостные для нашего сухопутного города чрезвычайно – с якорями. Анна Николаевна усадила Витьку в конце класса на свободное место и с минуту, наверное, обозревала пространство поверх наших голов, явно недовольная своим решением: далеко сидел Борецкий, далеко.
Мы хорошо знали, когда Анна Николаевна была недовольна: взгляд ее задерживался поверх наших голов дольше обычного. Порой, когда свет падал определенным образом на ее пенсне, было чуточку страшновато, потому что глаз учительницы за пенсне не было видно, а стеклышки блестели, и казалось, что у нашей доброй Анны Николаевны огромные стеклянные зрачки. Но в тот миг особый взгляд был нам непонятен, неясным получалось это блистание стеклышками пенсне и медленное озирание класса. Наконец Анна Николаевна проговорила несколько расстроенно:
– У Вити отец – новый начальник пароходства.
Да-а, тут было над чем поразмыслить.
Дело в том, что военное время разделило всех мужчин на две половины. На тех, кто воевал, и на тех, кто был в тылу. И фронтовики с презрением относились к тем, кто оставался дома: еще бы, на войне погибают, а в тылу как ни трудно, а все равно легче. Если повнимательней приглядеться, то и сейчас еще живо это неравенство – иногда справедливое, а иногда и нет, потому что всякому ясно: без тыла нет фронта и на одних женщин тыл тоже нельзя оставлять, много тяжкого приходилось на тыл – и голодуха зеленая, и смерть от дистрофии, и срочная стройка военных заводов без сна и роздыха, но что поделаешь, так считалось и так считается: кто в тылу, тот крыса и достоин только презрения, кто на фронте, тот герой, слава ему и честь. Что у взрослых, то и у ребятни.
Каждый класс и каждая школа делились на две половины – на тех, у кого отец воюет, и на тех, у кого отец дома.
Детей тыловиков мы презирали, и, как часто это бывает у ребят, гораздо несправедливей и с большей жестокостью, чем взрослые фронтовики взрослых тыловиков. Детский суд строг и не терпит объяснений. Любой суд обвинением кончается, а детский из одного обвинения и состоит.
Так вот, Витьку Борецкого требовалось немедля зачислить в большую – фронтовую или меньшую – тыловую часть класса, и по всем строгим правилам детского суда попадал он в явные тыловики, но вот якоря на пуговицах и должность отца – начальник пароходства! – сильно смущали. И не только меня.
Якоря в моем представлении, даже речные, всегда дело серьезное, почти военное. А флот пуще того. Город наш стоял на реке не очень великой да широкой, но все же судоходной, и хотя он был также серьезным железнодорожным узлом и поездов, в том числе военных, ого-го сколько у нас проходило, паровозы и железнодорожники, даже военные железнодорожники, почему-то нашим уважением, как речные судоходы, не пользовались. То ли потому, что все же речники, как и моряки, в бескозырках, то ли потому, что их во много раз меньше, чем железнодорожников, то ли потому, что пароход, как ни крути, посложней паровоза, все-таки не по рельсам ходит, им управлять надо, чтобы на мель не сел, – словом, полувоенные речники при черных морских бушлатах имели в нашем городе особые привилегии и если не были фронтовиками в полном смысле, то как бы приближались к ним. Впрочем, может, это было лишь мальчишеским ощущением, которое вовсе не передавалось взрослым?
Так или иначе, но Витька Борецкий просидел в классе тихо дня три, так и не определенный ни в какой лагерь. Сидел себе на предпоследней парте, посверкивал завидными пуговицами с якорями, был тих и аккуратен, тянул руку, если хотел сказать или спросить, в общем, был образцовым пай-мальчиком, совершенно не похожим на нашу шумливую братию, с шумливостью которой и вовсе не образцовым поведением Анна Николаевна давно уже смирилась. Откуда только такой приехал?
В общем, ЧП, в которое влип Витька Борецкий, произошло только лишь по причине его поразительной дисциплинированности. Я было подумал: уж не морской ли? Но тут же отмахнул в сторону свое предположение – нет, не морской.
Итак, был урок рисования.
Анна Николаевна, я думаю, пользовалась нашей особой любовью еще и потому, что не скрывала своего неравного отношения к предметам. Математику и русский она почитала и это почитание всячески внушала нам.
– Тот, кто некрасиво, а пуще того, неграмотно пишет, – торжественно провозглашала она, – пустой человек, потому что письмо сиречь развитие мысли.
Анна Николаевна училась очень давно, может, даже до революции, и любила старинные слова, которые нам непременно разъясняла. Поэтому мы знали, что слово «сиречь» равно слову «есть».
– Вам жить в будущем, – говорила убежденно Анна Николаевна, – а без математики там шагу не ступить.
И мы налегали на математику кто как мог, чтобы не оказаться дураками в неизвестном и непонятном будущем.
Ну а про рисование Анна Николаевна ничего не говорила. И про пение тоже. Нет, сказать плохое про эти предметы она себе не могла позволить – тоже словечки из ее разговоров. Но как бы мимоходом принизить их – это она могла.
– Ах, – говорила рассеянно Анна Николаевна, – сейчас, кажется, опять пение. Ну что же, споем, на чем мы там остановились?
И мы пели песню под ее неверный аккомпанемент на обшарпанном пианино, причем в отличие от других предметов учительница не поворачивалась к нам, когда кто-нибудь нарочно выдавал пискливую ноту, громко хрюкал или звонко хлопал ладонью по макушке соседа, сводя счеты, не разрешенные на перемене. Анна Николаевна налегала на слова, не особенно упирая на музыку и наше исполнение и отметки по пению тоже ставила за слова.
Когда наступал урок рисования, Анна Николаевна была еще неаккуратнее, даже иногда проговаривалась.
– Может, вместо рисования попишем диктант? – наивно спрашивала она, конечно же, не нас, а сама себя. И как бы утверждала эту мысль весомым аргументом: – Репиных из вас все равно не выйдет!
И нередко мы действительно вместо рисования писали диктант или решали задачи, но самым любимым приемом Анны Николаевны был такой – большинство все-таки рисовало бутылку, или чернильницу, или две книги, живописно поставленные одна на другую, а те, кого учительница считала если не вполне пустыми людьми, но и не вполне полными, решали задачу или писали изложение.
На сей раз выпал как раз такой урок. Кто-то глубокомысленно ковырял в носу и загибал пальцы – решал задачу, кто-то, свесив набок язык, старательно скрипел пером, а кто-то одним простым карандашом изображал сложную комбинацию из пустого стакана и книги Гоголя, которую Анна Николаевна поставила боком, но по рассеянности вниз головой, и теперь слово «Гоголь» приходилось рисовать вниз головой – получились смешные палочки, и над классом – то в одном ряду, то в другом – повисали смешки.
Урок шел к концу, Анна Николаевна принялась ставить отметки за рисунки, возле нее собрался такой барьерчик из народа, и тут Витька Борецкий поднял руку на своей предпоследней парте. Ему бы встать и запросто подойти к Анне Николаевне или громко сказать: «Можно выйти?», а он сидел на своей парте, вирюхал коленками – ясно было, куда дело клонится, – но дисциплинированно держал руку, да еще локотком на парте.
Нашлись люди, хихикнули над ним, но разве Анна Николаевна поймет в такой суматохе, кто там над кем хихикнул? Была бы математика или русский – другое дело. А тут рисование, она и внимания не обращает, что где творится. Я даже громко сказал Витьке:
– Ты встань и скажи! Она не видит!
Витька покосил на меня коричневым жалостным глазом, но не послушался – вот до чего дисциплинированный, тут-то я и подумал про морскую дисциплину.
И вдруг раздался громкий свист. Здесь уж Анна Николаевна не могла не подняться со своего стула. Она грозно поглядела в сторону предпоследней парты, а обалдуй Мешков, с которым сидел Борецкий, по-прежнему свистел и медленно, даже оторопело, отъезжал по скамейке от Витьки, пока не упал – нарочно, конечно, – с нее.
– Мешко-о-ов! – протянула Анна Николаевна, уставшая бороться с Мешковым. – Ну что еще там?
А Мешков поднялся с пола и нахальным голосом, заранее зная, что его оправдают, проговорил:
– Он тут описался!
Все смотрели на Борецкого. Витька был пунцового цвета. И медленно поднимался. Под морячком, в выемке скамьи, которая делается, чтобы удобней сидеть, была сырость.
Что тут случилось!
Крики, стоны, хохот, девчачьи ахи и охи!
Анна Николаевна колотила по столу книгой Гоголя, разрушив стройную художественную композицию. Она всегда внушала нам, что к книгам надо относиться свято, а тут громко колотила корешком Гоголя по столу, но не произносила ни слова.
И лицо у нее было странное. Какое-то дрожащее.
* * *
Ах, как легко попасть в нечаянное положение и как трудно, неимоверно трудно выбраться из него, когда тебе от роду лет десять. Я легко представляю, как мучился и страдал Витька Борецкий.
Тотчас после позорного эпизода Анна Николаевна отправила его домой, а наутро он не пришел в школу и не появлялся целую неделю. Можно вообразить, какой бой он выдерживал дома. Родители – а отец все-таки начальник пароходства, командует всеми пароходами – уговаривают и даже ругают, может, вполне вероятно, применяют грубую силу с помощью широкого морского ремня. Я однажды видел такой ремень на матросе, он продавал башмаки возле рынка, топтался неловко, маленький, вовсе не похожий на речника, но ремень у него был что ни на есть боевой – широкий, с латунной бляхой, откуда прямо-таки вылезает выпуклая звезда.
Так вот, ясное дело, Витьку дома уговаривают идти в школу, а он упирается, и, хотя родители уверены, что они кругом правы, Витька поступает мудро: именно неделю надо пропустить и никак не меньше, только через неделю, и то самое малое, утихают в школе страсти после подобных нечаянных ЧП, становятся историей, теряющей интерес. К тому же Анна Николаевна постаралась. Через день она сказала нам, что Витька серьезно заболел, и хотя это была педагогическая хитрость, а грубо говоря – вранье, цели своей хитрость достигла: девчонки во главе с Нинкой Правдиной стали вслух жалеть Витьку и обалдуя Мешкова громко стали кликать дураком («Этот дурак!» – выражались они пренебрежительно), а всех остальных, кто фыркал при упоминании Борецкого, обзывали бессовестными.
Потом Анна Николаевна целых пять минут выделила из урока русского языка, чтобы объяснить нам такую истину:
– Самый недостойный и пустой человек тот, кто смеется над другим, особенно если другой попал в беду. И самый достойный человек – это тот, кто умеет посмеяться над собой.
И еще несколько фраз в том же роде, и совершенно конкретное указание: если Борецкий вернется в класс, все должны показать ему, что ничего не случилось, если, конечно, мы благородные люди. Надо заметить, что на вторую часть рекомендации никто, кажется, не обратил внимания, а вот на первую обратили все. Значит, Витька может вообще не вернуться? Дело серьезное. Выходит, переживает не на шутку. А раз человек переживает, он достоин ну не уважения, так снисхождения, что и говорить!
Теперь о последней мысли Анны Николаевны. О благородстве.
Не хочу сказать, что ее мало или вовсе нет в ребячьем племени. Напротив. Но когда речь о темах не то чтобы скользких, а неверных, что ли, некоторые не могут устоять. Дают слабину, а уж тут не прикажешь, не упрекнешь. Тут уж дело внутренних тормозов – скажем так.
Ну, у Мешкова их отроду не было, этих внутренних тормозов, на то он и Мешок. Так что, когда Борецкий пришел наконец в класс, этот обалдуй выскочил из-за парты и, дергая брезгливо носом, уселся на свободное место в последнем ряду. Это была уж не слабина, а чистое негодяйство. Я видел, как Борецкий задрожал, повесил голову, смотрел прямо в парту и боялся поднять глаза, чтобы не увидеть еще чего-нибудь такого же.
Разглядывая в этот миг Витьку, я ни к селу ни к городу подумал вдруг о том, что, будь у меня с собой гадюка из магазина учебно-ненаглядных пособий, я ни за что бы не сумел подсунуть ее сейчас Борецкому. Но с большим удовольствием сунул бы за шиворот обалдую Мешкову. Потом, неторопливо представив себе, как Мешок заорет, точно зарезанный, я неожиданно для себя вытащил из парты портфель и пересел к Борецкому. Он был словно конь, этот Витька. Не посмотрел на меня, а лишь покосил благодарно коричневым глазом – совсем по-лошадиному, вот чудак.
Зато Вовка Крошкин, от которого я ушел, мой верный, старинный друг с первого класса, хлопал глазами и таращился на меня. Мне стало нехорошо. Я выполз из-за своей парты, не сказав ничего Вовке, не предупредив его, да что там, даже ведь для себя нечаянно, но поди-ка, объясни это сейчас, когда уже ушел.
Да, это выглядело предательством по отношению к Вовке, самым натуральным и совершенно необъяснимым предательством.
Но дело было сделано. Я сидел с Борецким и боялся, как бы Вовка не показал на меня пальцем когда-нибудь в коридоре при народе из других, не знающих, в чем дело, классов и не сказал бы: «Этот пацан – предатель!»
Но вышло совсем по-другому, хотя и не лучше. Анна Николаевна уцепила меня на перемене за локоть и шепнула:
– Ты благородный человек.
Я мгновенно вспотел от неожиданности, наверно, еще и рот приоткрыл, но учительница уже исчезла, а я вдогонку ей запоздало подумал: «При чем тут благородство?»
Благородство тут было ни при чем, ясное дело, просто так получилось. И вышло совсем даже нехорошо. Вовка Крошкин никак не исчезал у меня из головы: ни за что обидел человека.
Я как в воду глядел.
После уроков мы с Борецким вышли из школы вместе. Я хотел пойти с Вовкой, но он куда-то запропастился, и, когда за нами хлопнула тяжелая школьная дверь, я понял, что он запропастился не зря.
Вовка Крошкин стоял среди ребят из соседнего класса, стоял спиной к нам, но, когда мы с Витькой поравнялись с ним, Вовка сказал деревянным каким-то, не своим, а вражеским голосом:
– Вот этот пацан прямо на уроке обо…
Даже я вздрогнул от Вовкиной непонятной жестокости, а Витька опустил плечи, прошел еще шагов пять и побежал.
Я повернулся к Вовке и вспомнил Анну Николаевну. Нет, она не права, никакого благородства нет в том, что я пересел к Борецкому. Мне, наверное, просто жалко его стало, вот и все, а вот Вовка, это да, Вовка поступал неблагородно.
Я хотел подойти к нему и сказать ему что-нибудь, сказать хотя бы с выражением: «Эх ты!», но Вовка мельком взглянул на меня и опять отвернулся к ребятам. Не стану же я унижаться перед ним.
Дорога домой была, как всегда, долгой – мимо тополей с вороньим граем, Гортопа, Райфо, Райплана и Районо с райской, наверное, музыкой и цветами там, в обшарпанном доме. Я неспешно приближался к магазину ненаглядных пособий, думая о Витьке Борецком, о Вовке Крошкине, думая о том, как легко было Витьке попасть в нечаянное свое положение и как трудно теперь выбираться из него, думая о жестокости моего старинного друга Вовки, который мстил мне, унижая Витьку, и о том, что слава, увы, бывает разной.
Есть слава, возвышающая тебя, когда говорят: «Глядите, этот пацан раздобыл настоящий скелет!» И есть слава, тебя унижающая, как сегодня: «Вот этот пацан прямо на уроке обо…»
И хоть жестокая эта слава принадлежала не мне, я думал о ней снова и снова, жалея несчастного моряка.
* * *
Как-то неумело и неловко сходились мы с Витькой Борецким под презрительным и строгим взглядом Вовки Крошкина. Я молчал от неловкости и какой-то дурацкой опаски, а Витька не навязывался, все еще с трудом одолевая неприятность, в которую попал. Да еще его дурацкая дисциплинированность! На уроках он образцово-внимательный, с таким не поболтаешь, не отвлечешься, и вроде по всему выходило, учиться я из-за такого соседа должен бы лучше, но не тут-то было. Витька плохо писал, а я, дурила, вместо того чтобы жить своим умом, проверял свои действия в Витькиной тетради. Писал себе грамотно рядом с Вовкой Крошкиным, никуда не заглядывал, а сел к Витьке и стал у него проверять.
Мы тогда диктанты все писали на мягкие знаки. Где и когда с мягким знаком слова пишутся, а где – без. Сперва я хотел слова «смеются» и «стараются» написать без мягкого знака, но заглянул к Витьке и написал – «смеються» и «стараються». Анна Николаевна, проверив тетради, жутковато засверкала стеклышками пенсне в нашу сторону, и я сразу понял: оставит после уроков.
После уроков Анна Николаевна пересадила нас на первую парту и целый час диктовала всякие слова с мягким знаком. Я старался к Витьке не заглядывать, но все же раза три заглянул и сделал три ошибки. Витька это засек и сказал мне:
– Ты ко мне в тетрадь не смотри. Я ведь серб!
Я первый раз видел серба, но все равно удивился:
– А это при чем?
– Никак привыкнуть не могу к мягким знакам!
Но Витькино признание, что он серб и поэтому не может привыкнуть к мягким знакам, сильного впечатления на меня все-таки не произвело. Потому что сильное впечатление Витька произвел на меня чуточку раньше.
Когда мы вышли на улицу, он спросил:
– Хочешь, я тебя сфотографирую?
Фотографировали в специальной мастерской, у нее было даже красивое нерусское название – ателье, и я не раз бывал там, правда, еще до школы, маленьким, и, надо сказать, всякий раз прилично волновался.
Бабушка и мама наряжали меня, как на праздник, вели с собой в это ателье, где была стеклянная крыша, и недовольный дядька усаживал меня на стул, уходил к фотоаппарату на треноге – с аппарата свисал черный платок, дядька укрывался им, потом быстро шел ко мне, хватал за лицо руками и заставлял всяко неудобно поворачиваться, а у меня, как назло, подбородок опускался, и он подбегал снова и опять вздергивал мою голову, так что уже хотелось не фотографироваться, а реветь. Потом фальшиво-притворным голосом дядька говорил:
– Мальчик, смотри сюда и не шевелись, сейчас птичка вылетит.
Но никакая птичка не вылетала, и я уходил из ателье изнуренным и расстроенным.
И все ради чего? Ради того, чтобы через неделю бабушка, ликуя, выложила на стол карточки, где у меня какое-то фанерное, испуганное лицо, будто меня со всех сторон скрутили веревками и заставили при этом улыбаться.
Единственное серьезное начало было во всей этой затее, единственное достойное понимания: карточка посылалась отцу на фронт. А отец однажды взамен прислал свою: сидит на колесе пушки в пилоточке и улыбается.
Это одно оправдывало муки.
И вдруг Витька говорит про фотографирование.
Я насторожился.
– Как это? – спросил, не понимая.
Витька улыбнулся, поняв, что ли, меня. Он положил на землю портфель, покопался в его глубине и вынул блестящую пластмассовую штучку, похожую на лягушку. Штучка помещалась на Витькиной ладони, взблескивала под солнцем стеклянным носиком и лакированными бочками.
– Что это? – удивился я. Штуковина никак не походила на чудовище в ателье, раскорячившее три деревянные, грубые ножищи.
– Аппарат «Лилипут», – проговорил Витька, и я услышал в его голосе некое превосходство над моей темнотой. – Становись, – приказывал он, и я послушно пошевеливался, уже безоговорочно подчиненный его воле. – Вот так, чтобы виднелась школа. Не жмурься от солнца. Внимание! Снимаю!
Я затаил дыхание, как в ателье, но Витька чем-то негромко щелкнул и уже протягивал аппарат мне:
– Теперь валяй ты. Сюда смотри. А сюда нажимай.
– Я? – Глуповатым хихиканьем я прикрывал растерянность.
Витька предлагал мне что-то небывалое, какого никогда еще в жизни не случалось со мной. Сфотографировать? Его? Мне? Нажать на этот рычажок? А сперва посмотреть в это окошечко?
Я бросил портфель в кучу пожухлых листьев. Схватил аппарат, приставил палец к рычажку и взглянул в окошечко. Витька торчал там совсем маленький, и школа уменьшилась в двадцать раз, но все было видно очень хорошо. Я затаил дыхание и нажал на рычажок. Что-то щелкнуло. А Витька уже кричал мне:
– Сегодня проявим и сегодня же напечатаем. Я попрошу отца, он нам поможет.