
Ляля Кандаурова
Библейские мотивы. Сюжеты Писания в классической музыке
«Первый грех» начинается как фуга[99]: угловатая, асимметричная тема, сворачивающая всё время не туда, куда ожидает слух, проводится одним из басов в низком регистре. В ней есть что-то от древней христианской культовой музыки; кроме того, сама форма фуги связана с «европейской», ассимилированной половиной Кляйна. В то же время моравский колорит – голос его другой, «крестьянской» половины. Фуга начинается со вступления одного баса, затем другого и продолжает выстраиваться de profundis[100] – из мрачнейшего низкого регистра вверх. Подключается тенор, и образуется трёхголосие, затем ещё один, создавая четырёхголосную ткань. Одновременно чрезвычайно сложная и намеренно «варварская», диковатая, эта фуга выстроена не совсем по учебнику; голоса в ней путают следы, перекрещиваются и проводят тему вне положенной очереди. Кроме того, Кляйн следует здесь логике ренессансного мадригала, где музыкальные фигуры подбирались так, чтобы выявлять смысл стихов. На словах «ешьте от любых дерев, но одно дерево – не трогайте; посреди небесного сада оно стоит, всё в ярко-голубых цветах» используется такое членение фразы, что музыкальная остановка приходится непосредственно на запрет, а внезапно полыхающие яркие мажорные аккорды на словах «сад» и «цветёт» приковывают внимание к дереву – усыпанному цветами, прельстительному и опасному.
С появлением дьявола (один из басов поёт слова «Сатана обратился в змея») голосоведение начинает запутываться и волноваться; поющие вступают то парами, то каноном. Кляйн перемещает действие из рая на землю с помощью ритма: в пределах эдемского сада пульсация – трёхдольная, что в старинной музыке связывалось бы с триединством Бога, совершенством, воплощённостью, полнотой. Невозможно пропустить момент, где появляется тенор соло, похожий на Евангелиста из баховских Страстей[101] и горько, нараспев рассказывающий о непоправимой ошибке людей. В подстрочном переводе – «Ева взяла [плод] и откусила, и дала Адаму. "Ешь, мой Адам, ешь яблоко, чтоб нашли мы сладчайшее блаженство"»[102]. С этого момента пульсация начинает тяготеть к двухдольности: чему-то связанному с дыханием или симметрией тела (шаганием, чередованием рук), и история как бы начинается заново, но уже на земле: тенью проплывает напоминание о теме фуги на словах «Господь дал им мотыгу и послал их в поля»[103]. Ещё одно вступление тенора соло – снова прямая речь: слова Бога о добывании хлеба в страдании. Поразителен финал мадригала с его акварельными, авант-джазовыми гармониями и внезапным мажором в очень тихом нюансе на словах «наплакались оба».
Мы не знаем, услышал ли Кляйн эту музыку исполненной. Может быть, постоянные занятия Шехтера с певцами в лагере позволили четырём смельчакам усовершенствовать свой слух и технику так, чтобы разучить и спеть её, но скорее нет. Ничего не известно и о том, из собственной ли памяти извлёк Кляйн моравский текст, который поют на свадьбах и во время детских рождественских шествий, или узнал его от кого-то в гетто. Мы можем предположить, что он выбрал сюжет о первом грехе, потому что думал о человеческой приговорённости: странном мужестве, а может – беспомощной привычке работать и созидать перед лицом неминуемой смерти, которые поражают нас на примере мучеников лагеря Терезиенштадт, однако в какой-то мере относятся к каждому живому человеку. В упомянутом уже эссе «Гёте и гетто» Виктор Ульман писал: «Мне представлялось всегда, что гётевское "живи мгновеньем, живи вечностью!" раскрывает таинственную суть искусства. Будь то эфемерная, преходящая вещь, скоро увядающий цветок в натюрморте, будь то ландшафт, человеческий облик или поворотный момент истории – живопись предохраняет их от забвения. Музыка поступает так же со всем душевным, с чувствами и страстями людей»{42}. Для Ульмана, Кляйна и других писать музыку было единственным шансом на отмену общечеловеческого приговора; на то, чтобы в какой-то форме задержаться на земле, в жизни. Слушая и обсуждая созданное ими, каждый из нас помогает этому и по-своему тоже получает этот шанс.

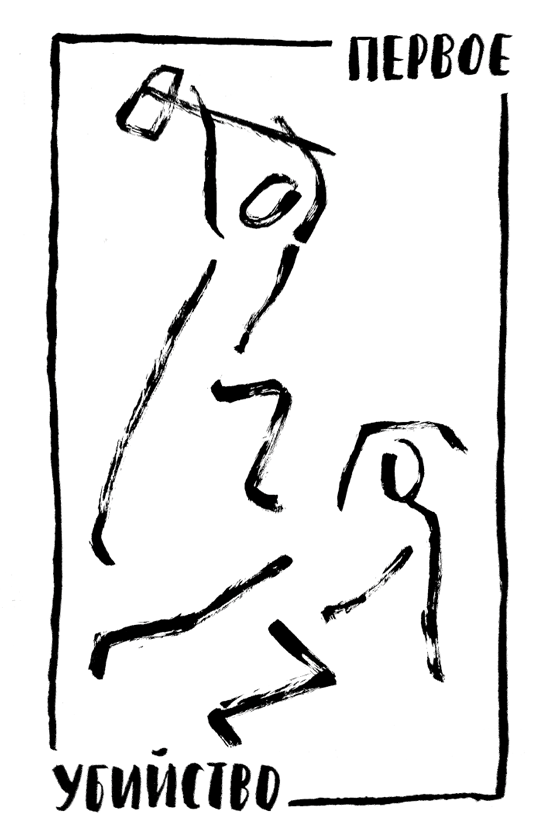
Глава 4
Он написал убийство
Алессандро Скарлатти
1660–1725

оратория «Первое убийство, или Каин» («Il primo omicidio, overo Cain»)
Первая смерть в Библии была насильственной, а первым убийцей оказался человек, умертвивший брата. В восьми лаконичных стихах Книги Бытия рассказывается история, столь же мощная по силе воздействия, сколь и странная: первенец единственной супружеской пары на вновь созданной земле, первый ребёнок, рождённый женщиной, Каин – землепашец – приносит жертву Богу вместе со своим братом Авелем – скотоводом. Без всякого объяснения, без видимой причины Бог отвергает одну жертву и благосклонно принимает другую; «разгневанный» и «поникший»{43}, Каин приглашает Авеля в поле и, оставшись с братом наедине, убивает его.
В чём состоял грех Каина перед Богом, за который жертва его была так показательно отвержена? Если Бог испытывал Каина, намеренно заставляя мучиться завистью и унижением, то зачем это было нужно и почему он выбрал именно его? Отправляя Каина в вечное скитание, зачем Бог пообещал убийце, что никто на его пути не поднимет на него руки[104], – потому, что хотел наказать Каина долгой жизнью, или потому, что был необъяснимо благосклонен к жертве своего эксперимента? Почему именно Каин – жестокий изверг – стал родоначальником целого народа, в то время как добродетельный Авель остался бесплотным ангелом, вечной жертвой, полупрозрачной тенью, мелькающей в сюжете и растворяющейся без следа? Историю о Каине и Авеле можно читать как сентиментальный рассказ о беззащитности хорошего перед плохим, притчу о неистребимости зла или даже метафору соперничества двух хозяйственных формаций – скотоводства и земледелия{44}. В Каине можно увидеть собирательный образ мятежного старшего брата, конкурирующего с обласканным младшим, или воплощение эдипова комплекса[105], или возвышенного богоборца[106].
Ромео Кастеллуччи – итальянский театральный режиссёр, в январе 2019 г. представивший парижской публике барочную редкость – ораторию Алессандро Скарлатти «Il primo omicidio, overo Cain» (традиционный перевод – «Первое убийство, или Каин»), говорил в интервью, что в эпизоде о Каине и Авеле видит историю о том, что зло в мире предусмотрено Богом. Оратория[107] Скарлатти состоит из двух частей: первая, где слушатель знакомится с братьями и их родителями, а затем происходят два жертвоприношения, была в версии Кастеллуччи статуарной, с условным сакральным пространством, неоновой светописью и медицинским пакетом крови вместо убитого Авелем ягнёнка. Во второй половине оратории происходит само убийство, а также звучит знаменитый диалог: Бог, словно безжалостный воспитатель, задает Каину вопрос, ответ на который прекрасно ему известен[108]; Каин же лжёт, бесповоротно переходя на сторону зла. В этой части спектакля Кастеллуччи певцы перемещались со сцены в оркестровую яму, а на травяном лугу, который представал взорам зрителей, действие разыгрывали… дети, напоминая об уязвимости и бесправии героев библейской истории перед замыслом всемогущего Бога; о наивности Каина, который совершил первое убийство в истории человечества, но не знал ничего о природе и сущности смерти; о жестокой бесхитростности детских игр, где палач и жертва могут легко меняться местами.
Работа Скарлатти – действительно репертуарный раритет: количество исполнений этой партитуры за её 300-летнюю историю можно сосчитать по пальцам одной руки, и лишь дважды – в 1992 и 1998 гг. – она была записана на пластинку. Связано это вовсе не с качеством музыки. Алессандро Скарлатти в числе тех исполинов раннего барокко, чьи работы начали постепенно вытаивать из мерзлоты многовекового забвения лишь в конце прошлого столетия. Благодаря достижениям исторически информированного исполнительства[109] на рубеже веков появились рыночные условия, обширный пул артистов, а главное – искушённые слушатели для того, чтобы старинные оперные названия появлялись на сценах так, как им подобает: в исторически корректных интерпретациях и с высокобюджетным шиком.
Алессандро Скарлатти считается основателем одной из самых блестящих школ в истории оперы – неаполитанской. Он родился в Палермо в 1660 г., а жизнь провёл между Римом и Неаполем, став чуть ли не самым деятельным оперным композитором своего поколения. Скарлатти обычно приписывают несколько важных музыкальных новаций: среди них так называемая итальянская увертюра[110], считающаяся прародительницей симфонии. К его заслугам также причисляют введение арии типа da capo[111] – трёхчастной, с симметричными крайними разделами и контрастной серединой, которая стала ключевым конструктивным элементом итальянской оперы XVIII столетия. В то же время новый век Скарлатти встретил уже сложившимся мастером: ему было тогда 40 лет. Во многом его музыкальный язык хранил связь с прошлым: театр Скарлатти далёк от чеканного лаконизма и психологической достоверности, к которым стремились композиторы века Просвещения. Истоки его стиля лежат в мире раннего итальянского барокко с его захватывающим дух разнообразием, запутанной типологией форм, броскостью, условностью и сказочностью.
Современники отмечали ещё и недемократичность работ Алессандро Скарлатти. Она связана с его приверженностью контрапункту: старинному искусству сложного многоголосного письма, которое стало клониться к закату в XVIII в. В 1709 г., когда Скарлатти был на пике своей карьеры, Франческо Мария Дзамбеккари, театральный антрепренёр, работавший в Неаполе, оставил о нём любопытный отзыв. По его словам, Скарлатти – «…великий человек; однако сильные его стороны подчас оборачиваются слабостями. Сочинения его чересчур сложны и подходят для исполнения в гостиных, а оттого не слишком успешны в театрах. В первую очередь, ими будет удовлетворён ценитель контрапункта; однако среди тысячи человек театральной публики вы не найдёте и двух десятков людей, понимавших бы это искусство»{45}. Возможно, именно некоторая изощрённость стиля послужила тому, что работы Скарлатти – чрезвычайно плодовитого и успешного в своё время автора – перестали звучать и начали забываться ещё раньше, чем эта участь постигла большинство композиторов его эпохи[112].
Искусством контрапункта Алессандро Скарлатти начал овладевать ещё в родном Палермо, а подростком усовершенствовал свои знания в Риме. Предводителем и родоначальником римской школы был Джакомо Кариссими[113], присутствие которого определяло стилистический облик духовной музыки папской столицы. Возможно, Скарлатти успел поучиться у престарелого Кариссими в последние годы перед его кончиной в Риме в 1674 г. Впоследствии молодой сицилиец был назначен maestro di cappella – капельмейстером церкви Сан-Джакомо-дельи-Инкурабили[114] в центре города; ему было тогда всего 18 лет. Годом позже датировано первое упоминание о нём как композиторе: в 1679 г. община братьев Святого Креста заказала Скарлатти ораторию. Эта община устраивала торжественные музыкальные собрания в молельне Святейшего Распятия[115] и, по отзыву одного путешественника, состояла «из самых знатных людей Рима, которые способны, как следствие, собирать всё самое редкое, что производит Италия»{46}. В документе, свидетельствующем об этом, композитор ласково назван «Scarlattino» – «юный Скарлатти», что говорит о его известности и хорошей репутации в Риме.
Если духовная музыка Скарлатти наследовала возвышенной красоте письма Кариссими, то светская линия его работ, берущая начало тогда же, в юные римские годы, обязана другому влиянию. То была музыка Алессандро Страделлы: тосканца, учившегося в Риме, чья звезда взошла незадолго до приезда в город молодого Скарлатти. Страделла был младше Кариссими на поколение. Проживший краткую жизнь, полную тревог, афёр и скандальных похождений, он быстро уехал из Рима в Венецию, а затем в Геную, где был убит на почве мести. Два композитора немного пересекались лично, однако стиль Страделлы, с его сладостностью и меланхолией, угадывается в кантатах Скарлатти: светских камерных мини-операх, которых он написал несколько сотен.
Кантаты предназначались не для публичного, но для закрытого частного исполнения и украшали музыкальные вечера во дворцах римских патрициев – представителей знатных семей, с которыми Скарлатти начал сотрудничать в те годы. Миниатюрные, с тонкой изящной выделкой, кантаты и есть та «музыка для исполнения в гостиных», о которой пишет Дзамбеккари. В отличие от опер эти сочинения считались музыкальной литературой «не для всех»; они были адресованы просвещённым эрудитам, знатокам и авторам стихов, способным оценить тонкое плетение музыкально-поэтических смыслов. В то же время тот факт, что позже кантаты Скарлатти распространились по Европе в рукописных копиях, говорит об их востребованности и популярности вне стен палаццо их заказчиков.
Именно в домашнем театре увидела свет в том же 1679 г. первая опера Скарлатти: комедия «Недоразумения из-за сходства» на либретто аббата Доменико Филиппо Контини, пастораль с говорящим названием и сюжетом, полным весёлой любовной неразберихи. «Недоразумения» имели грандиозный успех. На представлении присутствовала шведская королева Кристина – заметная фигура римской культурной жизни того времени. Кристина Шведская была уникальной женщиной, последней представительницей династии Васа, дочерью Льва Севера, шведского монарха Густава II Адольфа, страстного сторонника лютеранства. Она унаследовала королевский титул пятилетней девочкой; повзрослев, стала интеллектуалкой и настоящим полиглотом, обладая исключительным умом и совершенно неординарными для женщины XVII в. интересами. Достигнув совершеннолетия, Кристина процарствовала у себя на родине без малого десять лет, а затем отреклась от престола, покинула Швецию и приняла католичество, проведя оставшиеся 33 года жизни в Риме, где она окружила себя людьми искусства и стала одной из самых блистательных и просвещённых меценаток эпохи. Музыка Скарлатти понравилась ей настолько, что через несколько месяцев после премьеры «Недоразумений» 20-летний сицилиец был приглашён капельмейстером в свиту бывшей шведской королевы, где проработал четыре года.
Скарлатти прекрасно понимал, что его гений лежит в области оперной музыки. Состояться в этом качестве в Риме, при всём блеске связей композитора, было сложно: театры считались источниками нравственной скверны и то и дело закрывались папским указом. Из-за профессиональных амбиций и, как пишут иногда, скандальных обстоятельств, которые сложились в Риме вокруг его сестры, Скарлатти принял решение вернуться в Неаполь. Там он пробыл следующие 18 лет – с 1684 по 1702 г., – заняв капельмейстерский пост в свите неаполитанского вице-короля и работая вместе со своим братом Франческо, который служил в той же капелле скрипачом. За следующие пару десятков лет больше половины всех опер, ставившихся в Неаполе, были написаны Скарлатти{47}. Через год после переезда – в 1685-м – родился его шестой сын Доменико, которому предстояло стать одним из главных имён в истории музыки XVIII в. и для последующих поколений, безусловно, затмить отца.
В 1702 г. 42-летний Алессандро Скарлатти решил покинуть Неаполь. Он находился в зените славы: опера тогда была потоковым коммерческим продуктом, успешные композиторы писали их десятками, если не сотнями, и эти сочинения редко перешагивали стены театра и границы города, для которого были предназначены, но работы Скарлатти имели успех и в разных городах Италии, и в Австрии, и в Германии, и даже в Англии, где одна из его опер выдержала 60 представлений в течение девяти лет[116]. Начавшаяся Война за испанское наследство[117], потребительские вкусы неаполитанской публики, которые раздражали Скарлатти, его усталость от конвейера оперной индустрии, систематическая задержка жалованья в капелле – всё это побудило композитора к отъезду. Вначале он поехал во Флоренцию, где надеялся получить для себя и Доменико место при дворе Медичи, а затем, когда предложения не последовало, в Рим, где Скарлатти-старший стал вице-капельмейстером великолепной церкви Санта-Мария-Маджоре[118].
Римские контакты Скарлатти не ослабли за годы его пребывания в Неаполе. Во-первых, он регулярно появлялся в Риме, руководя исполнениями своих работ, а во-вторых, статус патриарха неаполитанской оперной сцены только подстегнул интерес к Скарлатти со стороны его старых патронов – высокопоставленных римских клириков, обожавших оперу. В те годы он пользовался особенным расположением Оттобони: семьи, которую Скарлатти прекрасно знал, руководя музыкой в их дворце – ослепительном Палаццо делла Канчеллерия – ещё за полтора десятка лет до этого. Пьетро Оттобони – кардинал, вице-канцлер Римской церкви, внучатый племянник папы Александра VIII, и другой старый знакомый Скарлатти, кардинал Бенедетто Памфили, чей двоюродный дед был некогда папой Иннокентием X (тем самым, что изображён на портрете Веласкеса), были членами важнейшего литературно-художественного объединения: Аркадской академии, к которой Алессандро Скарлатти присоединился в 1706-м, за год до создания оратории «Первое убийство». Вкусы и деятельность этого интеллектуального кружка определили многое в итальянском искусстве.
Аркадская академия возникла в 1656 г. как Accademia Reale – собрание учёных и литераторов, сложившееся вокруг шведской королевы Кристины. После её смерти, в 1690-м, она стала именоваться Аркадской. Академиями в Италии назывались аристократические интеллектуальные сообщества; одна из ранних – Accademia Platonica – появилась во Флоренции в 1470 г., а к середине следующего, XVI в. на территории Италии было уже около 200 подобных объединений. В академиях рассуждали о литературе, музыке, философии, театре; позже они превратились в придворные культурные институции или подобие творческих гильдий; некоторые – как венецианская Академия неизвестных[119] – имели заметную политическую силу. Именно в таком придворном сообществе во Флоренции чуть более чем за полвека до рождения Алессандро Скарлатти появился экспериментальный театральный жанр: сказочный спектакль с пением, который позже стал именоваться музыкальной драмой, а потом – оперой.
Аркадская академия первоначально считалась литературной, но включение в неё композиторов – Арканджело Корелли[120], Бернардо Пасквини[121], а затем Алессандро Скарлатти – говорит об интересе аркадцев к музыке. Собрания академии были еженедельными; на специальных закрытых концертах, проводившихся состоятельными участниками кружка[122] и называвшихся conversazioni[123], звучали бесчисленные кантаты. Эти работы, из-за своей компактности ставшие идеальным плацдармом для художественных исканий аркадцев, сочинялись одними членами академии на тексты других и исполнялись третьими; conversazioni проходили в роскошной приватной обстановке, с мая по октябрь – на свежем воздухе. Такое идиллическое музицирование в садах, среди цветов и плодовых деревьев, отвечало эстетическим установкам членов академии. Своей главной целью они видели возврат итальянской литературы к высокому вкусу античной традиции, а основной поэтической стихией – пастораль.
Интерес к классической старине ярко вспыхнул в Италии эпохи Ренессанса. Так, идеалами поэтического вкуса виделись аркадцам именно великие имена ренессансной итальянской литературы – Данте и Петрарка. Италия Высокого Возрождения отталкивалась от строгой красоты платоновских идей. Однако с наступлением XVI в., а потом эпохи барокко большую роль начала играть аристотелевская поэтика[124]. Приверженность ей в конечном итоге направила поэтов прочь от античного идеала: стихи затуманились иносказаниями и метафорами, остроумными экивоками и тяжеловесной декоративной образностью: примером «неприемлемого» стиля в Аркадской академии считался капризный, причудливый, насыщенный парадоксами слог барочного поэта Джамбаттисты Марино[125]. Считая Италию легитимной наследницей античной традиции, аркадцы культивировали чувство ответственности за неё и ратовали за возвращение к стройности, лаконизму и элегантности классического стиля.
Театральных текстов всё это касалось наравне с литературными. Требования высокого вкуса и сдержанности предъявлялись членами академии к либретто опер, ораторий и кантат; в сущности, грань между этими жанрами часто размывалась, и материал, к примеру, миниатюрных кантат мог использоваться их авторами в операх. Так, внутри эпохи барокко начал оформляться классицистический взгляд на музыкальный театр. Позже члены академии – Апостоло Дзено[126] и Пьетро Метастазио[127] – радикально реформировали искусство либретто: разделались с ужасами и чудесами, смешением фарсового и возвышенного на сцене, покончили с безудержным хаосом событий, барочным напластованием интриг и случайностей, внезапными развязками, превращениями и небывальщиной, став столпами эстетики seria – классицистической оперы нового типа, воцарившейся на сценах XVIII столетия. Концепция Аркадии – нежной идиллии, обители гармонии и покоя – была так важна для членов академии, что, вступая в сообщество, они даже получали особые «пасторальные» имена. Так, Скарлатти в академии звали Терпандром, по имени легендарного древнегреческого поэта и музыканта, считающегося основателем музыкального искусства Древней Греции.
Conversazioni образовывали насыщенный (хоть и не общедоступный) концертный сезон, соединявший весну – когда звучали пасхальные оратории – и осень, когда открывали двери театры, если они не были запрещены. На рубеже XVII и XVIII вв. в папской столице это, однако, было скорее исключением, чем правилом. Публичные зрелища с музыкой столетиями вызывали недовольство католических властей. В то же время история оперного театра в Риме парадоксальным образом связана именно с частной жизнью влиятельных клириков. Можно сказать, что сочетание прослойки сверхбогатых меценатов (в том числе духовных лиц), с удовольствием тративших деньги на искусство, с постоянными ограничениями общественной театральной жизни сформировало в Риме времён Скарлатти целый пласт музыкальной литературы.
Открытие публичного оперного театра в Риме сильно запоздало в сравнении, например, с Венецией, где коммерческий оперный дом Сан-Кассиано работал с 1637 г. Большинство опер, ставившихся в Риме, были венецианскими, а главный оперный театр – закрытым и частным: в 1623-м, в период понтификата Урбана VIII, в палаццо семьи Барберини (которой и принадлежал папа) был сооружен Teatro delle Quattro Fontane, где состоялись первые римские оперные постановки – чрезвычайно барочные по стилистике, они привели бы в ужас членов (не существовавшей ещё) Аркадской академии множеством внешних эффектов, целой россыпью сторонних персонажей и смешением «высокого» и «низкого» стилей. Первый открытый римский оперный театр, Тординона, должен был распахнуть двери для публики в 1670-м, но папа Климент IX, санкционировавший его постройку, умер. В 1671-м, незадолго до первого приезда молодого Скарлатти в Рим, всё та же Кристина Шведская выступила спонсором открытия театра; он проработал несколько лет и закрылся в 1675-м, когда папа Климент X объявил очередной юбилейный год католической церкви – святой и благочестивый период, на время которого все неподобающие увеселения нужно было прекратить. Планировалось, что театр заработает в 1676-м, но папа Климент Х скончался, а его преемник, Иннокентий XI, решил не открывать театр вообще.
Тординона не работал в течение следующих 15 лет, приняв слушателей только в 1689 г., во время понтификата Александра VIII, папы из семьи Оттобони. По большому счёту, краткое трёхлетнее пребывание Александра VIII у власти было единственным временем на рубеже XVII и XVIII столетий, когда театральная жизнь Рима не подвергалась тем или иным ограничениям. Аркадская академия образовалась именно тогда; театр, однако, проработал меньше десяти лет, и в 1697 г. его разрушили по приказу папы Иннокентия XII. В городе оставался ещё один публичный театр – Карпаника, но в том же 1697 г. ему запретили продавать билеты на представления, а к следующему сезону он ожидаемо разорился. Так, с началом нового, XVIII столетия все общедоступные театры Вечного города были закрыты.
Второй «римский» период Скарлатти начался именно тогда, в 1703-м. В январе этого года в Риме произошло землетрясение, и вдобавок к уже действовавшим запретам папа Климент XI, сообразуясь с обетом, данным во время катаклизма, отменил любые увеселительные общественные собрания, а также запретил празднование карнавала на несколько лет вперёд. Разумеется, всё это никак не касалось частной жизни римского нобилитета[128]: чем строже были внешние запреты, тем наряднее становились постановки за закрытыми дверями семейных дворцов. Декорации заказывались прославленным архитекторам, пели звёздные певцы, которых при необходимости выписывали из-за границы. В сущности являясь оперными, эти представления сохраняли условный камуфляж: сочинения могли обозначаться как оратории, если сюжеты были религиозными или отвлечённо-морализаторскими (музыка, впрочем, оставалась виртуозной, соблазнительной и эффектной). Исключительно популярны были кантаты: между 1704 и 1705 гг. Скарлатти писал их до восьми штук в месяц.
В этих специфических и противоречивых обстоятельствах и появилось «Первое убийство». Именно из-за них эта оратория (жанр, не предполагающий сценического действия, костюмов, бутафории, декораций и проч.) может и, возможно, даже должна быть превращена в спектакль, как это было в 2019 г. в Париже. Формально это священная драма на ветхозаветный сюжет; де-факто же эта работа – самая настоящая опера с шестью персонажами (из них двое – метафизические сущности, а ещё один поёт с того света). Впрочем, первое печатное либретто обозначало её жанр довольно точно: «Духовное развлечение в музыке для шести голосов».
Первоначально слово «оратория» относилось к месту, а не к музыкальному жанру. Ораториями назывались молельные помещения за пределами церквей, где начиная с середины 1500-х католики собирались для неформального богослужения. Пастырские встречи, первоначально организованные Филиппом Нери[129], переросли в большое движение и послужили рождению целого общества ораторианцев; в 1575 г. их деятельность благословил сам папа. Оратории начали сооружаться по всей Италии; молитвенное действо могло варьироваться от простого пения общеизвестных гимнов до замысловатых представлений с развитым сюжетом. Особенностью молитвы ораторианцев был простой, доходчивый, «народный» характер, что может казаться удивительным слушателям, привыкшим к ораториям высокого барокко, превратившимся в величественные религиозные драмы – вроде баховских Страстей или «Мессии»[130] Генделя. История ораториального жанра идёт бок о бок с историей оперы: первой ораторией принято считать «Представление о душе и теле» Эмилио де Кавальери – легендарное сочинение, прозвучавшее в 1600 г., через два года после создания первой оперы[131]. Сам Кавальери был близок флорентийской камерате – интеллектуальному кружку-академии, где родился оперный жанр. Так, разница между оперой и ораторией – светским сказочным спектаклем на мифологический сюжет и духовной мистерией на латыни – была непостоянной и зыбкой. Возвышенная оратория могла менять облик, делая шаг (и даже несколько) в сторону своей обаятельной, яркой, «запретной» мирской сестры.
Сходство с оперой «Первому убийству» придаёт, среди прочего, именно итальянское, а не латинское либретто. Торжественность и строгость, которые сообщаются музыке на языке католической службы, совсем здесь не чувствуются: несчастные братья и их родители разговаривают выразительным поэтическим языком, вложенным в их уста либреттистом – генералом папской армии Антонио Оттобони, в Аркадской академии известным как Энето Эрео. Антонио Оттобони был на 14 лет старше Скарлатти. Он приходился племянником папе Александру VIII, а влиятельный кардинал Пьетро Оттобони, упомянутый выше, был его сыном. Оттобони-старший вступил в Аркадскую академию почти сразу после её образования и стал одним из самых деятельных её участников. Он был подлинным поэтом, в отличие от своего сына Пьетро или кардинала Памфили, которые скорее могли считаться меценатами, чье положение позволяло им писать стихи и платить за то, чтобы их положили на музыку Скарлатти, юный Гендель[132] и другие звёздные композиторы. Всего у Антонио Оттобони – около 250 различных либретто; к двум из четырёх его ораторий написал музыку Алессандро Скарлатти.
На момент создания «Первого убийства» – в 1707 г. – Антонио Оттобони ещё жил в Венеции, часто, однако, навещая сына в Риме, куда он переехал через пару лет. Из-за географической удалённости, оставаясь членом академии, Оттобони был отчасти отключён от её жизни. Возможно, поэтому в его стихах много от стилистики прошлого, XVII в. и презираемого аркадцами барокко. Они искусно сработаны, причудливы, метафоричны; исследователи пишут об их эффектной чувственности, языковых и смысловых парадоксах[133]; некоторые из кантатных текстов Оттобони откровенно комические. Задача либреттиста оратории – в создании драматического текста, который пересказывал бы известные слушателю события, добавив им свежести и увлекательности. Оттобони сочинил необычайно пронзительную, в чём-то – страшную, в чём-то – наивную историю для шести героев: это два брата (Авель – сопрано, Каин – меццо-сопрано), их родители (Адам – тенор, Ева – сопрано) и два незримых героя: голос Бога и голос дьявола (лучезарный контратенор и густой бас).
Разумеется, разделение на контратенора, сопрано и меццо-сопрано абсолютно условно и имеет смысл только сегодня, когда эти партии могут петь как мужчины (специализирующиеся на барочном репертуаре и владеющие высоким регистром; в этом случае голос называется контратенором), так и женщины (сопрано). Важнее просто, что из шести персонажей оратории четверо поют высокими голосами. Премьера «Первого убийства» состоялась в Венеции[134], а позже оратория была триумфально повторена в римской резиденции Оттобони, Палаццо делла Канчеллерия. По крайней мере, на этом втором представлении в Риме все партии, рассчитанные на высокие голоса, наверняка исполняли кастраты. Отчасти это было связано с запретом на артистическую деятельность женщин. Но лишь отчасти; певцы-кастраты были символом, элитой и главной движущей силой барочной оперы, а их уникальные голоса, в которых сочетались сила и гибкость, ровность и мягкость, сверхъестественная подвижность и сияние «ангельского» высокого регистра, послужили складыванию звукового идеала итальянского бельканто[135].






